"Муха-Цокотуха", Корней Чуковский
Писатель Татьяна Толстая на днях где-то нашла, отфейсбучила и получила бешеную кучу “лайков” за вот такой прекрасный диалог между поэтом Чуковским и художником Конашевичем:
К.Чуковский: «Эти рисунки — великолепны. Но они — не ваш потолок… Иногда мне чудится в них что-то ровненькое, что-то равнодушненькое…»
В. Конашевич: «Я знаю, что делаю паршивенькие рисунки. Но мне казалось, в них бывало одно достоинство: они хорошо сочетались с Вашими стихами».
Я припомнил некоторое количество стихов Чуковского, реанимировал свои былые раздумья над их качеством и решил потщательней разобрать одно хрестоматийное стихотворение.
Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
“Цокотуха” – вероятно, издающая цокот, производящая цоканье. Словарь Ушакова вот что сообщает нам:
1. ЦО́КАНЬЕ, цоканья, мн. нет, ср. (линг.). Особенность русских северных говоров - произношение звука "ц" на месте "ч" литературного языка или смешение этих звуков в одном, в отличие от чоканья (линг.).
ЦО́КАНЬЕ, цоканья, мн. нет, ср. Звук, получающийся при ударе чем-нибудь, преим. металлическим, о камень. Цоканье копыт по мостовой. Цоканье пуль.
Вряд ли муха способна на подобные действия, таким образом, ее прозвище представляется вдумчивому читателю как минимум нелогичным.
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Почему на поле валялась денежка? Причем достаточная для того, чтобы впоследствии купить на эту сумму аж целый самовар? Денежки обычно, если и валяются где-то, то уж точно не на полях... впрочем, тут мы придираться сильно не будем и оставим автору право на небольшие сюжетные и смысловые натяжки.
Пошла Муха на базар
И купила самовар:
Дважды за четыре строки употребленное слово “пошла” – ну, это уже свидетельство явной бедности языка.
Задумаемся: почему Муха пошла, а не полетела? Вряд ли ей удалось достаточно быстро передвигаться пешком для того, чтобы попасть с поля на базар в тот же день.
“Базар” и “самовар” – неточная рифма.
"Приходите, тараканы,
Я вас чаем угощу!"
Эта, характерная и для прочих стихотворений Чуковского вставка не находит зарифмованного подтверждения.
Тараканы прибегали,
Все стаканы выпивали,
Можно выпить весь чай, с крайней степенью допустимости можно выпить все стаканы чая, но выпить все стаканы – так по-русски не выражаются.
“Прибегали” и “выпивали” – снова рифма, не выдерживающая критики.
А букашки –
По три чашки
С молоком
И крендельком:
Нынче Муха-Цокотуха
Именинница!
Неожиданный и ничем не объяснимый поворот сюжета! С чего это муха вдруг стала именинницей? До того читателю сообщают лишь о случайной находке, а вовсе не о грядущих именинах. И, интересно, в честь какой святой – ведь именины – это как раз и есть празднование дня памяти – эта муха была названа Мухой? Нет такой святой.
Приходили к Мухе блошки,
Приносили ей сапожки,
А сапожки не простые –
В них застежки золотые.
Не может быть застежек В сапожках. Они могут быть только НА них.
Приходила к Мухе
Бабушка-пчела,
Мухе-Цокотухе
Меду принесла...
Пчела (да, и опять же, почему она “приходила” – она бы, скорее, прилетела?) ну никак не может приходиться бабушкой мухе, поскольку они относятся к разным семействам. Муха – род насекомых семейства “Настоящие мухи” (Muscidae). А пчела (она ж Anthophila) — это секция в надсемействе Apoidea.
Всё, чтобы не надоедать читателю, прекращаю свою занудную критику! Сами критически дочитывайте.
"Бабочка-красавица.
Кушайте варенье!
Или вам не нравится
Наше угощенье?"
Вдруг какой-то старичок
Паучок
Нашу Муху в уголок
Поволок –
Хочет бедную убить,
Цокотуху погубить!
"Дорогие гости, помогите!
Паука-злодея зарубите!
И кормила я вас,
И поила я вас,
Не покиньте меня
В мой последний час!"
Но жуки-червяки
Испугалися,
По углам, по щелям
Разбежалися:
Тараканы
Под диваны,
А козявочки
Под лавочки,
А букашки под кровать –
Не желают воевать!
И никто даже с места
Не сдвинется:
Пропадай-погибай,
Именинница!
А кузнечик, а кузнечик,
Ну, совсем как человечек,
Скок, скок, скок, скок!
За кусток,
Под мосток
И молчок!
Нет, не могу остановиться! Почему это кузнечик скачет, как человечек? Человечки, если и скачут, то уж совсем непохоже на кузнечиков.
А злодей-то не шутит,
Руки-ноги он Мухе верёвками крутит,
Зубы острые в самое сердце вонзает
И кровь у неё выпивает.
Муха должна была умереть после вонзания острых зубов в ее сердце и выпивания ее крови. Хотя заметим, что зубов как таковых у пауков не имеется. Однако, Муха парадоксальным образом выживает и...
Муха криком кричит,
Надрывается,
А злодей молчит,
Ухмыляется.
Вдруг откуда-то летит
Маленький Комарик,
И в руке его горит
Маленький фонарик.
"Где убийца, где злодей?
Не боюсь его когтей!"
Подлетает к Пауку,
Саблю вынимает
И ему на всём скаку
Голову срубает!
Где, как и на чем скакал Комарик?
Муху за руку берёт
И к окошечку ведёт:
"Я злодея зарубил,
Я тебя освободил
И теперь, душа-девица,
На тебе хочу жениться!"
Муху – и “за руку”? Откуда у мухи руки?
Тут букашки и козявки
Выползают из-под лавки:
"Слава, слава Комару –
Победителю!"
Прибегали светляки,
Зажигали огоньки –
То-то стало весело,
То-то хорошо!
Эй, сороконожки,
Бегите по дорожке,
Зовите музыкантов,
Будем танцевать!
Музыканты прибежали,
В барабаны застучали.
Бом! бом! бом! бом!
Пляшет Муха с Комаром.
А за нею Клоп, Клоп
Сапогами топ, топ!
Козявочки с червяками,
Букашечки с мотыльками.
А жуки рогатые,
Мужики богатые,
Шапочками машут,
С бабочками пляшут.
Тара-ра, тара-ра,
Заплясала мошкара.
Веселится народ –
Муха замуж идёт
За лихого, удалого,
Молодого Комара!
Муравей, Муравей!
Не жалеет лаптей –
С Муравьихою попрыгивает
И букашечкам подмигивает:
"Вы букашечки,
Вы милашечки,
Тара-тара-тара-тара-таракашечки!"
Сапоги скрипят,
Каблуки стучат –
Будет, будет мошкара
Веселиться до утра:
Нынче Муха-Цокотуха
Именинница!
Эх, напоследок: мошкара – это крайне мелкие летающие насекомые. То есть, ни жуки, ни червяки, ни муравьи, ни уж тем более Муха и Комар веселиться, получается, не будут...
Но, вопреки всем этим неувязочкам – волшебнейшим каким-то образом стотыщ поколений читали и, уверен, будут читать своим деткам странные стихи с дурацкими сюжетами, неустойчивым ритмом и небрежными рифмами. Почему? Нет ответа.
Стихи эти, вероятно, сочиненные чуть ли не на ходу, левой, что называется, ногой, со всеми своими “непростительными” недостатками, трогают и гипнотически завораживают. Как именно это вышло у Чуковского – кто его знает, тут рецепты не работают.
Я, конечно же, нагуглил дополнительно замечательных пикировочных эпистол:
Чуковский — Конашевичу: «Снова порадовался, что черт или бог связал нас одной веревочкой… Благодаря Вам я почувствовал себя неплохим литератором…».
Из письма Чуковскому: «Сделал наново Федорино горе, Бармалея, а сегодня весь день рисовал англицские песенки:
А за скрюченным столом,
Кто такой-таковский?
Пишет скрюченным пером,
Скрюченный … - никак не могу придумать слова.
Придумайте сами, пожалуйста!».
А вот тут можно увидеть всю книжку с картинками Конашевича.

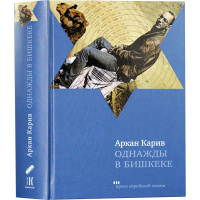


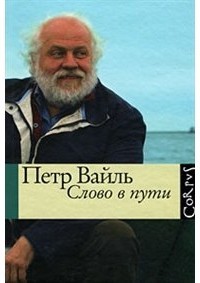
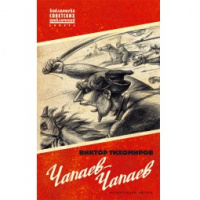
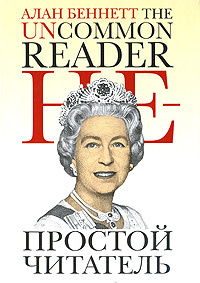

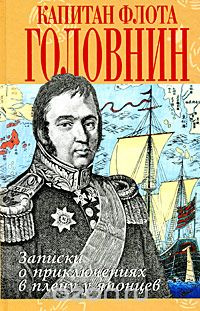




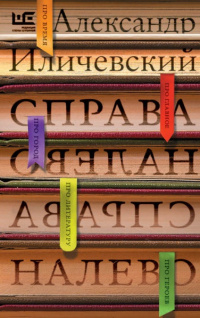



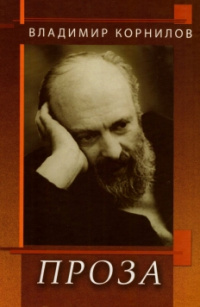
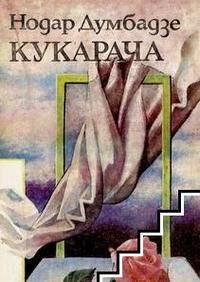
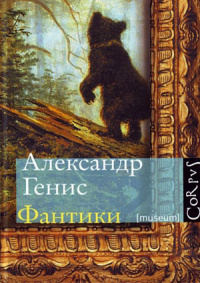
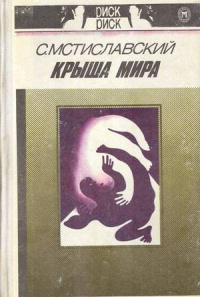





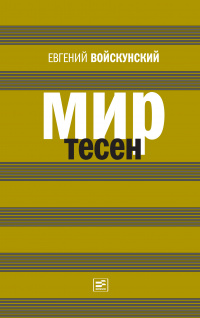




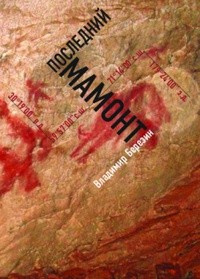

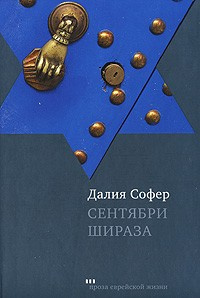
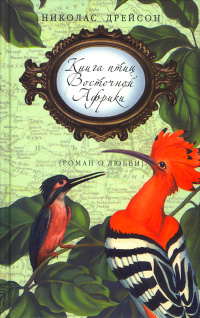
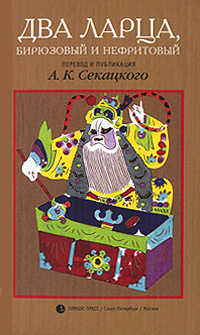
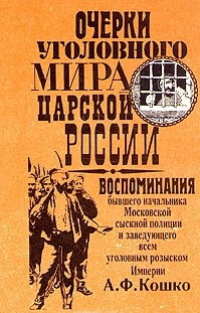


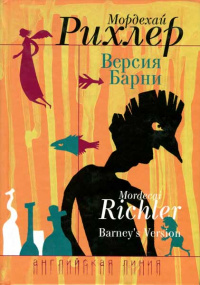
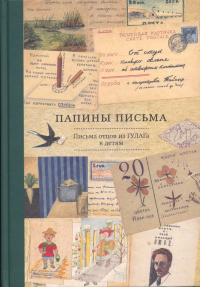
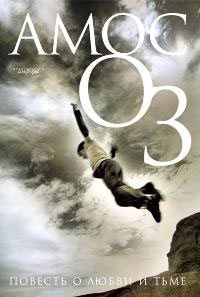




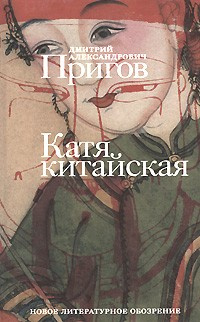
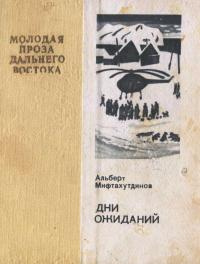
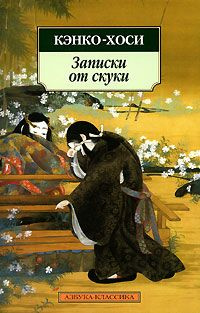
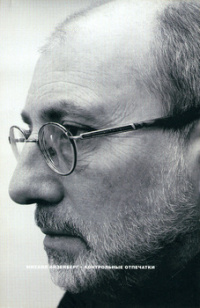


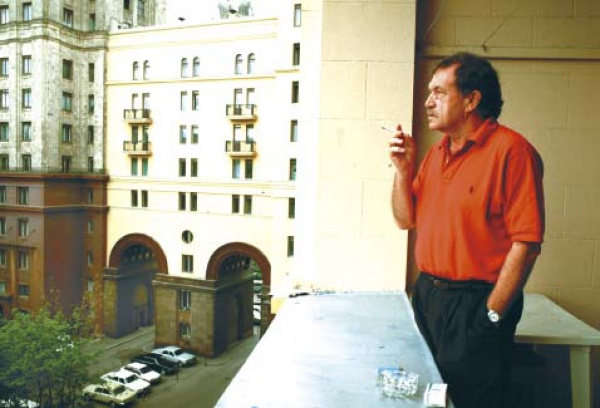
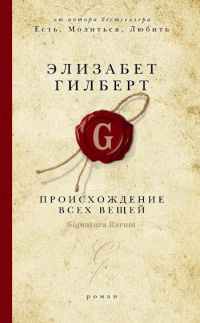

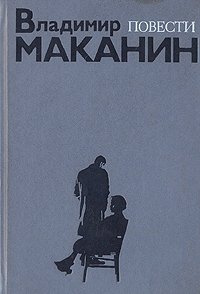







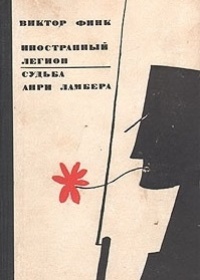

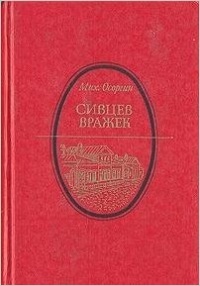


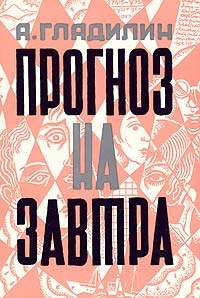




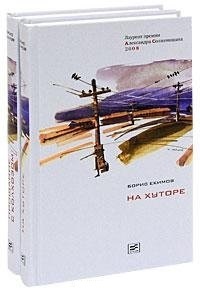

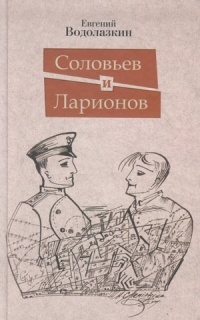
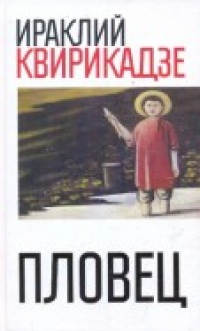

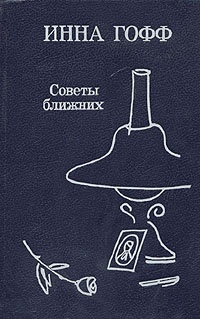
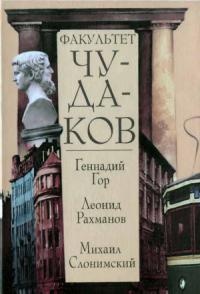
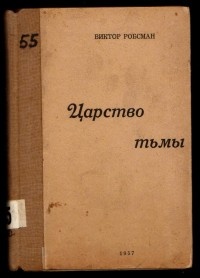





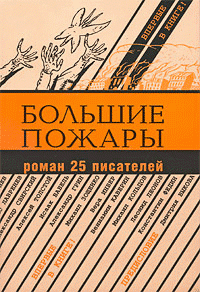

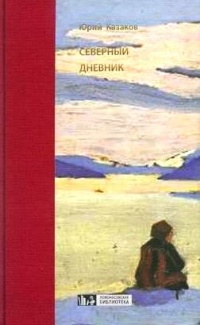
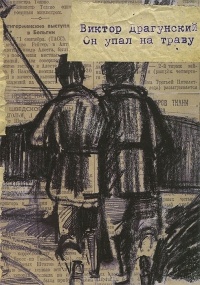

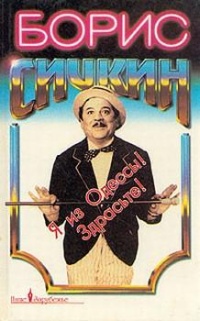
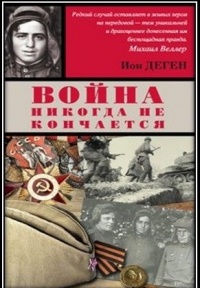
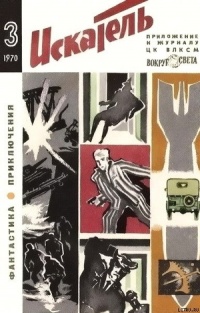










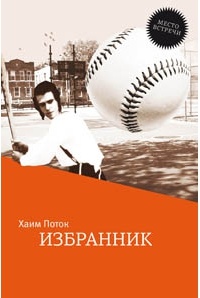
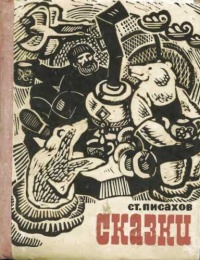










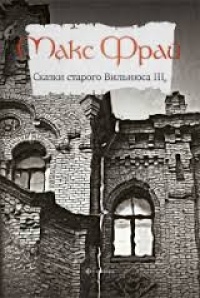
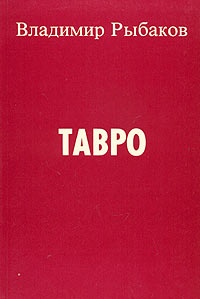
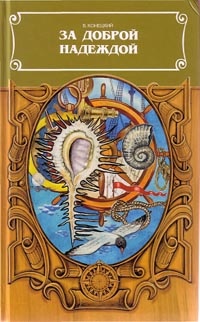

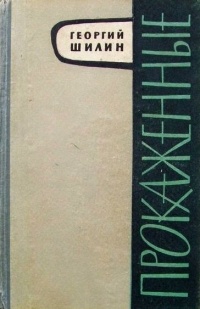

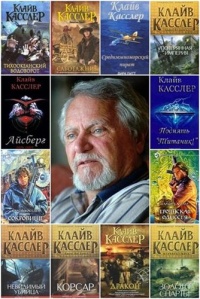


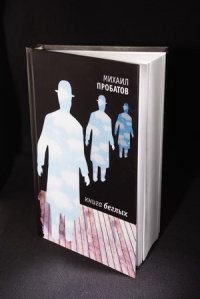
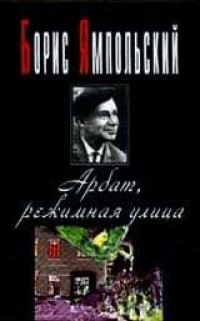



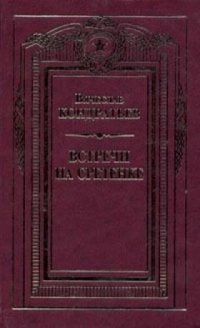

 Мое детское прошлое, к примеру, обошлось без войны, без голода, без репрессий, да и вообще как-то без особенных потрясений. То есть, довольно безоблачное и достаточно типовое советское детство у меня было, как и у большей части моих ровесников, кто родился и жил не в депрессивно-промышленной провинции, не в голодной деревне, не имел пьющих и бьющих родителей, а жил себе в большом городе и относился к среднему классу (хотя тогда такого понятия и не существовало). Но если бы я взялся писать мемуары, то наверняка вспомнил бы некоторое количество неприятных моментов, да и превалирующую погоду окружавшей меня жизни с высоты своего опыта расценил бы все-таки не как безоблачную, а, скорее, как скучновато-серовато-мутновато-туманную. Но без грозовых фронтов и всяких там шквалистых тайфунов.
Мое детское прошлое, к примеру, обошлось без войны, без голода, без репрессий, да и вообще как-то без особенных потрясений. То есть, довольно безоблачное и достаточно типовое советское детство у меня было, как и у большей части моих ровесников, кто родился и жил не в депрессивно-промышленной провинции, не в голодной деревне, не имел пьющих и бьющих родителей, а жил себе в большом городе и относился к среднему классу (хотя тогда такого понятия и не существовало). Но если бы я взялся писать мемуары, то наверняка вспомнил бы некоторое количество неприятных моментов, да и превалирующую погоду окружавшей меня жизни с высоты своего опыта расценил бы все-таки не как безоблачную, а, скорее, как скучновато-серовато-мутновато-туманную. Но без грозовых фронтов и всяких там шквалистых тайфунов. Когда в детстве читаешь книжки про всякие приключения, то естественным образом примеряешь себя на место главных (или не очень главных героев): хочется скакать по прериям, прорубаться сквозь джунгли, биться насмерть в доспехах, летать в облаках, покорять вершины, преодолевать препоны, бороздить океаны и добывать сокровища. Короче, ассоциируешь себя с описываемыми персонажами.
Когда в детстве читаешь книжки про всякие приключения, то естественным образом примеряешь себя на место главных (или не очень главных героев): хочется скакать по прериям, прорубаться сквозь джунгли, биться насмерть в доспехах, летать в облаках, покорять вершины, преодолевать препоны, бороздить океаны и добывать сокровища. Короче, ассоциируешь себя с описываемыми персонажами. 
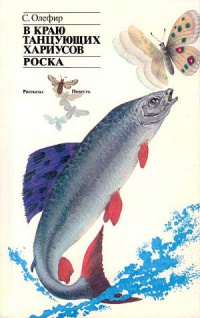
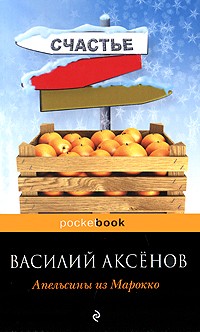 Что-то как-то меня вдруг рвануло перечитать того докарнавального Аксенова, который еще не внедрял никаких волшебностей в свою прозу, а просто рассказывал про жизнь крутых чуваков, которых романтическая струя затянула в такие задницы советского мира, куда, казалось бы, не могли затянуть ни гигантские зарплаты, ни обещания квартир на “материке”, а вот необыкновенность грозящих им трудностей – таки справилась с этой задачей. И ведь не назовешь это неправдой жизни – в те времена более чем полувековой давности считалось шикарным провести полгода на сейнере, который ловит сайру – и, если честно, автору веришь настолько, что и сам бы, вроде, не прочь эту сайру был бы половить (не сейчас, а в 1962 году, распределившись после института). И чтобы в том же шестьдесят втором после рейса зайти в “столовую ресторанного типа”, заказать пару бутылок чечено-ингушского коньяку, по две порции котлет на брата, а потом выйти из столовой и решить, что дальнедальневосточный поселок похож на город Гагры, только вот напрочь заледенел. И потанцевать охота под рентгеновский снимок, придавленный фужером (потому что коробится иначе). С девушкой, которая приносит с собой туфли, а добирается до столовой в валенках. И на тебе толстый свитер и жидковатая борода, и вообще ты занят важным делом (когда не танцуешь под рентген): ты ищешь нефть, ловишь рыбу, гоняешь на вездеходе, в свободное время пишешь плохие наивные стихи, а то и поешь их под гитару. И все у тебя еще будет, и девушка будет – не эта, так другая, но тоже хорошая, и нефть найдется, и рыба наловится, а впереди такое счастье с легким коммунистическим уклоном, что мало ну никак не покажется. Тем более что в поселок завезли апельсины. То есть, жизнь налаживается.
Что-то как-то меня вдруг рвануло перечитать того докарнавального Аксенова, который еще не внедрял никаких волшебностей в свою прозу, а просто рассказывал про жизнь крутых чуваков, которых романтическая струя затянула в такие задницы советского мира, куда, казалось бы, не могли затянуть ни гигантские зарплаты, ни обещания квартир на “материке”, а вот необыкновенность грозящих им трудностей – таки справилась с этой задачей. И ведь не назовешь это неправдой жизни – в те времена более чем полувековой давности считалось шикарным провести полгода на сейнере, который ловит сайру – и, если честно, автору веришь настолько, что и сам бы, вроде, не прочь эту сайру был бы половить (не сейчас, а в 1962 году, распределившись после института). И чтобы в том же шестьдесят втором после рейса зайти в “столовую ресторанного типа”, заказать пару бутылок чечено-ингушского коньяку, по две порции котлет на брата, а потом выйти из столовой и решить, что дальнедальневосточный поселок похож на город Гагры, только вот напрочь заледенел. И потанцевать охота под рентгеновский снимок, придавленный фужером (потому что коробится иначе). С девушкой, которая приносит с собой туфли, а добирается до столовой в валенках. И на тебе толстый свитер и жидковатая борода, и вообще ты занят важным делом (когда не танцуешь под рентген): ты ищешь нефть, ловишь рыбу, гоняешь на вездеходе, в свободное время пишешь плохие наивные стихи, а то и поешь их под гитару. И все у тебя еще будет, и девушка будет – не эта, так другая, но тоже хорошая, и нефть найдется, и рыба наловится, а впереди такое счастье с легким коммунистическим уклоном, что мало ну никак не покажется. Тем более что в поселок завезли апельсины. То есть, жизнь налаживается.


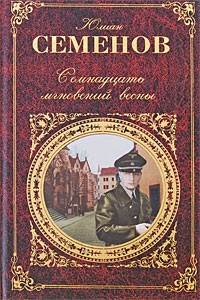
 Бешено
популярный в семидесятые-восьмидесятые прошлого века писатель нынче
незаслуженно подзабыт. Хотя роман “Архив” был пепереиздан в 2013 году, а
в 2012 вышла в свет чудесная повесть “Нюма, Самвел и собачка Точка” (о
которой можно было бы поговорить, но она совершенно вне рамок того
жанра, о котором мне хочется рассказывать).
Бешено
популярный в семидесятые-восьмидесятые прошлого века писатель нынче
незаслуженно подзабыт. Хотя роман “Архив” был пепереиздан в 2013 году, а
в 2012 вышла в свет чудесная повесть “Нюма, Самвел и собачка Точка” (о
которой можно было бы поговорить, но она совершенно вне рамок того
жанра, о котором мне хочется рассказывать). Исаак
Моисеевич Фильштинский (1918-2013), ученый-арабист, “отмотал” на зоне с
сорок девятого по пятьдесят пятый непонятно за что (как тогда было
принято), вышел, реабилитировался, написал и перевел много книжек по
своей главной специальности и написал одну книжку не по специальности
– про то, как сидел.
Исаак
Моисеевич Фильштинский (1918-2013), ученый-арабист, “отмотал” на зоне с
сорок девятого по пятьдесят пятый непонятно за что (как тогда было
принято), вышел, реабилитировался, написал и перевел много книжек по
своей главной специальности и написал одну книжку не по специальности
– про то, как сидел. Нынешнему
молодому читателю (если таковой вообще покуда водится) писатель Крон
вряд ли известен (впрочем, похожими словами я начинаю каждый второй
рассказ о букинизмах), а читателю более преклонных годов писатель Крон
был известен, скорее всего, тремя своими книгами: повестью “Капитан
дальнего плавания” – довольно плоской, хоть и про героического человека
– подводника Александра Маринеско; очень хорошим, хоть и достаточно
типичным для своего времени романом из жизни ученого – “Бессонница” – и
вот этой вот прекрасной книжкой: “Дом и корабль”. Хотя, подозреваю, неофициально она могла быть не очень высоко оценена в 1964 году,
когда в моде среди тогдашних высоколобых эстетов были несколько иные
темы – типа “физиков-лириков” (читай роман “Бессонница”).
Нынешнему
молодому читателю (если таковой вообще покуда водится) писатель Крон
вряд ли известен (впрочем, похожими словами я начинаю каждый второй
рассказ о букинизмах), а читателю более преклонных годов писатель Крон
был известен, скорее всего, тремя своими книгами: повестью “Капитан
дальнего плавания” – довольно плоской, хоть и про героического человека
– подводника Александра Маринеско; очень хорошим, хоть и достаточно
типичным для своего времени романом из жизни ученого – “Бессонница” – и
вот этой вот прекрасной книжкой: “Дом и корабль”. Хотя, подозреваю, неофициально она могла быть не очень высоко оценена в 1964 году,
когда в моде среди тогдашних высоколобых эстетов были несколько иные
темы – типа “физиков-лириков” (читай роман “Бессонница”).