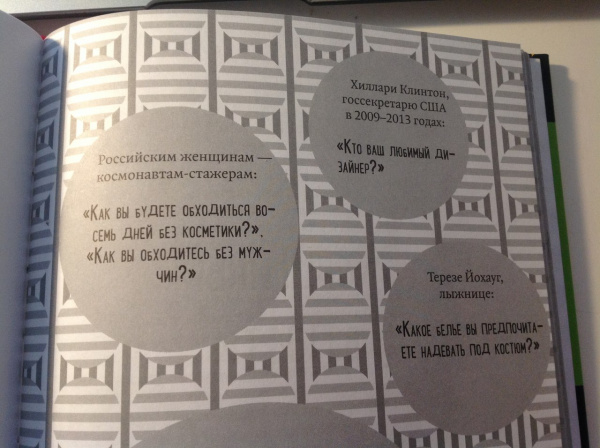"Writing Across the Landscape: Travel Journals 1960-2013", Лоренс Ферлингетти

Этот том — куски путевых дневников ЛФ разных лет, хотя сам он, насколько я понимаю, регулярно дневников не вел. Скажу сразу — это проза высочайшей марки сама по себе, не говоря о том, что у ЛФ — примерно идеальный способ и стиль записи дорожных впечатлений. В такой сиюминутности — поистине великая литература. А ездил ЛФ активно всю свою жизнь, можно даже сказать — одержимо ездил. Т.е. по сути он тоже вечно стоял на дороге, был в пути, куда-то двигался. Если его младший коллега Керуак сделал довольно громкую литературу из своего, по сути, стремления к спокойной жизни (потому что именно оно срывало его с места и куда-то швыряло), то Ферлингетти, напротив, делал литературу спокойную и незаметную, но не менее точную, тонкую и пронзительную из своего как раз нежелания сидеть на месте, но от этого не был меньше «битником» (а то был им и гораздо больше). Вот такая разнонаправленная перипатетика лежала в основе «движения» и стиля.
Но для нас самое занимательное, конечно, — его знакомство с советскими поэтами «официальной диссиды» и заезд в Советский Союз. Началось все в июне 1965-го на поэтическом фестивале в Сполето, Италия, куда поначалу отказался ехать Евтушенко: там должен был выступать Эзра Паунд, а Евтух по-прежнему считал Паунда «фашистом» (ну или его так научили). Однако все-таки приехал — на дипломатическом лимузине. Быстренько выступил, пока не появился Паунд, и уехал. Ферлингетти после этого выступления окрестил его «дискоболом из Московии», а то, что Евтух ни с кем на фестивале не стал общаться, Лоренса слегка ошарашило: ведь зачем еще нужны такие фестивали, считал он, если не для того, чтобы интеллектуалы разных стран могли свободно общаться друг с другом. Наивный идеалист…
Потом они довольно часто общались, ибо Евтух был выездной и умел говорить немного по-английски, по-испански и по-итальянски. Бухали преимущественно. Евтух чморил в разговорах Вознесенского за то, что тот предпочитает «темные стаканы» (чтобы не было видно, сколько и чего у него налито; Вознесенский, говорил он, не пьет, а он не любит тех, кто не пьет), а осенью 1966 года в Сан-Франциско ходил в «бары с сиськами» специально посмотреть на «капиталистический декаданс».
Вершиной общения ЛФ с АВ же был, понятно, 1966 год, когда Ферлингетти выступил соустроителем поэтических читок АВ в «Филлморе» — по просьбе самого Воза (так его называет ЛФ), гостившего в Беркли у какой-то профессуры). Это тот самый гиг, афиши которого мы знаем: там выступали «Джефферсон Эйрплейн». Только вечер едва оказался не сорван: Воз не знал, что такое «Дж. Э.», и зассал — звонил ЛФ и говорил, что никаких музыкантов, «только ты и я, Лоренс». Тому пришлось бедного успокаивать, говоря, что бэнд будет рубиться вторым отделением. Воз смилостивился и «Джефферсонов» разрешил. Читка прошла успешно, пишет ЛФ, собралось где-то 1500 человек (хоть половина и пришла только музыку послушать), и Воз с психоделическим роком как-то примирился (хотя все не сорвалось еще раз, когда перед началом показывали слайд-шоу, которое закончилось большим изображением Будды; тут-то наш дерзкий поэт опять зассал и сказал ЛФ буквально то же самое: «только ты и я, Лоренс, никакого Будды»; Будду перед их выходом на сцену погасили). Примирился-то примирился (они как раз разогревались в соседней с ним гримерке), да только из всего выступления с танцами оценил только световое шоу — до того, что даже пошел разговаривать с оператором этой светомузыки на балкон. И вот прикиньте, 66-й год, Самолет Джефферсона взлетает со страшной силой, «Филлмор» уже стал культовым местом, а Воз пырится на светомузыку и потом говорит Ферлингетти, что «воссоздаст эту сцену в одном московском театре». На что Ферл недоуменно отреагировал: интересно, где он в Москве добудет рок?
В общем, Вознесенский вел себя как образцовый советский гражданин за границей, соответствовал правилам, и его, в общем, можно понять. Его американские издатели очень боялись отпускать его одного в Сан-Франциско: думали, он там спутается с битниками и начнет принимать с ними наркотики. Ферлингетти это очень веселило: 66-й год на дворе, все битники, которые выжили, давно переехали в Нью-Йорк, а кушать наркотики им уже здоровье не позволяет. Вознесенскому за ту читку в «Филлморе» заплатили 300 долларов (Ферлингетти — 100).
Ферлингетти хотя пишет об их общении, конечно, без всякого снобизма насчет таких «встреч двух миров»: все он отлично понимал про положение такой «официальной диссиды» в Совке. Но оценивает обоих откровенно и очень трезво, вплоть до нелицеприятности. Вознесенского, к примеру, он не считал гениальным поэтом, а поэзия обоих — «не революционна», в его понимании, разве что «Бабий Яр» у Евтушенко, а академична и популярна в СССР лишь из-за общей застойности литературы и мышления, эдакий буквально «глоток свежего воздуха» (да, он сам использует этот оборот). ЛФ никого, понятно, не судит, но все подмечает.
Вот, например, сидят и разговаривают они об издании поэзии: «Красные кошаки», антология трех советских поэтов, Евтуха, Воза и Семена Кирсанова, вышла в «Городских огнях» тиражом 500 экз., что, как мы сейчас понимаем, нормально для поэзии хуй знает кого в переводе (первых переводчиков, кстати, упрекали за то, что они советских поэтов «обитнили»; поэтам денег не заплатили, потому что «не нашли», кому — СССР не подписал тогда еще Конвенцию, и самих битников переводили и издавали кое-где за железным занавесом невозбранно и бог знает как). «Вой» Гинзбёрга — 100 тысяч, это был понятно почему хит и бестселлер. ЛФ все это ему излагает, Воз выдержал паузу, после чего сказал: «А у моей следующей книги тираж 300 тысяч». И для наглядности нарисовал цифру. Ферлингетти на это ответил только: «Но тебя же государство издает».
Отмечает он и разницу в восприятии и презентации поэзии: традиции декламировать стихи в Штатах не было — со сцены их только читали. А Воз и Евтух свои декламировали героически. У битников устная традиция была, конечно, выражена, ярче, чем у поэтов академических, но битники не принимали при этом никаких героических поз. И наконец главное: советские поэты, как справедливо замечает Ферлингетти, не посылают свое правительство недвусмысленно нахуй. Так что какая уж тут, к псам, революционность. И это его замечание до сих пор дорогого стоит.
Ну и вишенка: февраль 1967 года, путешествие Ферлингетти по Транссибу. Из Находки он должен был плыть на «Байкале» в Ёкохаму, но оказалось, что у него нет японской визы: в западногерманском «Интуристе», откуда они с приятелем бронировали все путешествие, не сказали, что она нужна, типично. Поэтому, проехав неделю по зимней Сибири, ЛФ застрял не где-нибудь, а в Находке, где заболел так, что даже боялся, что его в Находке и похоронят. Оказалось — грипп, и американского поэта покатали ночью по находкинским больницам. В больничке он пролежал трое суток, потом пытался попасть на японский сухогруз, потому что советским судам японские власти запретили ввозить американцев без виз (почему — хз, американцы тогда и контингент-то свой до конца из Японии еще не вывели). В общем, февраль в Находке, как мы знаем, не подарок: городок уныл и депрессивен, везде пользуются счетами и стоят в очередях. Счастья нет. Пока ЛФ ждал оказии, которую ему пытался спроворить некий переводчик-кореец, — познакомился с администратором ресторана гостиницы «Интурист» Анной Гордеевной, она ему вербу на столик поставила (умерла уже поди, ей и тогда-то было на вид лет 55). Кабак гостиницы он вообще описывает препотешно, особенно — оркестр и танцы публики. АГ его даже в кино сводила, судя по описанию, они посмотрели нетленный фильм «Их знали только в лицо».
Но в Находке, в общем, японского консульства тогда еще не было, поэтому ЛФ пришлось ехать поездом в Хабару, а оттуда самолетом обратно в Москву. Изматерился страшно: «10 дней, которые потрясли Ферлингетти», как он это называл. Зато обратно в город на букву Х он ехал дневным поездом со всеми остановками и оценил красоты Приморья в начале марта: говорит на Калифорнию похоже. По ходу очень недоумевал привычке русских, не говорящих по-английски, повторять фразу громче, чтобы американец понял, а потом ее же записывать. В находкинской больнице читал единственную книгу на английском, которая была в городе, — роман Толстого «Воскресение», а в поезде читал «Сказки об Италии» Горького и счел их сентиментальной байдой; вообще пришел к выводу, что русские живут в другом мире, отстающем на 35 лет. В итоге — вывод о пустоте и бессмысленности обычной советской жизни. В Москву он летел на странном четырехмоторном пассажирском самолете с купе (были такие? кто знает?) А из Западного Берлина в Москву у него был обычный самолет, но без всего, как он говорит, даже без кислородных масок, и напоминал собой самолеты в Штатах в начале 50-х. Зато кормили икрой и белым вином.
Среди прочего прекрасного выяснилось, что город на букву Х он-таки воспел, как и положено поэту. Его русское стихотворение «Москва в глуши — Сеговия в снегу»-то все знают, наверное, (вот тут кусок в странном переводе Петра Вегина), а тут вот оно что:
РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ В ХАБАРОВСКЕ ИЛИ ГДЕ УГОДНО
Один роскошный бульвар с деревьями
с одним роскошным кафе на солнышке
с крепким черным кофе в очень маленьких чашках
Один не обязательно очень красивый
мужчина или женщина кто тебя любит
Один прекрасный день
Кстати сказать, ипохондрия его все ему подпортила: он потом думал также, что его похоронят в Хабаровске, который на обратном пути уже не показался ему таким счастливым местом.