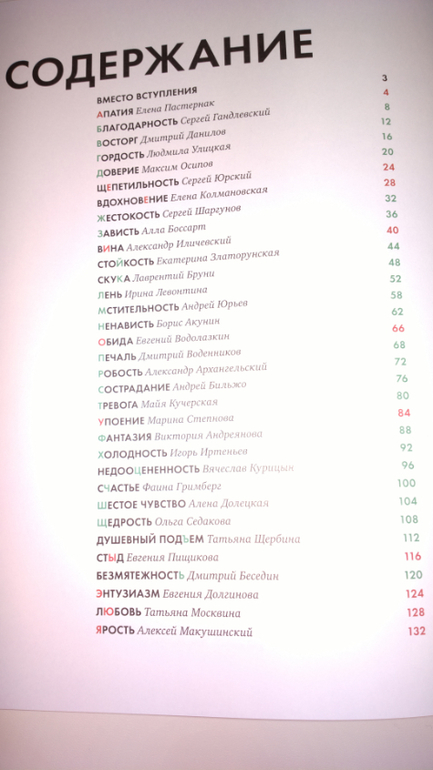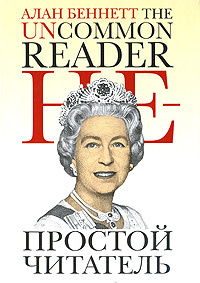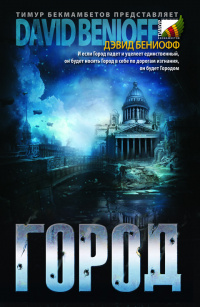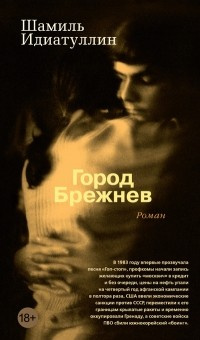«Ленин: пантократор солнечных пылинок», Лев Данилкин

Здорово это Данилкин придумал — хочешь не хочешь, а в год
100-летия октябрьского переворота прочтешь, а то и на премию какую номинируешь. Пересборка культурного
кода здесь у него идет вовсю — для «нового поколения», как он сам прикрывается в конце, с
применением узнаваемых обломков тэгов, не очень тонкого пикселирования и
иконописи, как на обложке. Так что никого особо не обманули — это, конечно, не
биография, а квест лично автора, фанфик такой.
Написано бойко, местами — плохо, местами забавно и
познавательно, местами прямо-таки смешно (не гонзо-журналистика, конечно, но
наследие стиля Лукича присутствует, как присутствует оно в культурной
журналистике, например, С. Г. Гурьева, чьими полноправными наследниками можно считать
все данилкинское поколение «младотурков»). Автор — явный левак (это
чувствуется, даже не зная о нем ничего), шутник и фигляр, неким манером старающийся
не столько оживить фигуру вождя пролетариата (уж чего ее оживлять — она и
теперь живее всех живых, как известно), сколько оправдать саму идею революции. С
прибаутками и анекдотами, корча рожи и показывая фокусы, что служит добротным
эдьютейнментом, добавляет книге развлекательной ценности, с тетрисом из
аналогий, сравнений, сопоставлений, понятным нашему современнику в 10-х годах. Не
он первый, понятно, не он и последний (хотя некоторый флер настающих «последних
времен» здесь чувствуется) — и его ЖЗЛ-ка устареет, не успеет закончиться это
десятилетие. Такой вот ревизионист, бойко владеющий пером журнального писаки, —
и уж во всяком случае это вполне конгруэнтно самой описываемой фигуре, ритору и
демагогу с характерным ленинским прищуром и с поправкой на фильтры Инстаграма. И
это в данном случае — не комплимент.
Про википедичность знания автора, трудолюбиво и усидчиво
растянутого почти на 800 страниц, нагляднее всего говорит чепуха про т. н. «заговор
послов» и Большую игру — оно ничем особенным не отличается от общего знания (прямо
скажем — неверного) и «партийной линии», даже не систематизировано никаким иным
способом. Но то, что Данилкин не особо отходит от этой самой генеральной линии,
привычной нам, становится отдельно понятно под конец, когда задаешься вопросом:
а что же нам все-таки рассказали? И понимаешь, что все это вполне укладывается в «Краткий
курс истории КПСС», включая даже «революционную» догадку о том, что «политическое
завещание» Ленина наполовину сфальсифицировано Крупской. Да ладно — нам
примерно это же рассказывали еще чуть ли не на уроках истории.
В общем, получилась эдакая глянцеватая версия поп-истории,
поскольку к понимаю фигуры и эпохи текст этот мало что добавляет (разве что
пару-другую анекдотов, закопанных в недра чьих-нибудь воспоминаний, да
пару-другую параллелей с нынешним строем — прямым, как мы видим, наследником
предшествовавших строёв). Один из фокусов автора, например, — фигура умолчания,
что при такой раздрызганной, псевдопостмодернистской манере изложения проделать
вполне легко (даже следить за руками особенно не приходится). Вот автор
сообщает, что в марксизме Ленин нашел «сугубо научное» объяснение примерно
всего. Сугубая же научность марксизма не подтверждается ни единым словом — да,
мы прекрасно знаем, что марксизм действительно претендует на «всеобщую теорию
всего» и уподобляется пресловутому дышлу — куда повернешь, туда и поедет. Сам же
Ленин нас этому учил — а вот с его «научностью» неувязочка, как и с научностью
любой, в принципе, философской теории. Нам ли не знать. Учение Маркса известно
почему всесильно. И этот софизм нашим автором принимается как аксиома, а если
вы скажете, что в задачи автора не входило так подробно разбирать основы
марксизма, я вас отправлю к соответствующим страницам, где Данилкин до тошноты
дотошен в том, что касается, например, другого -изма — махизма.
Нет, популяризатор-то он неплохой на своем уровне, да и
чувствуется, насколько весело ему самому было в этом копаться (а если это
иллюзия, то как раз она автору вполне удалась). Весельем этим читателя он
вполне способен заразить (недаром книжка заканчивается своей последней строкой,
чур не подглядывать — это не спортивно) — вся революция и подготовка к ней у
него выглядят эдаким опасным приключением, в духе советской беллетристики про каких-нибудь
Камо или Баумана.
И тут я как читатель об двух, что называется, умах. С одной
стороны, тем, кому марксизм со всей своей диалектикой в зубах навязли с
детства, дают разлечься за счет школьно-университетской программы. Это,
наверное, неплохо — и уж, конечно, ощущается странновато. С другой стороны,
разумеется, «не-забудем-не-простим» и все вот это вот, но Данилкин, как бы мы к
этому ни относились, по-прежнему осуществляет старый марксистский принцип, подтверждением
чему тоже служит последняя строка: «Человечество, смеясь, расстается со своим
прошлым». Ведь, если вдуматься, только так и можно избыть в себе свинцовые
мерзости нашей истории (и школьной программы). Так что, как ни верти, а выходит
как-то правильно. Такое вот дышло.
Один из пунктов респекта и уважухи автору: последовательное
(хоть и фрагментарное, вполне верхоглядское, по реперным точкам) изложение
генезиса идей. Нам вдалбливали основы, отталкиваясь от fait accompli (в 70-80-х ничто,
как говорится, не предвещало): революция свершилась и у нас сейчас все хорошо,
вся власть у советов, жить стало лучше и гораздо веселей, стало быть, у Лукича
был в голове гениальный генеральный план, только всякие гады ему мешали. Данилкин
же как может показывает, что это не так — плана, в общем, не было (кроме «универсальной
теории всего», допустим), а точек бифуркации и зрения в происходившем было
столько, что потеряться на сквозняках истории — как нефиг делать, и наш
бронепоезд (тм) в любой момент мог пойти по совершенно другим рельсам. Или оказаться
не нашим бронепоездом. Или вообще не бронепоездом. И вот в такой
последовательности изложения таки больше, как мне видится, правды, чем в любых
курсах истории КПСС. Такова, насколько я понимаю, и была задача стряхивания с ПСС пыли веков.
Хотя и Данилкина, как видно, оправдание революции подводит к
легитимизации советского строя как неизбежности. Ленин у него сам служит этой
данности, а ничто не может быть дальше от исторической истины, чем этот тезис —
особенно в регионах и на национальных окраинах, в колониях. Представлять историю
исключительно как череду узлов би- или полифуркации, конечно, наивно, хотя и
для автора, и для его героя последующие события, по большей части, служат
подтверждением «правильности» ленинской мысли в каждый момент времени (несмотря на глухие обмолвки в духе: да, за то-то и то-то можно упрекнуть, но так это же время такое было). Хотя мы
понимаем, что решения все же обосновываются и диктуются не последующими
результатами, а чем-то другим, более, скажем так, сиюминутным. До функционирования в виконианско-джойсовском
пространстве мы все же еще не доросли. При переходе к Коминтерну у Данилкина вообще в
голосе начинает звучать прямо-таки дугинское евразийство с оправданием
имперских амбиций Лукича и их идеологической неизбежности. Он даже Украину
привязывает к исконной русскости (с наложением бинтов советизации), хотя, как
мы знаем, у титульной укронации на этот счет может быть совершенно другое
мнение (а откуда есть — и пить — пошла земля русская, там ни слова не говорится, так что не надо вот этого). Вообще с национальным (и колониальным) вопросом в книге Данилкина все
по-прежнему непросто, хотя казалось бы.
Применив ту же ленинско-данилкинскую методику, легко понять,
что на долгом пробеге эксперимент все же провалился: советская империя,
перезапущенная большевиками из российской со всеми ее идеологическими колониями
через 70 с небольшим лет все же наебнулась, поэтому приходится признать, что
эксперимент оказался все же напрасен, с каких бы позиций его теперь ни
оправдывали и ни легитимизировали. История, конечно, не знает сослагательного
наклонения, но и гениальных решений или универсальных рецептов, применимых даже
ко всей виконианской спирали, она тоже не знает. Фарс, в виде которого она порой
повторяется, — все ж не трагедия. Мир в результате этого эксперимента изменился
на ничтожно малый промежуток времени (хотя успел-таки изуродовать мозги нескольким
поколениями на 1/6 части суши). Теперь все идет, как оно, в общем, и шло, даже ярлыки
вульгарной социологии и экономики не слишком поменялись. Так же обречены,
предполагаю, будут и попытки реставрации империи — тем паче на этих жидких
идеологических щах нынешней клептократии.
Ленинская прошивка у нас в головах неизбежно (и это — единственная в
данном контексте данность, я бы решил) расползлась, и никакие попытки сметать
ее даже на такую живенькую нитку, как у Данилкина, с хорошей точностью не
удадутся. Но есть одно но — «творчество народных масс»: какая хтонь у них в
головах, мы, по-прежнему «страшно далекие от народа», можем представлять себе лишь
крайне примерно. Так что «Пантократор» нам рисует более-менее верную картинку:
дело Ленина у нас до сих пор известно чем занимается. И от этого — тут автор,
конечно, прав — по-прежнему никуда не деться.

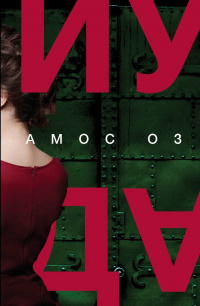





 Непрерывно, каждый миг каждый человек испытывает какие-то эмоции. Многие из них мы не осознаем и еще у части не знаем даже
Непрерывно, каждый миг каждый человек испытывает какие-то эмоции. Многие из них мы не осознаем и еще у части не знаем даже