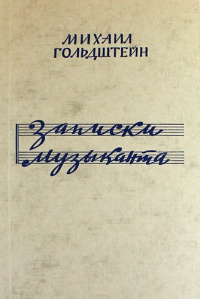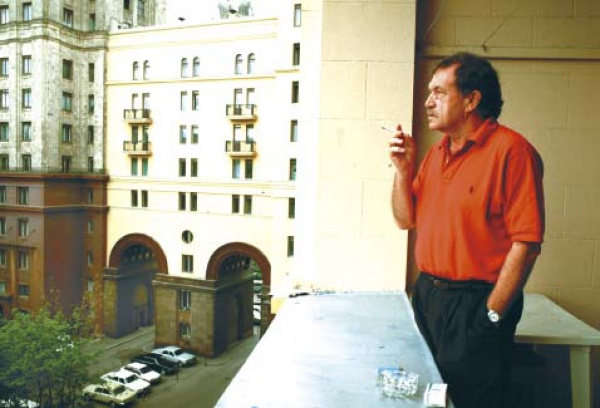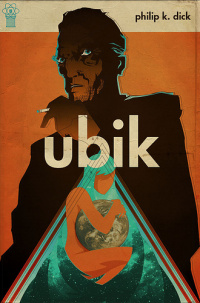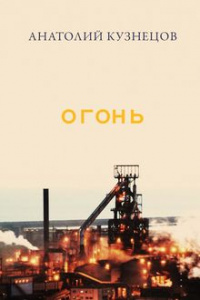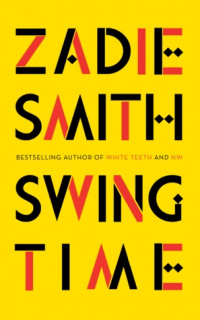Александр Яшин, "Лирика"

Итак, я
снова хочу поговорить про стишки и вообще тексты, которые выходят
из-под контроля их авторов, и про официальную поэзию, которая порой
только притворялась официальной, ну и вообще про жизнь. Досталась мне
тут книжка советского поэта Александра Яшина, родившегося в 1913 году в
крестьянской семье, деревенского учителя, лауреата Сталинской премии, в
«Википедии» написано – представителя течения «социалистический реализм».
В общем, обладателя совершенно правильной биографии. И вот читаю я его
книжку, и вдруг, среди прочего, там встречается стихотворение «Сосна»:
С головы зелена,
Стволом красна,
Высока, стройна
Растет сосна.
Как невеста на выданье,
На большом пиру, –
Лучшей не видно
Во всем бору.
Иглами вышили
Неба треть.
Всем она вышла –
Любо смотреть!
Каких только ягод
Нет под сосной!
Здесь белка-летяга
Гостит весной,
Здесь тетерев грузный
Бруснику ест,
Здесь влажные грузди,
Маслята есть.
Здесь все для соленья,
И все для варенья –
Хоть целым селеньем
Живи, ночуй!
А мох для оленя –
Ешь, не хочу!
Сколько же дереву
От роду лет?
А столько лет,
Что и счету нет.
Но топор сечет,
И вот он – счет.
Стихотворение датировано 1939 годом, и это, конечно, придает ему
дополнительные смыслы (которых, возможно, поэт в них не вкладывал –
хотя, черт его знает, что он там вкладывал в 1939-м). Для меня это ведь – совершенно ясный
пример того, как произведение, будучи написанным, выходит из повиновения
и начинает жить собственной жизнью, приобретая дополнительные смыслы и
так далее. И еще про контекст тут можно много проговорить.
Ну и, в общем, читаю я дальше этого представителя
направления «социалистический реализм», и встречаю вот такое еще,
«Железные балки», тоже 1939 года:
Устал или болен, не знаю, но трудно,
трудно дышать, не закрыв глаза:
яркие краски душу таранят,
песни любимые надоели,
встречи с любимой не веселят.
Глаза закрою – изводит грохот,
он нарастает со всех сторон,
кажется, взяли тебя с постели,
словно цыпленка из-под наседки,
и просто швырнули на тротуар.
А то еще хуже, еще нелепей:
вообразите вдруг, что в окно
с улицы, с ходу,
гремя на стыках,
стекла дробя,
не один – с прицепом
прямо в комнату прет трамвай.
Нет, не житье в коммунальной квартире, -
странно, что так назвали ее, -
свары, наветы…
И это коммуна?
До полуночи ругань на кухне,
и за столом мне покоя нет.
Голову ломит,
дрожат колени,
если бы мне побыть одному:
выключить радио на неделю,
дверь – на крючок,
не двери – записку:
«Выбыл…» -
и жить, как барсу к в норе.
…Полноте, что со мною случится!
Нет ни безверия, ни обид,
даже не болен,
устал – и только,
как устают железные балки
от беспрерывного топота ног.
Нормально? Книжка, кстати, из которой я все это брал, была издана в
1979 году – в самый расцвет, так сказать, – в издательстве «Советская
Россия». Уже после смерти автора – Яшин умер в 1968 году от рака. В
«Википедии» я прочитал, что после смерти Сталина он, Яшин, повинился:
дескать, чувствует и свою вину за то, что литература (он имеет в виду
официальную литературу, тот самый «социалистический реализм) сталинской
эпохи была неискренней и так далее. И еще он, уже после марта 1953-го,
писал рассказы, которые практически не публиковали – они были
опубликованы только после смерти Яшина, во времена перестройки, - теперь
очень хочу их почитать. Что-то мне подсказывает, что они должны быть
крутыми. А я, между тем, продолжаю читать книжку стихов – насколько я
понимаю, самое большое его собрание. И вот такое встречаю (во время
войны Яшин был военным корреспондентом, уйдя на фронт добровольцем),
называется «Обстрел», 1942 года (Яшин участвовал в обороне Ленинграда):
Снаряд упал на берегу Невы,
Швырнув осколки и волну взрывную
В чугунную резьбу,
На мостовую.
С подъезда ошарашенные львы
По улице метнулись врассыпную.
Другой снаряд ударил в особняк —
Атланты грохнулись у тротуара;
Над грудой пламя вздыбилось, как флаг,
Труба печная подняла кулак,
Грозя врагам неотвратимой карой.
Еще один — в сугробы, на бульвар,
И снег, как магний, вспыхнул за оградой
Откуда-то свалился самовар.
Над темной башней занялся пожар
Опять пожар!
И снова вой снаряда.
Куда влетит очередной, крутясь?..
Враги из дальнобойных бьют орудий.
Смятенья в нашем городе не будет:
Шарахаются бронзовые люди,
Живой проходит, не оборотясь.
Очень сильное, мне кажется – и что-то выделяет его из официально поэзии
времен блокады, а что – не могу пока сформулировать, что-то на уровне
ощущений. Ну и вот, едем дальше – стихотворение «Переходные вопросы»,
посвященное Константину Паустовскому, 1966 года (Яшин уже болел и знал
об этом):
А в чём моя вера?
Опора?
Основа?
Кого для примера
Брать –
Снова Толстого?
С ружьём зачехлённым
Без дела до осени
Томлюсь,
Окружённый
Пустыми вопросами,
Конечно, проклятыми,
Конечно, немодными,
Давно - бородатыми,
И всё - переходными.
«Любить своих ближних?
Трубить славу жизни?..»
А если не любится?
А если не трубится?
«О слабых заботиться?
За сильных тревожиться?..»
А если не хочется?
А если не можется?
А если в судьбе у меня бездорожица?
Не новую повесть
В душе перетрясываю:
«А может быть, совесть
Понятье внеклассовое?
А может, всё пошлое,
Фальшивое,
Грошевое,
Продажность
И ложь
Не назовёшь
Пережитками прошлого?»
Какой мерой мерится
Моя несуразица?
И в бога не верится,
И с чёртом не ладится.
И, заключительным аккордом, стихотворение «Мы были молоды», 1967 года – к пятидесятилетию, блин, Великого Октября:
В голоде,
В холоде,
В городе
Вологде
Жили мы весело -
Были мы молоды.
Я со своей богоданной
Ровесницей
Под деревянной
Под жактовской лестницей.
В крошке сторожке,
В сарае ли - помните?
Нам-то казалось:
В отдельной комнате.
Были мы молоды,
Не запасливы:
В голоде, в холоде -
Всё-таки счастливы.
Крови давление,
Сердца биение
Были нормальными
На удивление.
Как чудесами,
Кичились крылечками,
Да туесами,
Да русскими печками.
Окна в узорах,
Кровли с подкрылками,
Охлупни в небе
С коньками,
С кобылками.
Не горевали,
Что рядом на площади,
С сеном, с дровами
Тонули лошади.
Мы колеи бутили
Поленьями,
Мы тротуары мостили
Каменьями.
И терпеливы были
И сметливы,
Неприхотливы,
Непривередливы.
Как нам любилось!
Как улыбалось!
Самое-самое
Близким казалось.
Не на «Победах»
И «Волгах» - где уж там! -
На велосипедах
Катали девушек.
И у Матрёшек
Вместо серёжек -
Серпы и молоты,
А вместо брошек -
Значки наколоты:
Ценилось не золото, -
Мы были молоды!
Что нам мохнатые
Бобры и пыжики?
Гордились ребята
Будёновкой рыженькой.
Не было крова
Под флагом
Сутяге.
Честное слово
Равнялось присяге.
В голоде,
В холоде
Жили мы в Вологде.
Но были молоды,
Вот как молоды!
Ах, до чего же
Глупы и молоды!
Такой простой советский поэт с чистым и ясным лицом, «социалистический
реалист» Александр Яшин (настоящая фамилия – Попов, псевдоним взял в
честь отца) жил-поживал, добра особо не наживал, умер в Москве,
похоронен в родном селе Блудново, и кто о нем теперь помнит. А вон, поди
ж ты.





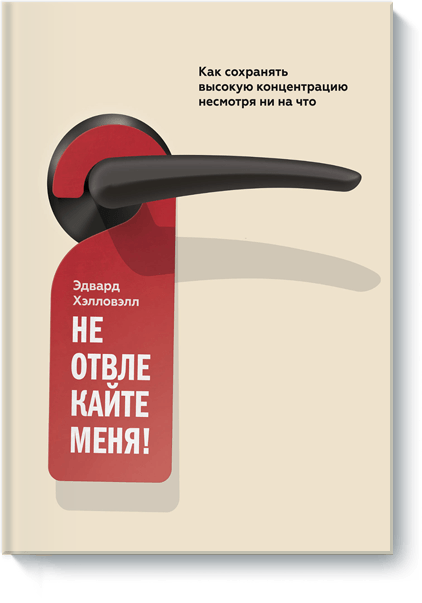 Никакого клипового мышления у нас, конечно, нет, если мы сидим на берегу озера у костра, валяемся в гамаке или смотрим в глаза любимому человеку.
Никакого клипового мышления у нас, конечно, нет, если мы сидим на берегу озера у костра, валяемся в гамаке или смотрим в глаза любимому человеку.