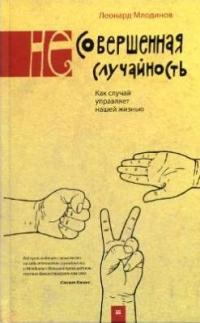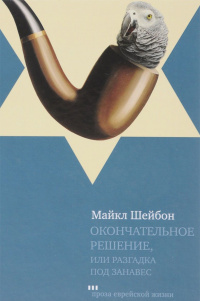"(Не)совершенная случайность", Леонард Млодинов
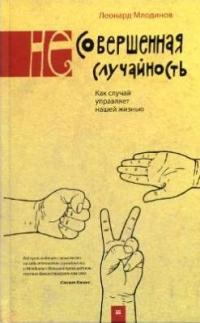 Однажды давным-давно, примерно классе в 6ом, я ездила в экспедицию, где нужно было заниматься по 4 пары каждый день, ну и факультативы (например, по мату), палатки-песни-костры-побеги. Целый месяц. И почему-то нам, гуманитарному факультету, поставили класс по терверу. Его-то я и завалила, и поэтому больше не ездила. И тервер ненавижу. Но оказывается, теория вероятности (и невероятности) отлично применима в житейских обстоятельствах, да еще и достаточно интересная штука.
Однажды давным-давно, примерно классе в 6ом, я ездила в экспедицию, где нужно было заниматься по 4 пары каждый день, ну и факультативы (например, по мату), палатки-песни-костры-побеги. Целый месяц. И почему-то нам, гуманитарному факультету, поставили класс по терверу. Его-то я и завалила, и поэтому больше не ездила. И тервер ненавижу. Но оказывается, теория вероятности (и невероятности) отлично применима в житейских обстоятельствах, да еще и достаточно интересная штука.
Нате вот, приобщитесь!
История 1, про похвалу
Знаете лауреата Нобелевской премии по экономике –
Дэниэла Канемана? В середине 1960-х гг. Канеман доказывал, что
поощрение примерного поведения имеет смысл, а наказание за ошибки – нет. Он доверял результатам опытов над животными,
которые свидетельствовали: поощрением можно добиться большего, нежели
наказанием. Он стал размышлять над этим явным парадоксом. И открыл феномен «регрессии к
среднем»: в любом ряду случайных событий за событием из
ряда вон выходящим скорее всего и по чистой случайности последует
событие ординарное. Механизм таков. Каждый пилот более-мене умеет управлять самолетом. В процессе тренировок мастерство пилотов
медленно растет, но за один полет многого они не добьются. И любой
особенно удачный или неудачный полет будет зависеть в большой степени от
везения. Так что если пилот посадил машину идеально, что называется,
прыгнул выше своей головы, велика вероятность, что следующий полет у
него пройдет на уровне гораздо ближе к его личной норме, то есть
неважно. Если инструктор после первого полета своего подопечного хвалил,
результаты следующего вылета докажут, что похвала будто бы не пошла на
пользу.
Когда мы рассматриваем невероятный успех, будь то в спорте или где
еще, необходимо помнить о следующем: необычные события могут происходить
без необычных тому причин. Случайные события часто выглядят как
неслучайные, и, истолковывая все, что связано счеловеком, нужно быть
осторожным – не спутать одно с другим.
История 2, про воспоминания
Чего в английском языке больше: слов из шести букв, пятая из которых n, или слов из шести букв, имеющих окончание -ing? Большинство считают, что слов с окончанием -ing
больше. Потому что такие слова быстрее приходят на ум.
Психологи называют подобный тип ошибок тенденцией оценивать вероятность
по наличию примеров: реконструируя прошлое, мы отдаем ничем не
оправданное предпочтение тем воспоминаниям, которые отличаются
наибольшей живостью и, следовательно, быстрее всплывают в памяти. А так не надо.
История 3, про двери и машину
Знаете эту жуткую викторину
Монти Холла: «Предположим, участники телевикторины должны выбрать одну
из трех дверей. За одной дверью находится машина, за двумя другими – по
козе. Участник выбирает дверь, а ведущий, которому известно, что
находится за каждой из дверей, открывает одну из оставшихся, за которой
коза. Затем он говорит участнику: «Итак, вы смените дверь или останетесь
на месте?» Вопрос в следующем: выгодно ли участнику сменить дверь?
Да.
Итак. Вы выбрали дверь 1. В таком случае пространство элементарных
событий представлено следующими тремя возможными исходами:
- «Мазерати» за дверью 1
- «Мазерати» за дверью 2
- «Мазерати» за дверью 3
Вероятность каждого исхода – 1 из 3, то есть шансы угадать равны 1 из 3.
Ведущий, открывает одну дверь из не выбранных вами, и оказывается, что за дверью коза. Чтобы не отдать вам тачку, ведущий использовал свои знания о том, что за какой дверью, поэтому данный процесс нельзя назвать случайным в
прямом смысле этого слова. Существуют два варианта, которые стоит
обдумать.
Первый – вы изначально делаете правильный выбор. Назовем такой случай
«счастливой догадкой». Ведущий наугад откроет либо дверь 2, либо дверь
3, и если вы предпочтете сменить свою дверь, вы проиграете. В случае
«счастливой догадки» лучше, конечно, не соблазняться предложением
сменить дверь, однако вероятность выпадения «счастливой догадки» равна
всего лишь 1 из 3.
Второй – вы в первый раз указываете не на ту дверь. Назовем такой
случай «ошибочной догадкой». Шансы, что вы не угадаете, равны 2 из 3,
так что «ошибочная погадка» в два раза вероятнее, чем «счастливая
догадка». В «ошибочной
догадке» ведущий вмешивается в то, что раньше могло бы быть случайным
процессом. Так вы оказываетесь в ситуации «ошибочной догадки», и,
следовательно, выигрываете при смене двери и проигрываете, если
отказываетесь сменить ее.
В итоге получается: если вы оказываетесь в ситуации «счастливой
догадки» (вероятность которой 1/3), вы выигрываете при условии, если
остаетесь при своем выборе. Если вы оказываетесь в ситуации «ошибочной
догадки» (вероятность которой 2/3), то под влиянием действий ведущего вы
выигрываете при условии, если меняете первоначальный выбор. Шансы того,
что вы попали в ситуацию «ошибочной догадки», равны 2 к 1, так что
лучше сменить дверь. Вот и статистика телепередачи подтверждает: те, кто
оказывался в подобной ситуации и изменял свое первоначальное решение,
выигрывали примерно в два раза чаще, чем те, кто стоял на своем.
История 4, о законах Божьих
Жил-был Блез
Паскаль.
Паскаль подробно изложил анализ «за» и «против»
моральных обязательств человека перед Богом. Новаторство было в методе
Паскаля, с помощью которого уравнивались «за» и «против» – в наше время
это понятие называется математическим ожиданием. Чтобы сравнить
возможные выгоды и потери. Паскаль предложил умножить вероятность
каждого возможного исхода на его результат и все их сложить, приходя к
среднему или же ожидаемому результату. При умножении пусть даже большой
вероятности, что Бога нет, на небольшую ценность приза получается
величина возможно и большая, но всегда конечная. При умножении любой
конечной, даже очень маленькой, вероятности, что Бог окажет человеку
милость за его добродетельное поведение, на бесконечно большую ценность
приза получается бесконечно большая величина. Паскаль осознавал:
результат этих вычислений бесконечен, так что ожидаемый выигрыш от
добродетельного поведения бесконечно положителен. Таким образом, Паскаль
заключал: любой разумный человек будет следовать законам божьим. В наше
время это утверждение известно как «пари Паскаля».
История 5, о том, что количество имеет значение
Чтобы работа из области теории случайности могла быть применена в
реальном мире, необходимо задуматься над следующим вопросом: какова
связь между неявными вероятностями и наблюдаемыми результатами? Что подразумевается, когда врач говорит:
лекарство в 70% эффективно, в 1% случаев влечет за собой серьезные
побочные эффекты? Или что при опросе выясняется, что кандидата поддерживают
36% избирателей?
Якоб Бернулли принял за очевидное то, что мы вполне оправданно ожидаем: с
увеличением числа попыток наблюдаемые периодичности с большей или
меньшей точностью отразят неявные вероятности. Та-даммм: теорема Бернулли или закон больших чисел. Наша ошибка в том, что часто мы предполагаем, что выборка или серия испытаний является
репрезентативной, когда на самом деле она слишком малочисленна, чтобы
быть надежной.
Превратное представление – или ошибочное интуитивное чутье –
относительно того, что небольшая выборка точно отразит неявные
вероятности, настолько распространено, что Канеман и Тверский дали ему
название: закон малых чисел. На самом деле закон малых чисел – вовсе не
закон. Это ироничное название, описывающее ошибочную попытку применить
закон больших чисел в том случае, когда на самом деле числа не являются
большими.
Еще одно ошибочное понятие, связанное с законом больших чисел,
состоит в следующем: событие произойдет с большей или меньшей
вероятностью по той причине, что за последнее время оно происходило или
не происходило. Представление о том, что шансы на событие с постоянной
вероятностью возрастают или снижаются в зависимости от того, имело ли
событие место в недавнем прошлом, называется заблуждением игрока.
История 6, о ложных вероятностях
Вероятность того,
что случайно выбранный человек окажется психически больным, и
вероятность того, что случайно выбранный человек утверждает, будто жена
читает его мысли, весьма низки, однако вероятность того, что человек
психически болен, если он утверждает, будто жена читает его мысли, уже
гораздо выше, как и вероятность того, что человек утверждает, будто жена
читает его мысли, если при этом он психически болен. Как все эти
вероятности связаны между собой? Ответ следует искать в области условных
вероятностей.
На вероятность влияет тот факт, что событие произойдет, если или при
условии, что произойдут другие события. В этом и заключается теория
Байеса. Она говорит о следующем: вероятность того, что А
произойдет, если произойдет В, обычно отличается от вероятности того,
что В произойдет, если произойдет А.
Если Форд знает, что у 1 из 100 его машин неисправна трансмиссия, при
помощи «золотой теоремы» vожно узнать вероятность того, что в партии из
1000 машин 10 или более трансмиссий будут неисправными, однако если Форд
обнаружит 10 неисправных трансмиссий в выборке из 1000 машин, данный
факт не сообщит автомобильной компании вероятность того, что среднее
арифметическое неисправных трансмиссий равно 1 из 100. В жизни наиболее
частой из данных примеров оказывается вторая постановка задачи: вне
ситуации, связанной с азартными играми, мы обычно не обладаем
теоретическими знаниями шансов, скорее нам приходится вычислять их,
основываясь на серии наблюдений. Я специально выделил это различие –
ввиду его важности. Оно определяет существенную разницу между вероятностью и статистикой:
первая имеет дело с прогнозами на основе определенных вероятностей;
последняя связана с заключениями на основе вероятностей, выведенных
посредством серии наблюдений.
История 7, о кривизне
Числам всегда приписывается особый вес. Рассуждение строится примерно
так: если учитель оценивает сочинение по стобалльной шкале, эти
незначительные различия и в самом деле что-то значат. Но если десять
издателей сочли, что рукопись первого тома «Гарри Поттера» не
заслуживает публикации, то каким образом бедная учительница проводит тонкое различение между двумя
школьными сочинениями, ставя за одно 92 балла, а за другое 93? Если мы
допускаем, что качество сочинения в принципе поддается определению, то
нам придется признать, что оценка – не описание качества сочинения, но
его измерение, а измерение, как ничто другое, подвержено
случайности. В случае с сочинением измерительный инструмент – учитель, а
в выставляемых им оценках, как и в любом измерении, проявляются
случайная дисперсия и ошибки.
Один из парадоксов нашем жизни
заключается в том, что хотя измерения всегда несут в себе некоторую
погрешность, когда речь заходит об измерениях, реже всего говорят именно
о погрешности.
Как правило, при проведении опросов предел погрешности выше 5%
считается недопустимым, однако в повседневной жизни мы основываем свои
суждения на значительно меньшем количестве наблюдений. Разве найдешь
человека, который 100 лет играет в профессиональный баскетбол, вложил
деньги в 100 многоквартирных жилых домов или основал 100 компаний,
выпускающих шоколадное печенье? Так что, когда мы делаем выводы об
успешности этих людей, мы берем за основу лишь незначительное число
наблюдений. Сталкиваясь с успехом или с неудачей, мы имеем дело лишь с
одним наблюдением, с одной из множества точек колоколообразной кривой (Гауссовая кривая),
отображающей все наблюдавшиеся ранее возможности. И мы не знаем, что
представляет собой это наблюдение – среднее или явный выброс, событие, в
котором можно быть абсолютно уверенным, или редкий случай, который едва
ли повторится.
Истории о не-хаосе
Когда в XIX в. ученые начали разбираться в ставшей доступной
социологической информации, куда бы они ни посмотрели, всюду им виделась
одна и та же картина: хаос жизни превращался в измеримые и
предсказуемые структуры. Но поразили ученых вовсе не одни лишь
закономерности. Их поразила природа варьирования. Они обнаружили, что
очень часто социологические данные подчиняются принципу нормального
распределения.
Адольф Кетле наткнулся на полезное открытие: характер
распределения случайностей настолько надежен, что в определенных
социологических данных его искажение может быть воспринято как
свидетельство правонарушения. Кетле не ставил перед собой цели найти
применение своим идеям в судебных расследованиях. Он метил выше:
разобраться с помощью принципа нормального распределения в природе людей
и общества. Он утверждал: если разнообразие физических признаков у
людей подчиняется все тому же закону, напрашивается вывод: мы
представляем собой несовершенные копии прообраза. Кетле назвал этот
прообраз l‘homme moyen, то есть «средний человек». Тем не менее в математических изысканиях Кетле оказалось больше
смысла, нежели в изысканиях социальной физики.
Статистический анализ в биологии применил двоюродный брат Чарльза
Дарвина Фрэнсис Гальтон. Он измерял характерные особенности отпечатков
пальцев – потом, в 1901 г., эту практику распознавания по отпечаткам
пальцев взяли на вооружение в Скотленд-Ярде. Он высчитал
продолжительность жизни правителей и священников, которая оказалась
такой же, как и у людей другого положения и рода деятельности, из чего
Гальтон заключил: молитва в этом отношении не дает никаких преимуществ. Исследования
Гальтона в области наследственности привели к открытию феномена, когда группа крайних результатов сопровождается результатами,
которые в среднем менее экстремальны. Гальтон назвал это явление регрессией к среднему.
Исследования в области статистики продолжил Карл Пирсон, ученик
Гальтона. Когда мы имеем дело с ограниченным количеством данных, кривая
нормального распределения совершенной формы никогда не получится. Пирсон изобрел метод, с помощью которого можно определить верность своего
предположения относительно действительного соответствия набора данных
нормальному распределению.
Внес свой вклад в эту область науки и Альберт Эйнштейн,
опубликовав в 1905 г. свою первую работу по относительности. И хотя этот
труд Эйнштейна мало известен массам, в статистической физике он
произвел революцию. И в научной литературе на эту работу Эйнштейна потом
ссылались чаще, чем на любую другую его работу. Работа Эйнштейна 1905 г. по статистической физике имела своей целью
объяснение феномена, называемого броуновским движением (беспорядочного движения
микроскопических частиц в жидкости).
О том, что вы не правы
Люди избирают кратчайший путь и прибегают к помощи воображения, чтобы
заполнить пробелы в данных невизуального характера. Как и в случае с
визуальной информацией, на основании неточных и неполных сведений мы
делаем выводы и приходим к заключению, что наша «картинка» отчетлива и
достоверна.
В какой момент мы примем гипотезу либо откажемся от нее? Это и
выясняется с помощью оценки статистической значимости: формальной
процедуры, позволяющей оценить вероятность того, что наши наблюдения
соответствуют действительности, если данная гипотеза верна. Тем не менее, даже если данные значимы на, скажем, 3%,
тестируя 100 человек, не являющихся экстрасенсами, на наличие
сверхъестественных способностей, вы должны быть готовы к тому, что
несколько человек проявят экстрасенсорные способности.
Канеман и Тверский проанализировали множество методов быстрой оценки
характера данных и принятия решения в условиях неопределенности. Они
назвали такие методы «сокращенными эвристическими процедурами». Эвристические процедуры могут иногда приводить к
систематическим ошибкам, которые Канеман и Тверский назвали «ошибками
предвзятости».
Представьте некую последовательность событий. Это может быть ряд удачных или неудачных свиданий,
организованных сайтом знакомств. Чем длиннее
последовательность, тем выше вероятность, что обнаружится любая закономерность,
какую только можно себе вообразить, причем исключительно случайно.
Компания «Аррlе» столкнулась с подобной проблемой в связи с методом
случайной тасовки, который она изначально применяла в своих плеерах
«iPod»: истинная случайность приводила к повторам, поэтому; когда
пользователи слышали подряд одну и ту же песню или песни одного и того
же певца, они считали, что тасовка дала сбой. Тогда компания сделала эту
функцию «менее случайной, чтобы она воспринималась как более
случайная».
Люди любят контролировать все и вся. Наша страсть контролировать
события имеет под собой основания, поскольку чувство личного контроля
неотделимо от представления о собственной личности и самооценки. Исследование показало: иллюзия контроля над случайными событиями
усиливается, когда дело касается финансов, спорта и особенно бизнеса.
Когда мы находимся во власти иллюзии или когда у нас есть новая идея
(что одно и то же), мы обычно пытаемся найти примеры, подтверждающие, а
не опровергающие ее. Психологи называют это «ошибкой подтверждения», и
она очень мешает освободиться от неверной интерпретации случайных
явлений. Усугубляя положение, мы не только отдаем предпочтение фактам,
подтверждающим наше предвзятое мнение, но еще и интерпретируем в пользу
своих идей явления неоднозначные. Например, если мы прониклись доверием к
какому-нибудь политическому деятелю, то хорошие результаты мы трактуем
как его достижения, а в неудачах виним обстоятельства или соперников.
Стоит лишь
понять: случайные события также могут предстать в виде закономерности.
Следующий важный шаг – научиться подвергать сомнению свои ощущения и
предположения. Наконец, имеет смысл уделять достаточно времени поискам
доказательств собственной неправоты, точно так же, как мы тратим время
на то, чтобы отыскивать доказательства своей правоты
Напоследок о "походке пьяного"
Некоторые ученые придерживались теории, называемой детерминизмом. Применительно к повседневной жизни детерминизм описывает устройство
мира, при котором наши личные качества, проявленные в данной конкретной
ситуации или окружении, прямо и недвусмысленно ведут к точно
определенным последствиям. Иными словами, мир является упорядоченным, в
нем все можно предвидеть, просчитать, предсказать.
Нет.
В 1960-х гг. американский метеоролог Эдвард Лоренц попытался
задействовать новейшую для своих дней технологию (простейший компьютер),
чтобы проверить на практике теорию Лапласа в одной отдельно взятой
области – предсказании погоды. Ничего не вышло, благодаря чему он открыл «эффект бабочки». Эффект
основан на допущении, что даже малейшие изменения в атмосфере,
вызванные, скажем, взмахами крыльев бабочки, в будущем могут оказать
колоссальное влияние на синоптическую ситуацию во всем мире.
«Походка пьяного» – некий архетип. Это настолько
же подходящая модель для описания нашей с вами повседневной жизни,
насколько частички пыльцы в жидкости подходят для описания броуновского
движения: случайные события точно так же подталкивают нас сначала в
одну, потом в другую сторону. И все, что касается наших личных
достижений, работы, друзей, финансового положения, в гораздо большей
степени зависит от случайности, чем думает большинство из нас.
Историки, сделавшие изучение прошлого своей профессией, не менее
настороженно, чем естествоиспытатели, относятся к мысли о том, что
события развиваются предсказуемым образом. Вот что говорила по этому
поводу историк Роберта Вольстеттер: «После того, как событие произошло,
все сигналы, конечно же, становятся предельно ясными: теперь мы видим,
какую беду они предвещали… Однако до того, как событие случилось,
сигналы туманны и носят в себе множество противоречивых смыслов».
Чем дольше мы изучаем случайность, тем больше убеждаемся, что ясно
видеть причины событий можно, к сожалению, после того, как события
произошли.
Для меня главный вывод из этого в том, что ни в коем случае нельзя
останавливаться на полдороге и поворачивать назад, ибо раз случайность
играет определенную роль в нашей жизни, то один из важнейших факторов,
определяющих успех, находится под нашим контролем, а именно – количество
шагов, количество использованных шансов и возможностей. Потому как даже
когда мы подбрасываем монету и она уже готова упасть невыигрышной для
нас стороной, все же существует вероятность, что в самый последний
момент монета перевернется, и мы выиграем. Или, как сказал Томас Уотсон,
стоявший у истоков корпорации IВМ: «Если вы хотите преуспеть, удвойте
частоту своих неудач».









 Вообще-то я ненавижу биографии. И автобиографии. Подробности жизни незнакомых мне людей...
Вообще-то я ненавижу биографии. И автобиографии. Подробности жизни незнакомых мне людей...