Шаши Мартынова
Читает не менее трех книг параллельно.
Признает только рифмованные переводы рифмованных стихов, остальные - терпит.
Groks you in fullness (at least she'd rather).

Книга выйдет по-русски в этом году, тьфу-тьфу, в издательстве "Фантом Пресс".
Этот маленький роман — идеальный вариант для читательского клуба, а идеальный обзор его имело бы смысл составить в виде вопросов к членам клуба, для подготовки обсуждения. "Дом имён" — книга совершенно понятная организационно, вопросы, вылепленные Тойбином, хороши своей нерешаемостью, все концы в детективной составляющей его истории подвязаны опрятно. Изящная, короче, архитектурная штука получилась. Мое особое читательское внимание же привлекло как раз то, что другие читатели — на Гудридз, скажем, — отчего-то поругивают ну или как-то не одобряют, что ли. Этот вот набор античных персонажей — Клитемнестра, Агамемнон, Электра, Орест, Эгист, — действовавших у Эсхила, Эврипида и пр., застят некоторым читателям обзор, и эти некоторые читатели зорко и завороженно смотрят на палец, а не на луну. Да неважно в самом деле, что мы уже видели этих героев в скульптуре, живописи и на сцене. Флэнн О'Брайен вон сказал, что вообще не понимает, зачем придумывать новых литературных персонажей, если их пруд пруди понапридумывали уже, бери не хочу. Античные герои как раз хороши тем, что они, как в комедии дель арте, уже оснащены неким набором черт, и их можно вынуть из исходного контекста и дальше играться с ними как угодно. Тойбин играется с ними мастерски, на мой взгляд, и поэтому чем быстрее читатель выкинет из головы, где он уже видел этого актера, тем насыщеннее будет опыт от "Дома имён".
Подробно пересказывать античный сюжет незачем, его и так все знают: Агамемнону надо в путь, ветер не туда, он приносит в жертву богам свою дочь Ифигению, ветер меняется на нужный, Агамемнон уплывает воевать, Клитемнестра, жена его, ждет возвращения супруга, чтобы его укокошить, попутно изменяя ему с Эгистом, Электра потом алчет убрать мать, делает это Орест, брат Электры и Ифигении. За кадром романа: у Эгиста, по классической версии, отягощенное убийством родственника прошлое (Агамемнону есть за что его не любить), Клитемнестра, по некоторым источникам же, замаралась, побывав замужем за Танталом, а та семейка тоже гнилая. И вот дальше можно отлипать от исходных координат и крутить этот кубик Рубика как самостоятельное высказывание.
Разбирать нравственные петли и узлы этого романа — вот что было б вопиющими спойлерами, а потому не буду. Переберу вкратце — и, да, этим самым списком тезисов, подходящим для дальнейшей клубной беседы, — всякие красоты и мелкие штуки, которые и создают в "Доме имён" его атмосферу отстраненного ужаса и медленного погребения в трясине под потустороннюю музыку.
- Звук — одна из опорных констант романа. "Дом имён" вообще весь про слух, про различение вслепую, про совершенно самостоятельное определение, какую правду или ее часть герои сообщают друг другу. Тишина, молчание, отсутствие звука — не менее значимое явление по ходу романа, чем разговор, шепот, шум. Говоря строго, можно было бы сделать из книги радиопьесу целиком из разговоров, пауз и фоновых шумов, опустив авторский комментарий, и такой вариант представления этого текста был бы вполне полноценной практикой его перевода.
- Замкнутые пространства, переходы между ними и стража на границах. Это тоже отдельная проекция "Дома имён", как и звуковая, но ее можно было бы как раз изобразить в виде немого мультфильма в технике перекладки. И тоже получился бы яркий интересный перевод этого текста. Перамбуляции персонажей обильны, детальны, хлопотливы, но никогда не лишни, пусть временами и мучительны.
- Непроизнесение вслух. В некоторых газетных рецензиях на роман критики недоумевают, как персонажам разрешили не говорить — годами! — на некоторые темы (не говорю, на какие, иначе получится спойлер), не называть определенные имена, не заикаться о мотивах тех или иных поступков, не объ-яс-нять-ся. В том-то и дело, что вот это заклятье молчания — и часть расставания с богами, и неизбывность некоторых ужасов, говорение о которых никому не сделает легче, только хуже, и, в конце концов, самые обыденные шкурные интересы власти, имущества, вранья во спасение и вранья на погибель. Да тысячу причин помалкивать можно увидеть, а причин поговорить — ни одной, пусть даже "поговорить" могло бы спасти чью-то жизнь, вывернуть обстоятельства в какую-нибудь менее кровавую сторону. Гарантий, впрочем, никаких — и вот об этом нам разок сообщают впрямую.
- Память, ее задачи и двусмысленные возможности. Память и в пределах отдельной жизни, и наследственная, и наведенная. Память как довод, как проклятье, как возможность отменить или заменить прошлое.
- Власть как Прокрустово ложе, на котором остаться собой невозможно, есть лишь шанс уберечь в себе что-то, немногое, приложив недюжинные усилия, пожертвовав многим — или многими, а это все равно кольцевая, возвращаемся к началу тезиса.
- Дилемма Фродо. Последнему в цепи генерации ужаса достается сильнее всех. Эта игра "в картошку" выдает последнему участнику в ладошки плюху расплавленного олова, и если участник решает никому ее дальше не передавать — медленно подыхает от ожогов, по-прежнему отвратительный всему миру гад, и лишь отдаленное будущее, возможно, оценит этот поступок.

Русскоязычное издание готовится в "Фантом Пресс", ожидаем ближе к лету.
Мир полон созвучий (с): в окружающее время — и слегка прошлое, и некоторое грядущее — мне работается аж с тремя книгами пересказов древних историй, из них одна ирландская и две греческих. Две древних поэтических культуры, два пространства, одаривших мир нестареющими летописями богов и героев. То, что пересказчики столпились в моем переводческом плане, мне кажется удачным, поскольку я многие месяцы по уши сижу в этом специфическом фокусе уловления эха: рассказывать своими словами полюбившуюся историю — одно из самых древних занятий человечества, "неправильных" пересказов историй, принадлежащих седому времени, не бывает, и любой пересказчик оставляет в пересказе себя самого. Так грифель карандаша оставляет на бумаге себя, запечатлевая слова, рожденные задолго до того, как выросло дерево, из которого выточили этот карандаш... А я теперь по долгу профессии предельно дословно пересказываю то, что напересказывали авторы этих книг, — на нашем с вами родном языке.
Вот про первую книгу греческих сказаний сегодня и речь.
Ну, для начала, это Стивен Фрай. Для тех, кто читал что-то — или всё — из Фрая, о стиле и подаче можно больше ничего не рассказывать, как избыточно объяснять такое про Вудхауса или, скажем, О'Брайена. Фрай-esque — это игриво, живописно, богато на эпитеты, балагуристо и педантично в деталях. И очень влюбленно в предмет, конечно, а это, мы понимаем, больше полдела, когда речь о тематическом высказывании. Что ценно и заслуживает особого уважения: Фрай не скатывается в клоунаду и комикование, хотя в любой теме, настолько понятной и хрестоматийной сюжетно, как греческая мифология, есть все возможности устроить пошляцкое шапито. При всем обязательном юморе и шаловливости, которые Фрай применяет и допускает, это по всей книге остается в пределах хороших манер и общей смокинговости. Несколько потешных цитат, которые я привожу в конце этой простыни, — из немногих откровенно развлекательных отступлений, которыми Фрай декорирует текст, но их в самый раз, никогда не чересчур.

Что же до содержания, то, на мой взгляд, хмыканье некоторых читателей в англоязычном пространстве, что, дескать, ну зачем нам стотыщпицотый пересказ греческих мифов и сказаний, несколько зряшное. Во-первых, старые истории живут в пересказах, т.е. не каменеют и не превращаются в догму, как это, увы, уже случилось с некоторыми древними книгами. Во-вторых, греческая мифология богата на материал, который вплоть до второй половины ХХ века даже ключевым воспевателям античности — художникам, скульпторам, поэтам последних нескольких веков — казался поводом для девичей стыдливости. Сейчас наконец пришло время по-взрослому, с интересом и здорОво воспринимать всё видение древних греков, без изъятий и очей горе, а кому как не Фраю, инкарнации Оскара Уайлда, быть стильно откровенным — как он уже давно привык, впрочем? В-третьих, Фрай не лезет толковать взятые им для пересказа истории. И не потому, что у него нет мнения или ему это неинтересно — он просто честно делает то, что ему, раконтёру, больше всего по душе, а антропологию и текстологию он оставляет специалистам. В-четвертых, да, все эти сюжеты можно найти в сети и в сотнях книг, посвященных Древней Греции, но фильтр Фрая, его предпочтения в выборе историй и в том, как их подавать и выстраивать внутри книги по порядку, — искусство сродни икэбане. На цветы, ветки, палки и вазы можно глядеть в цветочном магазине по отдельности, но человечество по-прежнему составляет и покупает букеты.
Структура книги предсказуемо похожа на фикус, если смотреть на него от горшка вверх. Сначала тугая розетка — возникновение мира из Хаоса, первое поколение божеств, начало всемирной истории. Дальше стебли начинают слегка расходиться, но по-прежнему тянутся более-менее в одну сторону — божества плодятся, время развертывается, жизнь развивается. Следом стебли разметываются в разные стороны — появляется человечество и творение взрывается фейерверком цветов и листьев, и тут повествование перестает быть линейным и дробится на темы, группируется по объединяющим признакам — гордыня, метаморфозы, спровоцированные в людях богами, любовные похождения, желания, которых стоит опасаться, и пр.
Читать эту книгу, помимо очевидной развлекательной и отдыхательной ценности, стоит и ради того, чтобы стряхнуть пыль с детских воспоминаний о Куне и его "Легендах и мифах Древней Греции", привести в порядок фамильные древа богов и героев, наверняка давно перепутавшиеся у вас в голове (я вот, к примеру, забыла напрочь, что Афродита, технически говоря, Аресу, мужу своему, тётка, не то чтобы кровосмесительные союзы были для олимпийцев экзотикой — строго наоборот), а также вспомнить мифогенную географию Греции, где что находилось, кто куда бегал и где прятался, — прекрасный, то есть, способ навестить Грецию во времени и пространстве. Ну и поразвлекаться у себя в голове, читая, всякими символическими трактовками этих историй — с тех пор, как вы в последний раз читали греческие мифы, прошло много лет, а на таких историях проверяется личная эволюция базовых взглядов на нравственность, ценности, смыслы жизни и прочий базальт личности любого из нас.
Обещанные цитаты:
Арес — Марс у римлян — был, конечно, недалек, фантастически туп и лишен воображения, ибо, как всем известно, война — дело дурацкое.
*
У любви и войны, Венеры и Марса, всегда возникает сильное родство. Никто не понимает толком, с чего бы, но в попытки найти ответ вбухана прорва денег.
*
Следом Гея посетила Мнемосину, та увлеченно старалась остаться непроизносимой. Казалась очень поверхностным, глупым и дремучим существом, ничего не знавшим, а понимавшим еще меньше.
*
Гуляя по окрестностям, Гермес не ведал, как далеко забрался, но на каком-то поле открылся ему чудесный вид стада снежно-белых животных, что щипали траву и тихонько мычали в лунном свете.
— О! — зачарованно вздохнул он. — Какие чудные мумучки. — Пусть и был чрезвычайно развит, детские словечки он еще не превзошел. Гермес смотрел на коров, коровы смотрели на Гермеса.
*
Горюя из-за смерти любимого слуги, Гера взяла сотню зорких Аргусовых глаз и поместила их на хвост крайне бестолковой, растрепанной старой курицы, преобразив ее в то, что мы ныне наблюдаем как павлина — вот так современная гордая, красочная и спесивая птица навеки стала ассоциироваться с богиней Герой.
*
Зевс хотел как лучше. Для какого-нибудь несчастного полубога, нимфы или смертного эти четыре слова так часто предвосхищают катастрофу.

У нас новенькие — "Фрайди Паблишинг". Пока, насколько я понимаю, первое издание — и сразу полезное в дом: "Фрайди П." выпустили удобную вспомогательную методичку для тех, кто изучает английский, а также для тех, кто, как им кажется, его уже знает. Люси Гутьерес, барселонская художница, умаявшись долбить английскую грамматику, начала ее зарисовывать — она, как и многие другие люди, лучше запоминает зрительно. В результате получилась веселая и методологически осмысленная книга, по которой можно и запоминать всякие конструкции языка, и освежать структурные и логические связи между ними.
Понятно, что это не самостоятельный учебник языка; понятно и то, что для совсем начинающих, не знакомых с правилами чтения, он тоже не подойдет, но на какую-никакую уже усвоенную базу английского все эти потешные примеры и объяснения лягут как приклеенные.
Книга, как и привычные традиционные учебники, разбита на уроки, темы этих уроков у Гутьерес посвящены либо той или иной грамматической конструкции, либо лексике. Вторых по минимуму, в основном всё про конструкции. Наверное, это и здорово, с моей точки зрения, поскольку лично мне современные методики, построенные по принципу "сначала напихаем человеку в голову слов и фраз, а потом объясним, почему они устроены так, а не иначе", нравятся куда меньше, чем старое доброе "сначала арматура, потом бетон".
Что же, помимо веселых картинок, специального в этом пособии? Его бодрая неполиткорректность, "взрослые" примеры — Гутьерес справедливо считает, что взрослых людей имеет смысл натаскивать на запоминание грамматических абстракций при помощи "неприличных" фраз и картинок и анекдотов-про-Вовочку-и-поручика-Ржевского (шучу, нет там никаких Вовочек, понятно, но you catch my drift), — а также всякой лексики и оборотов, которые, если их вовремя вспомнить, добавят вам в разговорах с нативами очков за остроумие.
Для тех же, кто соберется лазать в эту книгу исключительно чтобы освежить future perfect continuous или просто поржать над картинками, это прекрасное пополнение коллекции легендарных "Вавилонских разговорников" и бессмертных "Как мне пройти к виадуку?" и "Сейчас я покажу вам, как размножаются в моей стране".
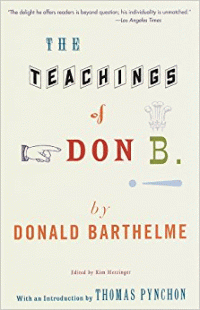
Сразу скажу: эту книгу Макс уже перевел, права мы покупали вместе с "Мертвым отцом", и мы отыщем возможность ее издать в 2018 году. Поэтому дальнейшее, если вы не читаете по-английски, услышьте без печали, ибо очень вероятно, и вам оно достанется на понятном языке.
Этот сборник — одновременно очень много что. Во-первых, это прекрасный подарок всем бартелмиманам, поскольку тут у нас Бартелми в его родных водах: малая проза (ну и пьесы немножко). Во-вторых, это дополнительная доза радости для тех, кто Бартелми, положим, не читал, зато полюбил бездонную по придумчивости журналистику Флэнна О'Брайена, ничем не ограниченное дуракаваляние Спайка Миллигэна, укататься-смешные и временами по-хорошему злые тексты Димы Горчева, полностью свободный и, без преувеличения, гениальный абсурд Ромы Воронежского. В-третьих — оно следует из во-первых и из во-вторых, — чтение подобных текстов, по моему глубокому убеждению, есть не только читательское удовольствие, расширение кругозора, уроки построения парадоксальных фраз и словотворчества. Это опыт фантастической свободы и пластики ума, поскольку чтение можно уподобить занятию йогой с мастером: мастер (автор) принимает сложные и неожиданные церебральные позы, ученики (читатели), следуя за мастером, принимают мозгом те же позы. Если оставаться в пределах этой метафоры, разумно заметить, что, конечно, прочтения одной такой книги недостаточно, чтобы самому преподавать подобную йогу (т.е. самому писать такие тексты), но обратите внимание, когда почитаете будущее издание: некоторое время голова действительно работает в этом счастливом, сверхгибком, веселом режиме. За себя, во всяком случае, готова отвечать.
Сборник "Учение Дона Б." вышел посмертно, в него вошли тексты Бартелми разных лет, не опубликованные прежде в его сборниках "40 рассказов" и "60 рассказов", а также пьесы для радио (что особенно пикантно в силу музейности формата). Те, кто читал Бартелми прежде, уже знает, что, в отличие от, скажем, О'Брайена, Бартелми... э-эм... сингулярист: у него, к счастью или к сожалению, не бывает сериальных текстов, ему по его внутреннему устройству скучно писать сиквелы, и поэтому каждый его текст — единственный в своем роде, и читателю приходится всякий раз перестраивать оптику ради каждого-прекаждого текста Бартелми. Это одновременно и захватывает, и, признаюсь, огорчает: есть немало Бартелми-вещиц, к которым ужжасно хотелось бы почитать сиквелы, поглядеть на развитие идеи — и пережить знакомое всем утоление жажды "бесконечно вкусного апельсина" (тм). Но нет: всё удовольствие, какое можно, придется выжимать из каждого текста в отдельности. Думаю, поэтому Бартелми, по его собственному признанию, так не любил писать романы.
Вот вам пример текста-биджи, развитие которого я с наслаждением бы проследила:
Вапитуилы до чрезвычайности похожи на нас. У них имеется система родства, весьма сходная с нашей системой родства. Обращаются они друг к другу «мистер», «миссис» и «мисс». Они носят одежду, очень похожую на нашу. У них есть Пятая авеню, разделяющая их территорию на восток и запад. У них есть «Под завязку орехов» и «шевроле», каждого по одному. У них есть Музей современного искусства и телефон, и мартини, каждого по одному. Мартини и телефон хранятся в Музее современного искусства. Вообще-то у них есть все, что есть у нас, но только по одному экземпляру.
Мы обнаружили, что они очень быстро утрачивают интерес. Например, они полностью индустриализованы, но им, похоже, неинтересно пользоваться этим преимуществом. После того, как единственный сталелитейный завод произвел первую болванку, его закрыли. Они способны концептуализировать, но дальше этого дело не движется. К примеру, в неделе у них семь дней: понедельник, понедельник, понедельник, понедельник, понедельник, понедельник и понедельник. У них одна болезнь — мононуклеоз. Половая жизнь вапитуила состоит из единственного опыта, о котором он думает долго.
И напоследок — мелочи.
Милый штрих-спойлер №1. Обложку ру-издания мы намереваемся сделать, как у "Лучшего из Майлза", только вместо сердитой рыбки посадить на нее ошалелую птичку. Фоном взять "Нью-Йорк Таймз".
Милый штрих-спойлер №2. Отсылка к Кастанеде — неслучайна.
Милый штрих-спойлер №3. Предисловие к этому сборнику написал Т. Р. Пинчон.
Выйдет в издательстве "Фантом Пресс" в каком-нибудь ближайшем будущем.
В этом эфире будет много картинок, потому что роман — ветвистое изящное дерево, выросшее из живописного полотна, которое, в свою очередь, семечка другого ветвистого изящного дерева — жизни и истории нескольких поколений американцев и скандинавов, потомок которого по имени Кристина Олсон позировала Эндрю Уайету. В таком вот дыхании рождения-умирания и бессмертия и существуют, в общем, жизнь с искусством, но тут оно выходит такой вот показательной красивой волной.
История, рассказанная в романе, — жизнь девочки-девушки-женщины с врожденной инвалидностью в глухомани на ферме в Мэне в первой половине ХХ века, со всеми радостями, ужасами и медитациями сельского бытья, и появление в этой жизни молодого художника, дружба с которым сделала эту жизнь другой. Это роман о созерцании безысходности, о красоте, силе и трудности принятия — других людей, себя, жизни, болезней, умирания, о нюансах в оттенках смирения, гордости, упрямства, эгоизма, служения, терпения. О ваби-саби во всем. Это вообще очень ваби-саби-роман, и тем из нас, кого эстетика старых ветшающих вещей завораживает, в этой книге предложено море — прохладное, но рыбное — удовольствия. И, конечно, это роман о живописи.


Если же добавить к этому, что книга посвящена конкретной женщине и конкретному художнику — Кристине Олсон, героине легендарного полотна "Мир Кристины", и Эндрю Уайету, одному из главных художников-любимцев Америки, регионалисту-певцу американского севера, — книга для потенциального читателя делается практически неотразимой.
Эндрю Уайет познакомился с Кристиной Олсон в конце 1930-х, стал постоянным гостем на ферме Олсонов и дружил с Кристиной и ее братом Алваро вплоть до смерти Кристины в 1968 году. Все эти почти 30 лет Уайет писал Кристину, Алваро, ферму внутри и снаружи и окрестные пейзажи, и вот из этого обессмерченного живописью пространства и выросла "Картина мира".


Подробности о росте и жизни фамильного дерева, на котором в итоге возникла Кристина какой она была, вы узнаете, прочитав книгу. Я же, пожалуй, отдельно приостановлюсь на простом, давно любимом мировой литературой приеме: повествовании в настоящем времени. Книга — сказ от первого лица, по-английски написанный в настоящем неопределенном времени (по-русски — просто в настоящем); это время, в котором — вспоминаем учебник английской грамматики — "действия происходят обычно, постоянно". Рассказ Кристины о ее жизни — не дневник, который пишется по горячим следам, в дисциплинированном случае — день в день. "Картина мира", по всей логике, — воспоминания. Однако в этом самом настоящем времени, которое автор выбрал для повествования, содержится блистательная правда этих мест, этого контекста, этого способа существования: всё в природе повторяется, но при этом никогда не случается дважды один в один, крестьянская жизнь — одновременно и безнадежная, скорбная сансара, и созерцательная красота стихий, их вечной юности и силы. Жизнь человека с постоянно ухудшающимся от наследственной болезни здоровьем — поневоле "сейчас", в каждом трудном, едва ли не мучительном движении, в усилии, в непрерывном противоречии: помощь всегда нужна и вечно стыдно и унизительно ее ждать и просить. Живопись — это всегда сейчас, в этом миге, в этом жесте, а полотно, состоявшись, остается в настоящем неопределенном навеки, пока не погаснут краски и не распадется холст. История уже завершившихся жизней — тоже настоящее неопределенное: их можно пересказывать на все лады, тем добавляяя неопределенность, но их настоящести никакой пересказ не отменит.


Памятник Уильяму Батлеру Йейтсу в Слайго, где он провел детство, мы созерцали в пасмурный июльский день, и между воздетой рукой и воротником этой крылатой фигуры неподвижно висели в сыром воздухе косматые паутинки. Слайго и окрестности, по мнению Йейтса, вдохновенного националиста воображения, — самое плотное по волшебству место Ирландии, особенно деревни Дромахэр ("Кряж двух бесов", ирл.) и Драмклифф ("Кряж двух корзин", ирл.). Гуляешь по тамошним местам и без всяких усилий втекаешь в мировосприятие ирландских возрожденцев, от Волфа Тона до Йейтса и далее: нездешняя, дохристианская древность любой кочки тут — и общительность местных с теми, кто родом отсюда, — подарила Йейтсу уникальную возможность нырнуть прямиком в доисторический слой, время вне письменности, услышать и записать голоса, пусть и неисповедимо искаженные проводами эпох. Поколения, последовавшие за леди Эсперанцей (матерью Уайлда, тоже пылкой фолклористкой), леди Грегори, Йейтсом и другими столпами Ирландского возрождения на рубеже XIX и XX вв., по-разному относились к наследию предшественников, а уж передергивать и доводить до абсурда Йейтсово, в частности, стремление к чудесному можно тысячей разных способов. Однако вот этот сборник его очерков по теме прекрасно комментирует и дополняет его поэтические высказывания об ирландских чудесах, по которым его в первую очередь и знает читатель.
В этом сборнике заметную часть составляют предисловия и комментарии Йейтса к книгам других авторов, работавших с ирландским фольклором, но есть и несколько записанных сказок, поверий и легенд жителей графства Слайго, деревни Хоут (ныне чуть ли не часть Дублина) и некоторых западных краев острова; есть и подлинные мистические истории деревенских чудаков, обессмерченных знакомством с Йейтсом; есть и несколько записей магических ритуалов и вообще опытов, пережитых глубоко погруженным в оккультное Йейтсом лично.
Отдельная прелесть и сила подобного чтения — возможность соприкоснуться с устройством головы и с рефлексиями необычайно творческого человека, в "нормальности" которого у меня нет повода сомневаться, и тем самым вновь уловить трепет этой странной свечи на ветру: искренней, пылкой веры в чудеса. Йейтс в своей публицистике шумно возмущается "ограниченным", "бесплодным" материализмом эпохи, отчетливо подчеркивает восхитительную третью категорию в нашем дуальном мире: есть добро, есть зло, а есть каприз, странность, и как раз в пространстве третьего и обитает чудесное.
"Всё существует, всё подлинно, а земля — лишь малый прах у нас под ногами".
Когда Женя Коган начал писать стихи, я обрадовалась и воодушевилась: зная, как он пишет прозу, можно было предвидеть, каких стихов ждать. Каких по тону, по манере разговаривать. И, в общем, пока так оно и получается. Женя, с его любовью к обэриутам и специфическим, очень особым пылом, с его эмпатией, памятью на боль и печаль и слухом, умудряется делать в своих стихах игру, в которой весело и увлекательно — пока не становится страшно(-вато) и больно. Как играть в лед со Снежной королевой — или в ладушки с дяденькой-в-шубе из "Агаты" Линор Горалик. Да, слышно у Жени и стародавний питерский рок-н-ролл.
И вот еще какая интересная штука: в "Моей королеве" получается, что тревога-печаль — это такое вот особое тонирование у Жениных текстов, на мое ухо, — одной и той же природы, и в гражданской лирике, и в лирике-лирике, и в колыбельных и "считалочках". В этом мне видится чистота от позы и большая человеческая точность этих текстов.
На той неделе увидим эту книгу живьем: приедет из печати.
Дисклеймер №1. Книга по-русски выйдет в ЭКСМО. Возможно — в этом году.
Дисклеймер №2. Сюжет, очень, очень коротко. Лондон, 1980-е. Район с разноцветным населением. Две девочки-школьницы ходят в танцевальный кружок, у одной получается атасно, у второй — нет, но вторая хорошо поет и танец ее завораживает как концепция. Семьи у девочек похожи (один родитель черный, другой белый, обе семьи бедные), но на этом сходство исчерпывается. Вся дальнейшая книга нанизана на их сложные и местами возмутительные и скандальные отношения — и очень разные судьбы. Та, которая вторая, — рассказчик всей истории, она становится личной помощницей у суперзвезды фасона Мадонны, активизм которой заводит роман в Гамбию, одну из самых нищих стран современной Африки, где звезда строит школу.
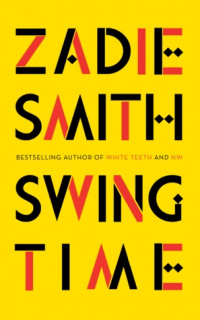 Имеем нечастый в моей читательской практике случай, когда звезды "Гудридз" или там "Озона" нерелевантны вообще, хоть я их в "Гудридзе" и поставила. Нерелевантны они для меня потому, что я не понимаю, кому именно я выдаю печенье своей оценкой: лобным долям+опыту человеческому и писательскому+таланту Зэди Смит, или ловкому знанию, сознательному или спинномозговому, хитрому рецепту, как лепить такой нарратив. Возможно, всему разом. В чем же твист (свинг)? Зэди Смит берет пару десятков социально-острых тем, одним махом втягивая кучу читательского народу: и тех, кому подавай детско-родительских отношений, и тех, кто про гений-и-бездарность любит, и тех, кто падок на всякие субкультурные штуки, и тех, кому расовая и расово-историческая тема дорога, и тех, кто любит в тексте всякие нетекстовые штуки — танец и музыку, например... и еще кучу всякого. Африканский колорит. Локальная политика. Маньячество религиозное и активистское. Дружба с оттенком стокгольмского синдрома. Поиск корней и родины. Богемная жизнь. Сцена. Соседские разборки. Бытовые анекдоты и бытовой ужас. Время как судия, ресурс, хребет всего, магия, проклятье, истина. Всё это в книге так или иначе есть. И тут вот читатели в своем отношении к этому тексту, судя по всему, вольны разделиться на такую же кучу лагерей. "Нам нравится, что тут так много всего, нам симпатичен этот базар идей, где всё лежит россыпями нефасованное и невзвешенное, изобильными горками, набирай себе в пакет сколько тебе самому надо". Или: "Фу-у, нам не нравится этот гвалт, толкотня и неопрятность, почему на ценниках не написано, что это за фрукт, мы не понимаем, с чем это готовить, почему раздавленная еда на полу валяется?" Или: "В мясной ряд я и соваться не буду, а вот из закута, где пряности продают, могу целый день не вылезать". И так далее. Что, собственно, и наблюдается на "Гудридзе", к примеру.
Имеем нечастый в моей читательской практике случай, когда звезды "Гудридз" или там "Озона" нерелевантны вообще, хоть я их в "Гудридзе" и поставила. Нерелевантны они для меня потому, что я не понимаю, кому именно я выдаю печенье своей оценкой: лобным долям+опыту человеческому и писательскому+таланту Зэди Смит, или ловкому знанию, сознательному или спинномозговому, хитрому рецепту, как лепить такой нарратив. Возможно, всему разом. В чем же твист (свинг)? Зэди Смит берет пару десятков социально-острых тем, одним махом втягивая кучу читательского народу: и тех, кому подавай детско-родительских отношений, и тех, кто про гений-и-бездарность любит, и тех, кто падок на всякие субкультурные штуки, и тех, кому расовая и расово-историческая тема дорога, и тех, кто любит в тексте всякие нетекстовые штуки — танец и музыку, например... и еще кучу всякого. Африканский колорит. Локальная политика. Маньячество религиозное и активистское. Дружба с оттенком стокгольмского синдрома. Поиск корней и родины. Богемная жизнь. Сцена. Соседские разборки. Бытовые анекдоты и бытовой ужас. Время как судия, ресурс, хребет всего, магия, проклятье, истина. Всё это в книге так или иначе есть. И тут вот читатели в своем отношении к этому тексту, судя по всему, вольны разделиться на такую же кучу лагерей. "Нам нравится, что тут так много всего, нам симпатичен этот базар идей, где всё лежит россыпями нефасованное и невзвешенное, изобильными горками, набирай себе в пакет сколько тебе самому надо". Или: "Фу-у, нам не нравится этот гвалт, толкотня и неопрятность, почему на ценниках не написано, что это за фрукт, мы не понимаем, с чем это готовить, почему раздавленная еда на полу валяется?" Или: "В мясной ряд я и соваться не буду, а вот из закута, где пряности продают, могу целый день не вылезать". И так далее. Что, собственно, и наблюдается на "Гудридзе", к примеру.
Зэди говорит очень много — и еще больше недоговаривает. Мы вроде как любим, когда нам не разжевывают, правда? Да, правда, но от "Времени свинга" остается интересное впечатление, что это словно бы конспект другого, в четыре раза большего романа, где вся вот эта россыпь тем и зачинов разработана попристальнее, потоньше... постарше, что ли. Да-да, я в силах произвести эту работу самостоятельно — это потребует некоторого времени, литературно-исторических экскаваций, бесед с профильными специалистами, слушания немалого объема музыки и просмотра фильмов по немалому списку. Et si tu travailles, цитируя Маргариту Палну. Хорошее дело же, когда книга провоцирует на большую дополнительную работу, домашку задает, так сказать? Кто б спорил. Да вот только Зэди излюбленную нами, читателями, английскую недосказанность организует так, как делаются некоторые вечеринки: хозяин навалил еды, включил телевизор, магнитофон, светомузыку и видеопроектор, натыкал по углам хлопушки, развесил серпантин, запустил гостей, а сам во всем этом беситься... ну-у... не очень расположен, что ли. Вроде бы все для успешной тусовки есть, но, собственно, личной маны хозяина в нем словно бы постоянно не хватает, хотя в этой самой нехватке он вроде как ощущается. И гости станут отрываться, только если сами очень на это настроены (выпили по дороге в пабе или вчера диссертацию защитили или ребенка сдали в летний лагерь или еще что-нибудь хотят бурно отпраздновать), а если робеют и пришли с хозяином зажечь, а не сами по себе, — могут ведь и слинять по-тихому.
Я вообще хвалю эту книгу или как? Любите колоритные восточные базары идей и пестрые вечеринки, где хозяина не очень видно — полюбите и эту книгу.
Нарыть книгу с безупречным полноценным миром — всегда ценный подарок. Чтобы смочь такой мир создать, в нем надо пожить и его надо полюбить: никакой бог/демиург не может не быть частью своего мира, хоть на время, просто на боге/демиурге больше ответственности, чем на тех, кто этот мир благодаря ему населяет. Лора — часть мира ЮРО и на ней ответственность за него, а судя по тому, как там все удачно и заманчиво (даже когда жутенько), работу свою этот бог/демиург выполняет как следует.
Южнорусское Овчарово — некоторая, скажем, деревня у Тихого океана рядом с большим городом Владивостоком, где жизнь богаче наших о ней представлений (как обычно), с той разницей, что нашелся человек — Лора, — не поленившийся это запротоколировать. Только такие деревни и можно вообще населять и при этом не спятить, только такого рода действительность пригодна для полноценного существования на всех контурах магического сознания. Особенно для "городского" человека, если он вдруг решает переехать в деревню. Для меня Лорина книга ценна не только как для читателя и фаната самостоятельных сотворенных миров: это инструкция, как обращаться в своей голове с новой непонятной действительностью (деревенской, например), чтобы присвоить ее, обжить.
Очень, очень удачно, что "Южнорусское Овчарово" формально — роман в рассказах: это позволяет не запихивать насильно (и против правды жизни) много-много историй в чехол единого нарратива, а предлагать трехмерную многоголосицу жизни этого мира как она есть, то есть увязанную гораздо хитрее и с виду рассыпчатее, чем может предложить традиционная романная форма. Ружья в настоящем сотворенном мире стреляют, но гораздо причудливее, чем привычно читательскому сознанию.
Тем, кто уже читал Лорины "Карбид и амброзию": да, ЮРО читать можно и нужно, теперь этот мир стал грушевиднее и полнее, новых историй — ровно половина, а порядок их расстановки стянул эту действительность туже и логичнее.

Книга выйдет, тьфу-тьфу, в издательстве "Фантом Пресс" в этом году.
Про что роман, конспективно, в столбик, не в порядке важности тем:
1. о школьной любви двух нигерийских людей (поколение второй половины 70-х), которая оказалась живучей;
2. о том, каково быть афроамериканцем, черным не-американцем, черным африканцем в Африке, англоафриканцем, черным не-англичанином — подробно, разными художественными методами;
3. об истории черных людей в Америке;
4. о современной американской расовой политике, официальной и неофициальной;
5. о разнообразных африканских акцентах в английском;
6. о межэтнических отношениях между западноафриканскими людьми;
7. об уходе за африканскими волосами на голове;
8. о Бруклине, Принстоне, Балтиморе, Лагосе, Лондоне, Нсукке;
9. об американской и нигерийской еде;
10. о Бараке и Мишель Обамах;
11. о студенческой жизни в Нигерии и в Штатах в девяностых-нулевых;
12. о разнообразных и многочисленных неприятных человеческих чертах, замашках, привычках и повадках (подробно);
13. о некоторых приятных человеческих чертах, замашках, привычках и повадках;
14. о разнице в нигерийских и американских семейных устоях;
15. о разнообразных манерах общения;
16. о современной истории, политике и экономике Нигерии;
17. о моде;
18. о сексе;
19. о детях;
20. ну и еще то-сё по мелочи.
Это хороший, подробный, просторный роман, с которым проживаешь насыщенный кусок судеб предложенных людей. Пишут, что по роману собрались снимать кино, и я бы глянула, кого Адичи утвердила там на роли: роман устроен так, что ужасно интересно, как выглядят персонажи. Люди в романе получились достоверные, живые: они то восхищают, то бесят — и всё, что в промежутке. Ифемелу (ударение на первое "е"), главная героиня, — человек, с которым мне лично было бы трудно: она зачастую сначала говорит или делает, а думает потом. И она, конечно, страшная язва и зараза, временами — не по делу, и поэтому иногда ее хочется стукнуть или сказать встречную гадость. Впрочем, будет в книге одно место, ближе к концу, когда героине наконец сообщают, как называется ее поведение, и от этого возникает чувство глубокого удовлетворения (с). Но в целом нигерийцы ведут себя настолько как русские (простите за обобщение), что мотивации их понятны до трогательного. Обинзе (ударение на "и", первое "о" произносится как среднее между "о" и "у", а не как безударное "о", т.е. "а", в русском) — пацан гораздо более приятный и милый, чем Ифем, я б с таким дружила.
В многочисленных интервью, посвященных книге, Чимаманда постоянно подчеркивает, что это роман о неумирающей любви, однако на мой читательский глаз любовная линия этой нетощей книги — некоторая условная елка, поставленная для того, чтобы повесить на нее гору игрушек, гирлянд, фонариков и дождиков, под которыми елка, в общем, подразумевается (не в невесомости же висит все это), ее даже отчетливо видно, но столько всего на нее понавешано, что я, к примеру, с интересом почитала бы оба блога главной героини — из них в книге приводится немало выдержек, уместно, особенно из первого, американского. Прямо в виде отдельной книги, как бывало в поры ЖЖ, когда печатали подборки постов крупных блогеров. Эта вот елочность сообщает роману некоторое подобие обширного набора баек из жизни, но Адичи потрудилась стянуть их воедино так, что претензии к лоскутности романа выглядят пусть и не порожними, но уязвимыми. Само обилие этих баек, многие из которых не имеют сквозного значения для книги в целом, создает у меня-читателя довольно устойчивое ощущение единства высказывания: так сценки громадного людного южного базара, не связанные друг с другом, становятся единым целым — жизнью южного базара. И да: этот роман — политическое высказывание, и расовое, и феминистское.
* Держись; всё наладится; будь молодцом (игбо).
Ну и я тут "обложку" слепила, простите.


Старая новость: Линор — гениальный словограф. Фотограф словами. И этот сборник словесных полароидных снимков и подписей к ним — замечательное "на память" о второй половине нулевых и о девяностых, пусть и применительно к очень специфическому кругу людей и жизней. Впрочем, я (неискренне) сочувствую тем, кого бесит незнание упоминаемых персонажей и неспособность читать эти тексты без такого знания. Да спокойно, думаю, можно читать эту книгу, никак не зная этих людей. Я не знаю Хаюта, ни лично, ни заочно, допустим, — и что? От этого Линорины словесные дротики, прилетающие в яблочко, не делаются ни тупее, ни кривее и долетают куда надо. Да, я как читатель и временами издатель Линор наблюдала по ее текстам за смещениями ее фокуса интереса, ее манеры записывать, "Недетская еда" была давно, сейчас такие наблюдения у Линор выглядят и читаются иначе, но и 13 лет назад, когда вышла первая часть "Недетской еды", это уже был ее взгляд, ее слух, эта совершенно цифровая приметливость и просторная, красивая память на нюансы.
Прекрасная отдыхательная книга, словом. Умный яркий сувенир на память. Коробка полароидных снимков профессионального фотографа-людоведа.

Чтение романа "Город Брежнев" утвердило меня в мысли, что романы о русскоязычном пространстве, написанные в нулевых-десятых, войдут в летопись мировой литературы как мощный вклад в развитие жанра антиутопий на историческом материале. Во всяком случае, мне кажется, детям, родившимся в эпоху Горбачева и далее, только так и можно воспринимать романы, написанные о советском времени очевидцами, как непосредственно параллельно времени, так и постскриптумом. Я сама чуть младше автора, и потому в 1983-84 г., когда происходит действие романа, я только в школу пошла, а он уже был подростком, ровесником своему главному герою. И для меня "Город Брежнев" прозвучал на два голоса разом: и как эксгумация моих всамделишных воспоминаний, пусть и более отрывочных и менее отрефлексированных, чем у Шамиля, и как невозможная, но захватывающая байка. Так иногда слушаешь чью-нибудь длинную подлинную историю, то и дело ловишь себя на мысли, что ну нет же, да ну вы что, не может такого быть, но по некоторым — многим — частностям вновь и вновь сверяешь рассказываемое со своими воспоминаниями, что попрятались под всякие коряги, и понимаешь, что нет, не заливает рассказчик.
Вот эта непрестанная инстинктивная сверка с действительностью добавляет роману эффект "Ведьмы из Блэр": постоянное хождение вдоль кромки бытового кошмара. Настоящие, кхм, неприятности происходят в романе то и дело, но ощущение, что все это — один из тысяч залов преисподней, возникает далеко не только из-за этого. Причем преисподней куда более достоверной, чем любые ады мировых религий. В ней можно жить и не замечать ее. Целую жизнь не замечать можно. И с такими текстами как раз отчетливо понимаешь для себя, каковы они, черты существования, которые превращают это самое существование в ад. Думаю, у каждого читателя набор этих черт применительно к советскому периоду свой, но кое-что общее может найтись для всех. Педагогическая и познавательная ценность этой книги для меня — в этом. А также в том, что именно делало этот вариант преисподней пригодным для жизни, — и вот оно, как оказывается, пусть и не очень удивительно, нечто за пределами системы, вне времени, вне эпохи, трансцендентно-детское. Впрочем, это лишь потому так для меня, что, как я уже говорила, советский период я застала ребенком, а бурные утренние сумерки 15-летия и далее пришлись для меня уже на 90-е. Важно, конечно, и то, что я родилась и жила всю дорогу в Москве, а это Ватикан Советского Союза, отдельная, куда менее адская история. Каково быть взрослым в советское время, я на своей шкуре не испытала, а теперь уж не испытает никто, кого там не было. Подтаивание этой ледяной преисподней — а период действия романа аккурат то самое время — тоже вполне индикаторно: отмирание каких именно мелочей (и крупночей) делало в те поры этот ад менее адовым, и как в те поры уживались инфернальные и уже более верхнемирные (цитируя Гордона Хотона) линии жизни.
Но есть, конечно, в романе и много всякого другого, за что его, несомненно, имеет смысл читать. Это увлекательная история. Это живые герои со своими причудливыми — по разным причинам — мотивациями, понимание которых, впрочем, возвращает нас к той части моего полива, которая касается черт преисподней.
Словом, эту производственно-бытовую сагу взросления, по-босховски педантичную в мельчайших подробностях, я с легким сердцем рекомендую к прочтению — и отдельно желала бы обсудить ее и с теми, кто родился до 1970 г., и с теми, кто возник после 1990-го.
UPD. Вот еще что видится важным добавить, подумавши: роман "Город Брежнев" относится к той редкой, насколько я могу судить, категории литературных высказываний, которые я для себя именую санитарно-гигиеническими. Такие тексты выполняют задачу переведения того или иного пласта истории, сравнительно близкой по времени, в категорию мифа, — и вот там, в мифологическом пространстве, с этим пластом истории можно взаимодействовать с меньшими (а постепенно и с минимальными) искажениями, связанными с ностальгией/ избыточной сакрализацией/ идеологическими программами/ и прочее. Можно осознавать, смотреть спокойно, но при этом без, с одной стороны, энтомологической брезгливой отчужденности, а с другой — без влюбленного/ненавидящего залипания в майю времени. Это тонкий и значимый дар писателя — такая трансформация истории, и не важно, осознанно это сделал Шамиль в романе "Город Брежнев" или бессознательно. То есть для него самого, если это сознательно, — это большая внутренняя человеческая работа.

Тезис 1. Поразительная штука — велосипед, как ни кинь. Те, кому так и не удалось научиться держать равновесие на нем, всю жизнь считают его (противоестественной) победой над силами природы, а те, кто научился на нем ездить, мгновенно начинают относиться к нему как к само собой разумеющейся кастрюле, шариковой ручке или рожку для обуви. Есть такие человеческие изобретения, которые милы со всех сторон, полезны, здорОвы, красивы, просты и очевидны. Велосипед — явно из таких.
Тезис 2. Я понапереводила ненулевое количество всякого нонфикшна, начитала еще больше, и из общего любопытства, и пользы ради. Признак классной книги-инструкции/обзора темы: даже если тема в целом знакома и понятна, хороший обзор влюбленного в тему автора дает стройную красивую систему, структурирует уже имеющееся знание и, как следствие, помогает внятнее помнить, что к чему, и применять в случае необходимости, с минимальным расходом времени на копание в чемоданах усвоенного. Это же относится, понятно, к качественным учебникам чего угодно.
"Велосноб" — толковый, без всякой воды, бодро и местами остроумно сделанный методический обзор велосипедной жизни. Нет, это не "Дзэн и искусство ухода за велосипедом", хотя элементы высокой велофилософии в этой потешной иллюстрированной книжке тоже есть. Это введение в выраженный, внятный и, да, не надуманно настоящий стиль жизни человека, породненного с велосипедом. Да, Флэнна О'Брайена по ходу чтения вспоминаешь полсотни раз: у автора выраженный велосипедоз в неизлечимой форме, и автор уже наверняка процентов на 60-70 — велик. Но поскольку великов у автора полдесятка (автор и шоссейных велогонках участвует, и в велокроссе, и по городу мотается, и фристайлом слегка увлекался), то, видимо, молекулярный состав его организма — причудливая смесь многих разных велосипедов и человека. В результате книга получилась, последовательно и логично, и про историю велосипеда, и про устройство велосоциума, и про эволюцию моды на всякие велики и манеры на них кататься, и про взаимоотношения велосипедистов между кастами и с другими участниками городской жизни, и про то, как жить и выжить на велосипеде в большом городе.
Практический выхлоп:
1. Веломир и веложизнь (с поправкой на Нью-Йорк, конечно) удобно и опрятно улеглись в голове
2. Мы завели себе велики
На рус. яз. выйдет в этом году в издательстве "Олимп Бизнес".

Понятно, что эту книгу можно прикладывать к разным местам в голове, и, уверена, много кому она более чем способна принести лобовую пользу: помочь разобраться, насколько родительство — ваш способ жизненного творчества, если это все еще неочевидно, хотя сам факт сомнений может быть более-менее показательным; помочь подобрать спокойную аргументацию для разговоров с ближними и (неделикатными/невоспитанными) дальними; снять тревожность, если решение о жизни без детей принято, но есть остаточные сомнения, как организовывать свою жизнь в более зрелом возрасте — и вообще как, что и когда предпринимать при таком выборе, чтобы обеспечить себе и своему напарнику по жизни, если он есть, полную устроенную жизнь в старости. Все это в книге, разумеется, есть, подробно, системно, живо и старательно гуманистично. Сама я эту часть вопросов решала для себя постепенно, лет двадцать, поэтому книжка Лафайетт в этом отношении оказалась повторением и закреплением пройденного, подтверждением моих собственных наблюдений.
Мне же лично эта книга оказалась ценной как взвешенный, доброжелательный и очень разумный обзор такого образа жизни как целого, выраженно самостоятельного способа бытия и самореализации. Ценна она и методически: мне нередко приходится беседовать на эту тему с людьми помладше, и лучше, конечно, не только объяснять, почему человек имеет полное право оставаться без детей, но и что это может означать на дальнем пробеге, чего не стоит бояться, к чему имеет смысл готовиться — и как.
Да, конечно, следует отдельно отметить, что Лафайетт — из категории здоровых на голову, жизнерадостных, добродушных внедетных (я бы так переводила "чайлдфри": разнице между "чайлдфри" и "чайлдлесс" Лафайетт посвящает несколько подробных разворотов и объясняет, почему первое точнее, здоровее и крепче второго, если решение быть без детей принято, и оно при этом заряжено положительно, а не сокрушительно). Она сама любит детей, работала школьным педагогом, много общается с детьми своих друзей и родственников, ей это видится важным — подчеркивать, что внедетных не надо считать саблезубыми детоненавистниками. Мне это тоже всегда было дико, впрочем: "Почему у вас нет пианино в доме? Не хотите пианино? Вы что, ненавидите Рахманинова, Листа, Шопена?!" — "Нет, просто не хотим пианино в квартире, нет потребности, а Шопена мы слушаем в консерватории в приличном исполнении", хотя тут меня, конечно, упрекнут в фантастической неточности метафоры.
Вторая интересная штука у Лафайетт: проговаривание одного из ключевых (для Штатов) упрека вне/бездетным — они-де живут для себя и не вносят свой вклад в общество. Общественное сознание у нас, понятно, существенно расслабленнее, чем в странах со, скажем так, старыми демократиями, да и специфическое оно после СССР, но некоторое отношение этот вопрос имеет и к русскоязычному пространству. Для меня лично, по крайней мере, он вполне актуален: какую пользу я приношу людям ("общество" для меня абстракция)? Но этот вопрос стоял бы для меня, даже будь у меня дети, поскольку я не считаю, что рождение ребенка — это принесение общественной пользы, а также что ребенок должен (и будет) отдуваться потом за меня, если я бесполезный расход воздуха и ресурсов планеты. Поэтому само то, что Лафайетт эту тему обсуждает, видится мне важной частью этого самого внедетного образа жизни — и любого образа жизни вообще.
Понятно, что это старая книга (1995 г.), понятно, что с тех пор понавыходила куча похожих работ, более современных, уже в эпоху пользовательского интернета, мобильных систем и пр., и их читать тоже полезно и нужно. Более того, общественные погоды тоже поменялись за эти 20 с лишним лет. Однако у припадания к истокам (это одна из первых подробных и полных книг по теме) есть свои плюсы, не только исторические и общекультурные. На мой взгляд, тем, кто решает для себя вопрос, иметь детей в этой жизни или не надо, такие вот "буквари" ценны своей простотой и гуманизмом доцифровой эпохи.

Ожидаем по-русски в издательстве "Азбука" когда-нибудь в этом году, вероятно.
"Городок и город" — хронологически второй роман Керуака, написан в 24-27 лет (первый, "Море мой брат", в 20), "Суета Дулуоза" — последний, в 46. В промежутке — громадная жизнь, и человеческая, и писательская, и, возможно, это здорово, что читаю я Керуака строго в беспорядке, и вот сейчас пришло время "Городка".
Это огромный роман, в смысле и объема, и размаха времени действия, и обилия судеб. Это Керуак до-боповой-просодии, Керуак, тягающийся с Вулфом, традиционный по формальному обустройству текста, но уже совершенно родной в своем чуть ли не античном контрасте и фонтане чувств, когда ни одно существительное не обходится без эпитета (и не одного), когда поэзия пролезает в текст через абзац, когда люди ведут себя иррационально, и автор совершенно не собирается за них извиняться (и правильно делает). В этом романе — весь я, говорил Керуак, и его там, как Вишну, много-много инкарнаций, он раздал себя десятку персонажей, и потому "Городок и город" — 3D-голограмма Джека-человека.
Моя осторожная, но преданная любовь к Керуаку с этой книгой лишь упрочилась, и меня нисколько не заботит, что это "не тот Керуак, который Керуак-прям". По этой книге даже те, кто почему-то не считает его могучим писателем, просто обязаны уже наконец увидеть, что до фига он писатель — не то чтобы Керуака заботило, держат его за писателя люди нынешних поколений или нет. Это скорее для нас, читателей, измученных нарзаном высказыванием, зарефлексированным сто пятьдесят раз, важно. В "Городке и городе" Керуаковская святая непосредственность, отсутствие всякой рисовки ("смотри, смотри, читатель, как я сейчас отставлю ножку!", "смотри, как я могу тройной тулуп, а!", "смотри, вот эта фигня — метафора вон той фигни, которая в свою очередь аллюзия на во-он ту фигню и еще две косвенных; круто я, а?"), великолепно бесстыжая, никак не дозируемая вот эта фонтанность покупают меня с потрохами. На всякий случай: я, как мы понимаем, ничего не имею против глубоко прошитой символами и отсылками прозы, сколь угодно эшеровско-кляйновской по картинке, но на территории романа-стори мне дороги лихорадочные цельные высказывания, где автор полностью растворен в тексте и не имеет с ним почти никаких субъект-объектных отношений, это мальчишеский прыжок ласточкой со скалы, когда ни отец, ни девчонки не смотрят, строго для собственного удовольствия и из личного ухарства.
"Городок и город" — семейная сага о родном городке Керуака Лоуэлле (в романе — Гэллоуэе) и многодетной семье Мартинов. В непосредственном времени романа проходит лет десять, но вместе с реминисценциями старших Мартинов — около полувека. В семье Мартинов куча детей, они все растут на вилле "Курица" в прекрасном старом доме, о каком мечтает любой из нас — ну или имеет этот опыт хотя бы в миниатюре, когда в семье или у друзей есть старая дача в красивом месте, с лесами, полями, речкой, помойкой, прудом и прочими том-сойеровскими радостями голозадого и босоногого детства. Дети все разные, но семья дружная, неимоверно любящая, дом полная чаша, словом. Но ничто не вечно, жизнь происходит и происходит, дети один за другим вылетают из гнезда, а поверх этого на планете начинается Вторая мировая. И мы, читатели, смотрим в окошко этой камеры Вильсона за крошечными человеческими частичками в море бытия и за конденсационным следом, какой оставляют их траектории, искривленные и покороженные войной сильнее, чем, в теории, полем обычной мирной жизни. Но где жизнь, а где теория?
Жизнь отдельно взятой семьи на фоне эпохи в ХХ веке — заслуженный жанр литературного высказывания, Керуаковская версия прекрасна и размахом, и человечностью, а особенна тем, что Штаты, как мы понимаем, на своей территории армагеддона не имели, и поэтому электромагнитное поле войны на тех территориях действовало иначе, чем в континентальной Европе, скажем. И потому отдельно интересно — даже с исторической точки зрения, — как война перебуровила, прямо и/или косвенно, жизни рядовых политически не вовлеченных провинциалов. Нет, это не единственный и не первый роман на эту тему, но в сочетании с керуаковским пылом, чувством звука и поэтикой — уникальный.
Вопросы отцов и детей, понятно, там тоже тема, пусть и не главнейшая. Однако для меня лично самой дорогой и восихительной — и трогающей до слез — с этой стороны в "Городке и городе" стала убедительно предложенная несокрушимая, целительная, совершенно магическая клановая преданность и безоглядная любовь внутри семьи. Она не отменяет ни ссор, ни временных охлаждений, ни недопониманий, но вот эта убедительно выписанная в тысяче мелочей надежность кровного родства, которой я, в силу малости моей семьи, пережить не удостоена, — невероятный частный случай волшебства нашей жизни. Когда полагаться можно всегда, в любых обстоятельствах, безусловно. Да, так бывает о-очень не в любой семье, но бывает же! И вот эта тема громадного бездонного сердца, очень безвыкрутасно предложенная, — еще одна целительная точка входа в этот текст.
Ну и напоследок — атмосфера. Очень хочется в Гэллоуэй, я вот что хочу сказать. А в Нью-Йорк не хочется. В Гэллоуэе — идеальный мир детства, с миллионом восхитительных подробностей. Все дети Мартины рвутся убраться из провинциальной "дыры" в большой мир, но не будь в их жизни этой "дыры", возникла бы нешуточная непоправимая дыра шириною в жизнь. Гэллоуэй, занюханный, маленький городок, где ничего не происходит, дарует им силу улететь из него, а такую силу — силу покинуть исток и жить дальше мощно, хорошо — дарует только настоящая любовь, потому что лишь она способна отпустить навсегда, но продолжать излучаться вслед.

По мере возни с Керуаком среди меня складывается внутренний рейтинг его текстов. Впрочем, рейтинг этот имеет смысл делить на две колонки — условно "джаз" и условно "томасвулфовщина", поскольку сравнивать бурю "Видений Коди" с "Городком и городом" — классическое мокрое и длинное — не годится. Но тогда в первой категории все сразу делается запутанным и трудно сравнимым, а вот во второй складывается опрятный порядок, и в самом верху у меня пока "Городок...", сразу следом — "Одинокий странник", а вот эта, "Суета" — третья. Это еще один подход Керуака к снаряду "осмысление личной истории", и слегка помаявшись с первой частью, которая про футбол (да, я из тех, кому спорт в литературе более-менее заунывен, как бы экспрессивно и каким бы любимым голосом его ни предлагали), читатель вырывается к морю. И вот про море Керуака я готова слушать — именно что слушать, поскольку фирменное керуаковское взятие читателя за пуговку для меня очень голосовое, я слышу его буквы — сколько угодно раз.
Да, Керуак писал всю жизнь один акынический мегароман, ничего нового я тут не скажу. И его "томасвулфовские" романы я бы прописывала читать людям, которые почему-нибудь временно решили, что их жизнь ничего не стоит, в ней ничего не случается и она низачем: Керуакова способность со всей детской непосредственностью ценить сам процесс жизни — подробно, многословно, восторженно и возмущенно разом — видится мне лекарственным и утешительным.
И да: я считаю, что Макс Немцов транслирует этот голос безупречно.
первой книге дилогии я сообщила граду и миру в "Омаре" еще в 2014-м, а сделать так, чтобы книга досталась и моим друзьям, и друзьям моих друзей, захотела, когда впервые прочла дилогию, — в 2013-м. Понятно, что не всех поголовно завораживают истории о смерти и о том, что может происходить после нее, а для меня рассматривать все возможные варианты за пределами happily ever after (особенно в этой формулировке меня всегда возмущало вот это "ever") — любимая читательская забава. И Хотон, спасибо ему до неба, предлагает двадцать с лишним авторских листов этого удовольствия.
В прошлом эфире, по первом роману, я писала о том, что приклеило меня к этим текстам в первую очередь. Теперь имеет смысл и нужно порассуждать о том, что в этих двух романах возвращает меня к ним все эти годы снова и снова, помимо медитации на смерть, на вопрос, что это означает — быть живым, и из-за чего, в конечном счете, они оказались в "Скрытом золоте", рядом с мэтрами уровня Бротигана, Бартелми или О'Брайена. Важно понимать, впрочем, что калибрами никто тут не меряется, это несерьезно — в частности, и потому, что это совершенно разные высказывания, и по стилю, по форме, и по потоку смыслов, и потому, что романам Хотона чисто хронологически еще предстоит выдержать пресловутую проверку временем, но мы со своей стороны приложили и еще приложим усилия. Русскоязычное издание ожидаем осенью этого года.
Поразительно для меня в этих довольно просто — с сюжетной точки зрения — устроенных романах то, что вот эта огромная черная звезда, тема смерти и ее универсальная функция фотопроявителя для смысла той или иной отдельной жизни и жизни вообще, может на время затмить второстепенные с виду темы, неразрывно с нею связанные. Но если дать этим текстам побыть внутри, попривыкнуть к нестерпимому жару этой черной звезды, проступит и несколько не менее интересных штук, с которыми Хотон работает в первой и второй частях дилогии. Далее — в порядке прихождения мне на ум.
Объективация человеческого тела. Хотон раскладывает перед читателем во всей красе и то, каким странным, неприятным (если не отвратительным) и одновременно чудесным становится (остается?) человеческое тело после того, как человек в нем умер, — и пока он в нем еще сидит! О том, как люди (и не-люди, действующие в романе, и сам автор) обращаются с другими телами, Хотон, со всей очевидностью, думал немало, и в его романах навалом ситуаций — насилие, секс, танец, захоронение, лечение, физические испытания, драки, обслуживание, связанное с прикосновениями, — где читателю постоянно предлагают вглядеться, как одни тела обходятся с другими, по взаимному согласию, без него и в обстоятельствах, когда договориться невозможно, и где она, эта незримая грань сознательного участия в делах других тел.
Ритуальность. Всадники Апокалипсиса и вообще сюжет Откровения Иоанна — одна из основ реальности этой дилогии, и она глубоко церемониальна. Комический эффект, возникающий от того, что всадники "идут в ногу со временем" и меняют коней на типовые автомобили, парадные облачения на футболки и джинсы, ведут обыденные разговоры о том, что там у нас к завтраку, занимаются бюрократической возней, переживают спады настроения, уныние и растерянность, склонны к мелочным страстям и подвержены детским увлечениям, — это все передышки для читателя и, безусловно, необходимая нота здоровой очень английской иронии, совершенно "питоновской". Мне слышна за всем этим никогда впрямую не оговариваемая печаль об утрате человечеством магической стороны жизни — ритуала, самого простого способа соприкасаться с незримым, с волшебным, с необъяснимым. Причем магия тут не в смысле питер-пэновских звездочек в воздухе и добрых фокусов Гэндальфа, а в смысле самого беззнакового волшебства этого мира, которое, вообще-то, для благоговения, а не на потеху детям. Во второй книге об этом, на мой взгляд, даже больше, чем в первой.
Не-всё-устройство. Не могу сказать, нарочно или случайно Хотон так сделал и знает ли он сам во всех исчерпывающих подробностях устройство громадной машины его мира Трех хранилищ, но они остаются за текстом и открывают читателю бескрайнее (!) пространство для спекуляций и додумывания — как, впрочем, и реальность Иоанна Богослова и его Откровения. Я поймала себя на том, что достраиваю за Хотона эту машинерию, проверяю ее на непротиворечивость и — человеческую! — логику, но мне (и никому из нас) никто не обещал, что она там (Там) есть, вообще-то. И вот это сверхжизнеподобно, и от этого немножко голова кругом.
Прямота сообщения. Подобные притчевые книги-о-главном (вторая былиннее первой, и в ней меньше хиханек, хотя ирония никуда не девается) частенько бывают "книгами ответов", рецептами, прописями смысла бытия. Уйти автору от этого очень не просто — слишком уж давно культура вообще и литература в частности бодается с этими темами, и, как ни крути, болтаются в ноосфере отполированные временем голыши "правильных" ответов. Дагласа Эдамза и его элегантное "42" переплюнуть вряд ли кому удастся, это вершина стёба над "великими ответами", но Хотон, с одной стороны, предлагает — в полном соответствии, кстати говоря, с классическими мифологическими конструкциями, — структуру "я спросил у тополя, я спросил у ясеня", а с другой — ухитряется проскальзывать в миллиметре от догматики, и из щели незакрытой этой двери на меня, читателя, будь здоров сквозит честной безответностью. И открытые концы обоих романов — точный финал (продолжение) этой с волос толщиной безответности.
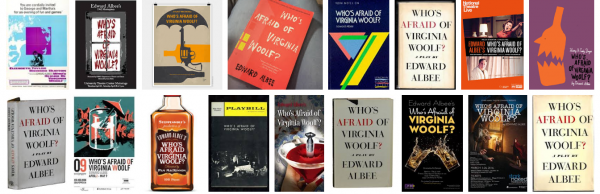
Этой пьесе осенью исполнится 55 лет, а читается она что 20 лет назад, что сейчас — как оба раза в моем случае — свеженькой, как завтрашняя газета. Ну, может, сейчас обе пары, особенно Ник с Лапусей, могли бы как-то скомпенсировать эти три часа сценического времени ада посредством мобильных телефонов, но Джордж или Марта, вероятно, в какой-нибудь момент перекрыли бы доступ к вай-фаю или как-то еще саботировали интернет в доме (или отняли/раскурочили) мобильные аппараты своих во всех смыслах слова несчастных гостей. Олби придумал бы что-нибудь изысканно-изуверское, нет сомнений. Мне в целом видится занимательной идея напихать в Олби ультрасовременных реалий и убедиться, что сущностно ничего не изменится.
Понятно, что Олби вообще и эту пьесу имеет смысл читать не только для того, чтобы с ехидной безнадежностью убедиться, что человечество разбивается на пары и надолго остается в них зачастую по каким угодно причинам, кроме открытия совместного космоса, совместного со-творения, взаимной поддержки, почтения и восхищения друг другом. Хотя когда старые как мир истины мешали хорошим писателем создавать нетленку? И не только потому, что Олби — великолепный привет Бекетту и Ионеско. И не только за острую, безжалостную, бескомпромиссную наблюдательность, доведенную до гротеска в деталях. Олби, как и полагается человеку с идеальным драматургическим вкусом, создает диалоги, которые громаднее жизни(тм), и потому хтонический ужас обычной семейной жизни, которому в "Вирджинии Вулф" дна не наблюдается, настолько лютый и ничем не смягченный. Когда читала впервые, то и дело подумывала, что Джордж с Мартой и Ник с Лапусей — не люди, а, скажем, оборотни, чудовища, просто разных пород, что ну нельзя же так друг над другом измываться, интеллигентная университетская публика же. Ан нет, можно. Хотя мне в 20 лет это казалось пограничным с миром плохих снов и уж точно инструкцией на будущее, по каким принципам нельзя строить отношения ни с кем, тем более — с избранником.
И напоследок — техническое: настоятельно рекомендую читать эту пьесу в оригинале: вам откроется несопоставимо больше нюансов, все станет ярче, жестче, четче — и убийственнее. Макс несколько лет назад переперевел ее, все значительно улучшилось по сравнению с "классической" версией, книги в этом переводе нет, но Макс не поленился выложить его у себя в блоге.

Лазать в книжки, которые перевел в прошлой жизни, — дело противоречивое: с одной стороны, финский стыд, потому что умел несопоставимо меньше, чем сейчас, после стольких лет практики, а с другой, в очередной раз понимаешь, что именно с таких книг, в какие влюбляешься сразу и при этом не за обилие переводческих "подарков" (есть у нас такое понятие, но сейчас не об этом) и не за особый вызов переводчику (какой там вызов на старте-то — боишься, что и с простым не справишься), а именно за неотразимое обаяние, за человечность и универсальность авторского разговора. Такими книгами крещаются в переводчики подобные мне парвеню без соответствующего академического образования.
"Царь-оборванец" вышел в "Лайвбуке" (тогда еще "Гаятри") в 2005 году, это моя первая всамделишная работа в переводе. Джоэль бен-Иззи — концертирующий сторителлер-стендапер из еврейской традиции, в точности такой вот веселый милый человек, каким его видно по его тексту (мы беседовали с ним разок по телефону). В этой книге он рассказывает свою всамделишную историю, как у него случилась опухоль горла, и после операции он потерял голос, а вместе с голосом — дело всей жизни. Да-да, эта книга из той категории, которые, стыдясь этого, читаешь и с состраданием, и с потаенным облегчением: фуф, у меня-то все в порядке, вот у человека действительно беда. Утратить инструмент любимой работы для меня, к примеру, — адское испытание, мало что страшнее может быть. Примеряешь на себя — осторожно, чтобы ни в коем случае не прилипло! — и понимаешь, что для переводчика это была б любая болезнь, связанная с утратой памяти и высших мыслительных функций, или какой-нибудь лютый тремор в руках, что печатать не получается, только диктовать, а я, к примеру, в самом том, как буквы вылетают на экран из-под пальцев, вижу/ощущаю, оно или не оно выходит. И диктовка поэтому скорее всего была бы профессиональным самоубийством.
Короче. Джоэль бен-Иззи рассказывает нам, как он жил и приключался без голоса, пока его не восстановили хитрым протезом, предваряя каждую главу из своей личной истории байкой, сказкой, поверьем, анекдотом из самых разных мировых устных традиций, и каждая сказка тесно увязана с его историей — и сразу отдает тебе соль опыта, урок, вывод, какие грядут в ближайшей главе. Понятно, что такие книги исходят из утешительного убеждения, что любое испытание — бесценный опыт с так или иначе удачным концом, и жить исходя из этой предпосылки, конечно, легче и приятнее, нежели думать, что судьба лупит нас по мордасам без всяких барышей для нас самих, и никакая вытекшая юшка ничего-то в нас не искупит и не улучшит. Бен-Иззи — не первый и не последний автор, убежденный, что всё не зря, но некоторым не веришь, а ему — запросто.
Дополнительная зрительная радость этой книги: нам в те поры удалось уговорить Резо Габриадзе порисовать для этого текста, что он с удовольствием и сделал. Поэтому книга с картинками.

Еще одна книга, которую я мечтаю перевести, хорошенечко аннотировать и издать (и сделаю же, вы меня знаете). Это сборник пересказов ирландских сказок, преимущественно из Фенийского цикла, выполненный в начале ХХ века любимцем нашим Джеймзом Стивензом. Первое издание увидело свет в 1920 году, картинки к нему рисовал не кто-нибудь, а сам Артур Рэкэм (Рэкхем).
Я вам уже докладывала об очаровательном романе Стивенза "Горшок золота", который тоже весь мечтательный, сказочный и сплошь афоризмами и поэтическими строками писаный. Десять сказок, которые выбрал пересказать в этом сборнике Стивенз, — бездонная бочка всего ирландского: пылкой нежности и такой же свирепости, пытливости как высшего воинского достоинства, великого благородства, брегонской мудрости и тотального присутствия в моменте, как того требовали опасные времена начала железного века.
Этой книге почти сто лет, а историям, которые она пересказывает, — тысяча с лишним. Читаются они как привет из соседней дружественной галактики, где все похоже и не похоже на наши дела. Голос Стивенза, игривый, веселый, неимоверно живой и находчивый на слова и обороты, делает из уплощенных временем фигур горельефы, здесь слышна, конечно же, логика рубежа XIX-XX вв., трогательные и очаровательные гендерные обобщения (от которых нынешняя фея политкорректности огребла бы зубную боль), но дух неотразимого едва ли не эротичного воинского братства, уникальная для Ирландии вертикальная (вглубь земли) топография, пустые небеса, где, кроме птиц и облаков, парят только стрелы и копья, и этот самый пресловутый хронотоп, единство времени-пространства, какое бывает только на очень старых островах, делают эти тексты настоящим, круглогодичным праздником великой, вечно юной сказки.
И да: невозможно отделаться от ощущения, что много чего для "Сильмариллиона" Толкин беспощадно передрал у Стивенза.
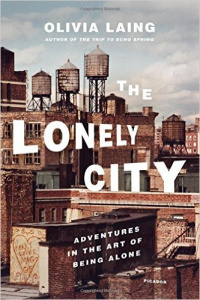
Только что дочитала — а на днях закончу перевод* — очень хорошей книги, которая сразу про многое и жанрово на стыке многого сразу. Мне вообще симпатичны тексты, формально относящиеся к нонфикшну, будь то математика, искусствоведение, этнография или какая угодно еще сфера абстрактного или прикладного знания, однако с сильным авторским голосом, опытом, соображениями. Автор в таких текстах не остается снаружи, он не просто лектор: тут очень личное эмоциональное — и поэтизированное даже — высказывание, и в этом смысле такой нонфикшн приближается к художке. Жанровым пуристам может быть трудно, а мне, к примеру, прекрасно: живой, подвижный, открытый к разговору текст получился. Но, видимо, дело и в том, что автор близка мне по темпераменту — и манере строить фразы (развесисто). Лэнг — журналистка, критик, давно пишет для "Обзёрвера", "Гардиана", "Фриза" и пр., стиль у человека ловкий, стреляный, всё умеет, выкручиваться, чтобы не сыпались повторы, как это часто бывает у современных англоязычных авторов, а у нас не принято, не приходится: у барышни полна голова разных слов, и она их щедро вываливает. Одна беда с нонфикшном: отглагольные существительные. Это караул, конечно. Вот где пришлось поизворачиваться, но проредить их до приятной глазу и уху концентрации, не воюя по смыслу с оригиналом, не удается почти никогда. Ну ла ладно, в нонфикшне простительно.
Отложим лирику в сторону. О чем книга и зачем нам ее читать? Англичанка Лэнг в нулевых пережила неприятный опыт: внезапно оказалась на много месяцев одна в Нью-Йорке, незнакомом, жестком городе, после того как неожиданно оборвался ее тогдашний роман с аборигеном, к которому она, собственно, и прилетела в Штаты. В силу личной истории — нам ее в некотором объеме изложат, — Лэнг накрыло одиночеством не на шутку. И так вышло, что спасалась она, копаясь в истории американского искусства ХХ века — смотрела на него через призму одиночества в большом городе. И получилась красивая складная история о том, как переживали — и выражали — городское одиночество разные нью-йоркские великие. В книге восемь глав, первая — вводная, со второй по пятую есть главные герои, каждый по-своему переживавшие одиночество, — Хоппер, Уорхол, Войнарович, Дарджер, в шестой, говоря строго, царит Клаус Номи, но вообще она шире, про кризис СПИДа в Нью-Йорке 80-х и про одиночество, обусловленное стигмой страшной болезни, в седьмой — Хэррис, который пророк интернета, и она об одиночестве-в-сети (тм), а восьмая — косвенно про Войнаровича (он вообще сквозная фигура всей книги, вместе с Уорхолом) и про выставку "Неведомый плод" Зои Леонард, посвященную, собственно, Войнаровичу. В каждой главе Лэнг изящно и увлекательно рассказывает о своем опыте Нью-Йорка и пронизывает им истории американских творцов из недавнего прошлого. Кроме перечисленных столпов в тексте много всякого и о прочих звездах искусства Ист-Виллиджа, этого сада всех цветов, и про их разновидности отчуждения.
Немало в книге и заходов на теорию одиночества в толпе: его психологические корни, последствия, механизмы возникновения, как оно закрепляется в человеке, чем чревато в дальнейшем и т. д. Всё это с отсылкой к работам нескольких психологов, прицельно исследовавших этот предмет в ХХ веке.
Помимо просветительской ценности этой книги — приготовьтесь сидеть в гугл-картинках, чтобы глядеть на все картины, фотографии, коллажи, граффити, инсталляции и хепенинги, упомянутые и, нередко, контекстно толкуемые в книге, — есть в ней и прекрасное атмосферное пространство самого Нью-Йорка, живой сущности, совсем не обязательно благонамеренной, благодатной или доброжелательной, с его поэзией, мерзостью и величием, во времени и пространстве.
*Русскоязычное издание выйдет, тьфу-тьфу-тьфу, в издательстве AdMarginem в этом году.
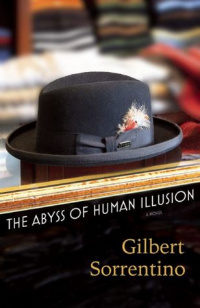
Писатель ухватывает тот или иной аспект культуры, а жизнь по сути своей несуразна, я считаю.
— Гилберт Соррентино
Гилберт Соррентино не впервые на наших волнах: я уже фонтанировала по его поводу два с лишним года назад, а прошлой осенью выложила переводы трех его стихотворений (из немалого множества). Уже писала, повторюсь еще раз: громадная досада, что на русском существует лишь один роман этого наследника великой ирландской троицы, блистательного постмодернистского гуманиста и невероятного ехидного лирика. Впрочем, есть шансы, что мы в следующем сезоне "Скрытого золота ХХ века" хоть как-то это упущение исправим.
"Пропасть...". Это роман в рассказах — 50 историй из жизни самых разных людей, написанных так, будто Соррентино сфотографировал 50 мизансцен, и фотографии ожили, задвигались, заговорили — ненадолго, а потом фигуры на этих снимках вновь замерли в неуловимо новых — новых ли? — позах. Роман был написан незадолго до смерти, а увидел свет уже после, и потому он печален, а если точнее, Соррентино позволил себе недвусмысленно выразить свое разочарование, пусть оно и беззлобное и уж конечно не обиженное. Любой желающий увидит в этих текстах и Чехова, и Твена, и Апдайка, и Джойса, и Беккета; само название — привет Хенри Джеймзу, это прямая цитата из него. "Пропасть..." — каталог человеческих заблуждений, подслеповатостей, глуховатостей, толстокожестей и в целом неспособности впитывать жизнь в полном сознании, реестр слепых пятен и хромоты сердца.
Вот что я нахожу неотразимым в Соррентино, в любом его тексте: он говорит, вообще-то, об очень горестных, а иногда и безнадежных человеческих неудачах, в самом универсальном смысле слова, но ему всякий раз, без исключения, удается держаться этой вот "сути несуразности", о которой он сам говорил в интервью, и потому любая драма — да и трагедия — в его текстах несет на себе блики той или иной улыбки, хоть улыбка эта и не непременно довольная или счастливая. Благодаря этой струне какого-то фундаментального здоровья ума Соррентино не скатывается в истерику, не рвет на себе волосы и при этом способен говорить — точно, проницательно — на любые самые грустные темы.
И последнее о "Пропасти...": вероятно, потому, что это последний его роман (и Соррентино знал это — когда писал, ему уже диагностировали рак, и этот диагноз, по словам его сына Кристофера, поверг его не в тоску или отчаяние, а в скуку), Соррентино, по сути, положил в него 50 желудей, и из каждого могло бы вырасти целое дерево-роман. Это 50 полноценных сюжетов для 50 книг привычной толщины, а при нынешнем обожании романов-кирпичей какой-нибудь Франзен мог бы слепить из любого предложенного сюжета эпос на полтыщи страниц. Но Соррентино, мне кажется, совершенно к этому не рвался бы, даже если б не собирался умирать так скоро. Тем не менее, "Пропасть человеческой иллюзии" в итоге смотрится как прощальный жест невероятной щедрости. И/или иронии: возможно, любая из этих историй стоит ровно того количества слов, какое счел нужным написать автор.
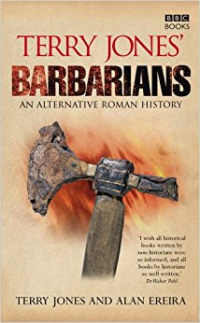
Ревизия мировой истории — штука увлекательная, разные ее этапы с регулярностью пересматривают и ученые, и просто энтузиасты. Когда за это берется "питон", выйдет гарантированно ядовито и весело, а поскольку Джоунз делает ее совместно с профессиональным историком, можно и на честность фактологии полагаться.
Пару недель назад я рассказывала о другой подобной книге Терри Джоунза, посвященной средневековой жизни вообще — и стереотипам о ее быте и повседневности, вдолбленным нам пропагандой последней пары веков. Эта книга тоже издана в сцепке с одоименным "би-би-си"-шным фильмом и разбирается со стереотипом величия Древнего Рима: Джоунз и Эрейра докладывают нам об истории времен Римской империи — с точки зрения так называемых "варваров". Бриттов, галлов, готов, персов, вандалов и многих других мы привыкли считать невоспитанными хулиганами (эллинов римляне, как мы понимаем, тоже, в общем, считали варварами, просто слегка по другим причинам, чем северян), а римлян — прометеями и передовиками культуры, пусть и несколько драчливыми. Джоунз и Эрейра предлагают нам начать уважительнее относиться к "дикарям" и делить привычный пропагандируемый взгляд на этот период истории на восемь, кое-где — на десять. Вандалы ничего не вандализировали — в отличие от римлян. Готы не громили Рим, в отличие от громивших все подряд римлян (истребление народа Дакии и разгром этой страны римлянами — отдельный ужас). Персы не лезли на рожон — римляне настойчиво доставали их первыми (и достали, себе на горе). А уж когда Рим сделался христианским, все стало еще более запущенным. Авторы подробно рассказывают нам и о досугах римлян, совершенно диких — и с точки зрения нас, гуманистов и наследников Всеобщей декларации прав человека, и с точки зрения "варваров", как выясняется. Культура, наука, искусство — никакой монополии у средиземноморского юга того времени не было, зато пропаганда, похоже, родилась вместе с человечеством.

Добро пожаловать обратно в мир "Монти Питонов" каким мы его помним по "Святому Граалю". Ладно, шучу. Но не совсем. И дело даже не только в том, что честную и аккуратную историческую фактологию Алена Эрейры нам излагает один из Питонов, питоновским языком и с их прихватами, а в том, что Средневековье в "Граале" в отдельных местах, возможно, ближе к реальности, чем многие расхожие клише о тех временах. Эта книга — сопровождение к мини-сериалу "Би-би-си" о европейском Средневековье, выстроенная не хронологически, как мы привыкли, и даже не геополитически, а по архетипическим фигурам времени: Терри Джоунз рассказывает нам о Рыцаре, Крестьянине, Даме, Монахе, Отщепенце, Короле, Торговце и Лекаре (в фильме, правда, Лекарь взят чуть шире — Ученым, а отдельно о Торговцах в кино нет совсем). Пафос книги симпатичен мне беспредельно: закат Римской империи — не начало "темного" Средневековья, Средневековье и вообще-то темным не было, культура и наука в Европе жили себе дальше, а так называемые "варвары" и без благодетельствования Рима развивались бы и творили разное (но об этом — в другой книге Джоунза, в "Варварах"). Вторая задача Джоунза, после постановки на место "Великого Рима", — развенчать кое-какие наши представления о том, как жили простые люди (ад быта сильно преувеличен позднее), о "Прекрасной Даме" (выдумка викторианцев), о Рыцарях в Сверкающих Доспехах (бандиты, мародеры и психи), о чудовищном знахарстве (и анестезия кое-какая существовала, и превентивная медицина, и много чего еще), о робингудовщине (благородные отниматели у богатых и отдаватели бедным — тоже прекрасная сказка).
В целом, подход к истории как к потоку личных биографий и задокументированных баек отдельных — в том числе не примечательных с привычной исторической точки зрения — людей мне нравится необычайно. Жизни обычных людей не было и нет нужды приукрашивать, по ним гораздо нагляднее и отчетливее понимаешь, "как все было". Понятное дело, история непостижима as is, по массе причин — мы и о прошлом-то месяце в своей жизни не расскажем в режиме белого свидетеля (тм) — но хоть как-то прислониться к далекой старине можно, мне кажется, через простую жизнь обычных людей, а не воспетых героев и мучеников.
И, конечно, Джоунз, верный делу Питонов, попутно неизменно делает нам интересно и смешно.
Этот небольшой роман я перевела 11 лет назад и многого в те поры не умела, конечно. Но вцепилась в него намертво, когда наткнулась на него в каталоге литагентов, прямо с аннотации. Помимо того, что мне нравятся романы со вставными новеллами (их в книге много — это прекрасный обзор по нескольким заслуженным католическим святым и их житиям), я отдельно люблю сказы, способные прошить насквозь стремительное время — хоть благодаря выбранной вневременной теме, хоть с помощью персонажей, чья жизнь отменяет линейную развертку лет.
"Шоу "Смерть и воскресение"" — о бродячем цирке уродов, где-то в Штатах, в конце ХХ века, с полным набором, неизменным со Средних веков: бородатые женщины, шпагоглотатели, фокусники и прочие претериты, люди без корней, вольные сироты мироздания. Разъездное братство, истинный прайд неврастеников — куда более, как выясняется, здоровых и красивых, чем многие их случайные зрители. Гвоздь программы — Франческа, способная волевым усилием являть кровоточащие стигматы (наследие детства без родителей с психопатически набожной бабушкой). Публика — как это было всегда — ничем не лучше погоды: милостива и жестока без всякой логики и предсказуемости, и у наших героев ожидаемо возникают в некий миг ого-го какие неприятности. Но настоящие святые никуда не делись, они среди нас, и в спасении — в каком угодно смысле — нам не отказано, причем не факт, что его можно и/или нужно заслуживать.
Этот роман, как и Сами-Знаете-Какую книгу, можно читать буквально, символически, полубуквально-полусимволически и любым промежуточным методом. Она решительно и быстро выскакивает за рамки католицизма, христианства и любой религии вообще, и она тоньше и глубже ньюэйджевской максимы "господь инсайд". На таких вот тихих, не очень заметных голосах зиждется мировая литература, это ее коренастый фундамент, неброская почва, из которой растут зрелищные деревья и разные лотосы. Выкапывать такие книги — работа немалая, и упрощают ее, понятно, рекомендации друзей и других референтных читателей. Ну или чистое везение, как в этом конкретном случае. Если я вам референтна — пользуйтесь этой рекомендацией.

Вот кому "Просветителя"-то надо дать, я считаю. Нет, все понятно, я фанатка и взятки с меня гладки, но серьезно: это великолепный, педантичный и почти академический обзор пространства-времени, о котором все, что написано и дошло до нас, — дело рук уже христианских переписчиков, в некотором смысле фольклористов-увековечивателей, по месту-времени ничего не записывалось, как известно, и исследователям этой эпохи Острова было, есть и будет невероятно трудно разглядеть, как оно было, хоть приблизительно, за наслоениями чуждой в те времена новой христианской культуры и мировосприятия.
Книга устроена как сборник статей, связанных идейно и содержательно, на разные темы жизни древнего общества. Здесь и женщинах в древней Ирландии, и о дорогах, и о топонимике, и о бытовом укладе, и о героях, человеческих и сверхчеловеческих, и о политическом устройстве, и о видении сверхъестественного и загробного у древних ирландцев. И, конечно, море всего о ключевых документах, какими бы христианизированными они не достались нам, — обо всем, что уцелело письменного, а объем этот сопоставим в Европе лишь с богатством греческой и римской античности.
Есть разница в эмоциональном заряде таких исследовательских текстов, написанных ирландцами или, шире, заинтересованными англофонами и русскоязычными учеными: зарубежный по отношению к Ирландии исследователь, по понятным причинам, пусть и влюблен в предмет своего изучения, все же легче от него освобождается, ему проще оставаться непредвзятым. А по отношению к ирландской истории непредвзятым быть очень важно, и чем новее она, тем это важнее. Григоренко посвятил эту книгу временам примерно от конца бронзы и примерно до нашествия на Ирландию викингов, т.е. чуточку до н. э. и примерно до VII в. н. э., такая глубина вспашки позволяет смотреть на происходящее исследовательски пристально и без политических кренов.
Мало какую почти академическую историческую книгу читала я так увлеченно. Однако, как я уже оговорилась, с фанатов что возьмешь.
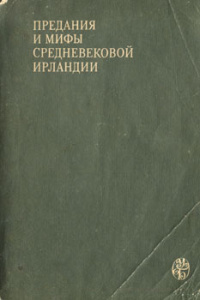
О спой нам, поэт, мы вопьем твою речь,
Мы стоим, снявши головы с плеч.
/"Несчастный случай"/
Время острова Ирландия делится у меня в голове на два, по корпускулярно-волновому принципу: точка в пространстве-времени Ирландии — и волна, и частица, особенно в пору до письменности. Ирландское время — пока не пришло христианство и не принесло с собой линейную развертку событий и тем самым не спрятало, по моим ощущениям, солидную часть пространственно-временного волшебства, которого в Ирландии больше, чем физической массы острова и всего, что нем стоит, лежит и бежит, — это почти изотропная субстанция, где силовые вектора коротки, мерцают, призрачны, и даже попытки генеалогии не придают этой толще однозначной структуры, не говоря уже о жестком движении из какого-то одного прошлого в будущее.
Сотня скрипториев, действовавших на острове между VI и Х вв., сдвинула ирландское время к анизотропности, трудолюбивые писцы попытались запихнуть великую реку устного сказительства в бумажные берега, и им, конечно, спасибо до неба, иначе мы с вами, не зная ирландского и не углубляясь в гэлтахты, никак не соприкасались бы с этой магической планетой — Ирландией до христианства. Волновое качество дохристианского (дописьменного) времени в Ирландии, времени, когда тексты не умножались, а воспроизводились — предмет для вечной медитации: всякий подвиг, деяние, поход — не разовое событие, не обреченная вспышка во тьме, а лист на дереве, вода в реке, очередной самайн.
Я сейчас читаю великолепный обзор "Мифы и общество Древней Ирландии" Григория Бондаренко и параллельно копаюсь в МГУ-шном издании 1991 г. "Предания и мифы средневековой Ирландии". Я не раз прежде влезала в ирландский фольклор, но, по моему утвердившемуся мнению, читать их гораздо, гораздо увлекательнее, живее и проще, если сначала врубиться в исторический комментарий к ним, т.е. нырять с инструктором, уже знакомым с этими глубинами и рельефом дна. Лишь начитав и насмотрев некий критический объем нонфика по истории Ирландии, я наконец смогла войти в "Предания и мифы" если не как к себе домой, то во всяком случае как в дом к приятелю, о привычках и личной биографии которого мне уже что-то известно.
Ученые люди говорят, что филид (поэт) должен был знать не менее 250 сказаний, а оллам (верховный поэт) — все 350. В "Преданиях и мифах" 20 с небольшим избранных историй, а я — не специалист, а пылкий любитель, и мне поэтому для начала хватит. Мои любимые пока — Разрушение дома Да Дерга, Старина мест, Сватовство к Этайн и Видение Фингена. Читать эти тексты — оценить переводы в полноте я не могу, поскольку не читаю по-ирландски, однако сам русский текст мне очень нравится и слышится точным и изящным — все равно что угадывать сквозь густую синюю (окей, давайте оставаться в символике Ирландии — зеленую) толщу вод времени жесты и лица героев. Метафоры и иносказания того времени богаты, многослойны, игривы и тянут за собой еще глубже. В Старине мест, эдаком топонимическом древнеирландском словаре, мне слышится буддийский сказ — тексты выстроены на повторах, разжевываниях и пояснениях, чтобы не потерять никакие варианты толкования, чтобы слушатель запомнил и мог это знание применить на местности. Но самое сильное для меня в этих сказах — непрерывное, стойкое движение в серой зоне между этим миром и миром сида, это прогулки с богами, чем бы люди ни занимались, а боги — такие же люди, только вечные, сильные и живут под землей. Небесных, недосягаемых богов в ирландской древности совсем немного, и это мне почему-то особенно дорого. В частности, поэтому пересказывать содержание ирландских сказаний — как пересказывать настоящую, сильную литературу, т.е. уплощать, упрощать и банализировать. Соберитесь с духом и влезтьте в этот магический лес. Но прихватите с собой экскурсовода все же.

Впервые за почти четыре года существования "Голоса Омара" я в некоторой растерянности, с какого конца браться за этот эфир, что в него запихивать, а что оставить за скобками и как изловчиться не написать какую-нибудь вопиющую чепуху.
Техническое: роман публиковался на русском языке, в сети болтается перевод (под названием, правда, "Кувшин золота")
Джеймз Стивенз (1880–1950), ирландский поэт и писатель-фольклорист, современник и друг Джойса (Finnegans Wake они чуть было не написали вместе по приглашению Джойса, но в итоге Джойс справился сам), живший между Дублином, Парижем и Лондоном, оставил богатое наследие стихов, пересказов ирландских сказок и легенд, но более всего его знают по небольшому роману "Горшок золота", вобравшему в себя множество сказочных сюжетов Ирландии. Иллюстрировать этот роман к его переизданию должен был великий Артур Рэкем, но не успел, потому что помер, и оригинальное иллюстрированное издание вышло с гравюрами (потешными и обаятельными) Томаса Маккензи.
"Горшок золота" 100 с лишним лет спустя можно читать несколькими способами. Если не абстрагироваться от возникшего в литературе после и, соответственно, читанного, это прекрасный предвосхищающий гимн хипповству с его единством природы и человека, танцами, песнями и весельем как универсальным лекарством, спасением и истиной. Это и "Поющие Лазаря" пополам с "Пророком" Халиля Джибрана. Это одновременно "конденсированная мудрость"/книга ответов (тм) и книга вопросов. Такие тексты, с одной стороны, можно выстебывать, но фокус в том, что стебущий автоматически предстает отмороженным занудой — таково веселое и неотразимое обаяние "Горшка золота" и голоса Стивенза, искреннего и счастливого настолько, что стебать это изящно (да и, прямо скажем, не впрямую его, а ирландский сказ вообще) мог только Майлз на Гапалинь, но про его сложную любовь к ирландской фольклорной культуре мы с вами кое-что знаем. "Горшок золота" можно растащить на несколько сотен чарующих максим, которые в ХХ веке неизбежно заросли броней армированного пластика в многочисленном селфхелпе и романах-утешалках. Однако для 1912 года такое переосмысление народной мудрости — визионерство в чистом виде, письмо-благословение нам, тем, кто пришел позже, и в чисто механическом, и в историческом времени.
"Горшок золота" — отголосок викторианского поклонения сферическому детству в вакууме ("Детей должно быть видно, но не слышно", однако детство — счастливейшая, магическая, единственно священная пора человеческой жизни), но у него дети — не просто сусальные ангелочки, а, скорее, Кэрролловские-Льюисовские-Трэвисовские герои, со своей внятной волей и особыми действительно волшебными умениями.
Что до "войны полов", о какой постоянно вспоминают все, кто писал к этому роману аннотации и предисловия, то, на мой взгляд, это какая-то патентованная ерунда и отрыжка нас, пришедших следом. Да, там немало максим фасона "мужчины — это..." и "женщины — это...", и про оба пола там говорится много всякого — с нашей современной колокольни — категорического, но, по-моему, человечество уже перешагнуло не один, а два-три рубежа медитации на вопросы полов/гендеров, и пора бы нам начать относиться к этому созерцательно-эстетически, а не обижаться. В частности, потому, что половые обобщения Стивенза обаятельны, местами — до умильности.
Не поддаться чарам этого сказа мне тоже видится невозможным: Стивенз — добродушный, но проницательный весельчак, беззлобный, но остроязыкий, и по "Горшку золота" можно, как по гипертексту, изучать ирландские мифы, сказки и космогонию.
Нельзя не запечатлеть и вот чего: наш экземпляр мы купили в дублинской букинистической лавке "Улисс", это издание 1960-х (без картинок, увы) и с очень показательной для 1960-х же обложкой (еще один привет визионерству автора), и пахнет эта книга серой волшебной сыростью, мокрой травой и чердаками, и можно, не очень перенапрягая фантазию, закрыть глаза и увидеть лес, где жили Тощая Женщина из Иниш Макграт, Седая Женщина из Дун Гортина, два Философа и их дети — Шимэс и Бригит...

Отдельный увлекательный читательский квест для меня — отыскивать тексты, где пространство и движение в нем создаются мирным вполголосом, где любые флаги, оружие и патетику оставляют в прихожей, в куню и далее по комнатам перемещаются, не вращая глазами, не рвя на себе волосы и никому ничего не доказывая. Без драм и воплей, короче. Но при этом чтобы сказ оставался живым, подвижным и обаятельным, чтобы тащил за собой и разговаривал.
Оставаться еще каким живым и осмысленным и при этом вполне безмятежным — задачка для текста крайне нелинейная, особенно для русскоязычного, с нашей-то осененной парой столетий непрерывной античной трагидрамой. Олегу Зайончковскому, очень умеющему русский язык, это без натуги удается. В "Счастье возможно" некий писатель мается над романом, который надо сдать в срок, от него (без драм) уходит жена — и возвращается, его герои обретают каждый свое ма-а-аленькое, но счастье, какое каждому из них по сердцу. В "Загуле" обычный дядя ссорится с супругой и выскакивает из квартиры ненадолго, проветриться, и застревает в загуле... э-э... несколько дольше, чем собирался. Потом возвращается, и всё встает на свои места. Никаких планетарных озарений, революций и великих смыслов. При этом запихивать такое в ящик "маленького человека" или "великолепных мелочей, из которых состоит жызень" тоже незачем, поскольку и на это уже нарос некоторый пафос. Зайончковский пишет романы-почти-хокку, это красиво, обаятельно, очень по-человечески, и во всем высказывании целиком, в романе в целом, что в одном, что в другом, и есть округлая безоценочная мысль, что как-то оно всё в итоге налаживается, а по-настоящему хэппи-энды, равно как и по-настоящему агли-энды, — все же редкость, хоть литература и регулярно доказывает нам обратное, пусть и не всегда безосновательно, с пеной у рта.
Зайончковский, да, утешает и успокаивает в некотором смысле, хоть сахар в шоколаде и не сервирует. Он в свое время счастливо обрадовал меня ровно тем, что можно и не вопить, но при этом создавать профессиональные, прекрасно сделанные, тугие сказы, в которых временами замечательно смешно.
Этот маленький обаятельный роман выйдет в этом году в издательстве "Фантом Пресс", где традиционно публикуется весь Коу.

Вот прочитаешь что-нибудь такое уютное и камерное у уже маститого писателя с выраженной политической и общественной позицией, да еще и сатирика, и проникаешься к нему умильным почтением: не лень писателю выделить внимание и сочинительский/людоведческий дар на компактное по литературному времени, подробное в чертах персонажей и частное по ключевой идее приключение. Да, понятно, что это третий роман Коу 1990 г., а музыка — вовсе не частность для Коу-музыканта, а отдельная большая тема, практически в любой его книге. Да и с сатирой в "Карликах смерти" все в порядке — Коу взялся хихикать над британской панк-сценой 70-80-х. Но главное очарование для меня в этой маленькой английской литературной розе — ее главный герой Уильям, небездарный пианист/клавишник и композитор, эпитома несуразности, подобная Берти Вустеру, однако несуразность его — иного свойства, хоть и тонко вудхаусовская местами. Уильям — обсос, а повествование от первого лица, если это лицо — обсос, увлекательная и нетривиальная для автора задача. Индивидуальную эволюцию отпетого мерзавца в романе, хоть в сторону его окончательного скурвливания, хоть в сторону исправления, организовать все же проще. А вот обустроить отношение читателя к герою на основе изощренного финского стыда — высокое искусство, на мой взгляд, поскольку ведет себя герой, в общем, нормативно и, понятно, не рефлексирует свое поведение как нелепое. И если Берти Вустер — персонаж откровенно комический и, при всей нелепости, оптимистичный и даже пригодный к подражанию, в Уильяме — комизм драматический, и подражать нашему мальчику не хочется совсем, хотя его, конечно же, постоянно жалко (иногда — брезгливо жалко). В целом Уильям — это, скорее, Гасси Финкноттл, а не Берти Вустер, только наш здешний Гасси увлекается другими тритонами, не водоплавающими. И у Уильяма есть в романе своя Мэделин Бассетт, все как полагается. Вообще это прелестный подарок читателю — выстроить ловкий детективный роман так, чтобы ни один его персонаж не будил стойкой симпатии, но при этом не годился для честного полноформатного презрения: "Карлики смерти" — это шоу убедительных, детально проработанных и достоверных болванов и обалдуев. Злодей в "Карликах" все же есть, по-честному — одна штука, но вплоть до самого конца он остается в той же линейке разнообразно дуралейских героев, просто на самом липком и осклизлом ее конце. Имеются и по-честному крепкие здоровые люди — пара штук, по ним можно отмерять степень несуразности прочих. И да: эти двое, в отличие от всех остальных, живут в провинции, а все лондонские, конечно, этим городом укушены не по-хорошему.
Из дополнительных маленьких радостей: в романе есть несколько бесшовно вписанных интермедий-рассуждений о жизни лондонских спальных районов, и любая из них достойна стендап-выступления в фасоне Дилана Морэна. А еще в роман интегрирована нотная музыка, много (и ее при желании можно сыграть), и много прекрасных музыкантских шуток, подобных юмору математиков: математикам смешно, если в многометровом уравнении не к месту появляется какой-нибудь не тот корень или дифференциал, а музыкантам — если тебе, барабанщик, говорят играть "тыдыщ, тыдыщ, тыдыщ, тыдыщ", а ты вместо этого... (далее следует строка из партитуры), не обижайся потом, что все остальные в студии ржут.
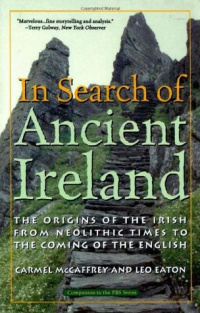
Если Ирландия вам не вторая родина и если ее история для вас не предмет завороженного внимания, пролистывайте этот эфир смело: здесь про книгу, посвященную периоду истории Ирландии между примерно 9 тысячелетием до н.э. (сразу после Ледникового периода) и до нормандского завоевания в XII в. н. э., т.е. неолит, бронзовый и железный век, крещение и средневековье разной степени мрачности.
Вы еще здесь? Хорошо. Книга Маккафри и Итона — качественный простой ликбез по этому периоду жизни Ирландии (ну и некоторых других "кельтских" территорий, не в вакууме же остров плавает, хоть он и остров), и в моей голове он расставил полезные, а временами и неожиданные якоря в ирландской эволюции. Я, к примеру, не задумывалась, что за народ обитал на острове до появления там кельтов. Мне не было известно, как ирландский язык (специально не пишу "кельтский", в книге объясняется, какую медвежью услугу оказали историки XVII века, обозвав язык, на котором говорили в Ирландии, кельтским) распространился в Ирландии. Еще мне объяснили: для того, чтобы язык прижился на той или иной территории в старом мире, прийти на эту территорию с войском совершенно не достаточно. Армия — мужчины, завоеватели, придя на чужие земли и захватив их, женятся на местных, местные рожают детей и... что? правильно! воспитывают этих детей в своей культуре, в своем языке, и захватчики через пару поколений ассимилируют и забывают свою культуру и свой язык, потому что их дети выросли и воспитаны на всем местном. Мне рассказали, как историки бодаются с закавыкой доисторического периода в конкретном случае с Ирландией — когда не было никаких записей, сплошь устная традиция. Мне объяснили, насколько современный образ (сферической в вакууме) Ирландии — политико-культурный заказ XVIII-XIX вв. Не то чтобы я этого не знала, но открылось много интересных подробностей. Попутно мне показали предполагаемое устройство докельтских поселений древних жителей острова, их быта, музыкальных инструментов, системы ценностей, социального устройства. Мне подробнее, чем я прежде знала, объяснили происхождение и принцип брегонских законов, добавили представлений о божествах древней Ирландии, их функциях и обслуживании.
Всё это вместе дает мне возможность попытаться выстроить заново у себя в голове образ Ирландии, свободный от горшков с золотом, лепреконов, радуг, шемроков и прочей стереотипии, создать для себя новую романтику этого места, чуточку ближе к "действительности", пусть она все равно будет страшно приблизительной. Как всё, на что мы смотрим сквозь толщу времени.
Эта книга выйдет в проекте "Скрытое золото ХХ века" к 1 июня с. г.
оман "Шандарахнутое пианино" можно воспринимать несколькими способами (поочередно или одновременно):
- как музей вещей. На сиюминутную вещность мира того времени роман ориентирован премного, а мы, как вы уже обратили внимание, во всей нашей серии прилежно рисуем кучу комментариев, для полноты погружения в контекст;
- как Пинчона-супермегалайт — и дело не только в фирменных "пинчоновских" каталогах, претеритах, говорящих именах собственных и море ссылок на другие продукты культуры своего и не своего времени, а в специфической буйной свободе и исследовании ее свойств и значения для героев. Для тех из вас, кто не успел еще или опасается читать Пинчона, этот роман может оказаться идеальной разминкой;
- как сатиру — точечно почти злобную — на материалистическую культуру второй половины ХХ века, но в духе Вудхауса (или Бонфильоли), если бы того родить в США и привить на него немножко Керуака;
- как поэму в прозе. При всей хулиганистости нашего автора он очень поэтичен и наблюдателен в мелочах, многая красота, в т.ч. прямо-таки ваби-саби, не ускользнула от его бинокля.
Это пусть у нас будет безэмоциональная часть сегодняшнего эфира. Далее позволю себе некоторый экспрессионизм.
"Пианино" — роман карнавальный: здесь причины поступков и обстоятельств есть, но они скоморошеские, едва ли не на бытовой магии возникающие. Есть оболтус (если смотреть на него с "квадратных" позиций) Ник Болэн и его внезапный напарник, блистательный клоун-авантюрист Клопус Дж. Кловис, (буквально) теряющий по ходу повествования необходимые любому человеку части тела, а затем и [здесь мог бы возникнуть спойлер, но нет]. Есть чеховская-в-ХХ-веке-в-США фифа Энн Фицджералд (ну естественно), во всем ищущая декоративность, памятник собственному духовному богатству (тм). Есть родители Энн, хрестоматийные мещане с претензиями. Есть тупорылое животное Бренн Камбл (ему достанется!). Есть великолепная безбрежность природной Америки и контрастный ей и проникающий в нее как парша довольно ядовитый и несуразный человеческий вещный мир. Все очень зрелищно, объемно, подвижно. И похоже сразу на пару десятков романов и фильмов и про это время и пространство, и не только. Это вообще очень киношный роман, что неудивительно, поскольку автор у нас — киносценарист, и если бы по "Шандарахнутому пианино" сняли фильм, я бы с наслаждением его пересматривала. Однако главное обаяние, искру, ощущение виражного полета и ветра в лицо в этом романе создает невысказанная медитация на свободу, ее обстоятельства, условия и цену. На чьей стороне солидарность автора, понятно примерно с первой страницы, но дальнейшие две с лишним сотни их — предметное ее доказательство, сколь угодно ехидное, а местами и горестное.

Предупрежу сразу: я не читала никакой критики и никакого литературоведения о Великой романной трилогии Беккета ("Моллой", "Малоун умирает" и "Неназываемое"), поэтому все мои интерпретации совершенно антинаучны. Толкований, что символизирует угрюмый аутичный инвалид Моллой, человек с головой, в которой участки поразительной проницательности и образованности чередуются с белыми пятнами забвения и непонимания (или отказа от него), и его многотрудное возвращение к полумертвой (или вообще мертвой?) старухе-матери, который он непрерывно комментирует в своем внутреннем монологе, а что — герой второй части, Жак Моран, сыщик, которому поручено зачем-то отыскать Моллоя (оба кончают неопределенно плохо), я вам предлагать не буду, это меня занимает в меньшей степени. Более того, "Моллоя" я читала не по-русски и потому о качестве перевода ничего сказать не могу. Простите меня.
Для меня "Моллой" — (непредумышленный, подозреваю) ответ одной из вершин Западной литературно-философской мысли самой фундаментальной мысли Востока (буддизма, окей) о возникновении и бытовании сознания и законах сансары. В буддизме, как и в любом глобальном мировоззренческом пространстве, есть глубинная основа, глубже мышления, глубже ума, нейтральные воды сознания-до-мышления, а то, что мы научены читать, т.е. воспринимать в виде текста, — многократно преломленная, упрощенная, сплющенная проекция, тень луча, прошедшего многие воображаемые километры даже не воды, а гораздо более плотной искривляющей субстанции. Над глубинами, помимо этой субстанции, в буддизме высится многоярусная надстройка, достоверный, завораживающий пейзаж космогонии — адов, раев, земель будд и прочего. Буддизм, в силу древности и, соответственно, количества людей, вперявших свои мозги в эти глубины, породил множество текстов, по настроению и посылу синонимичных "Моллою", как я это слышу: в "Моллое" есть эта нейтральная внеумственная глубина ("поток сознания" — вульгарная залапанность, не отражающая стройности и вышколенности этого предельно барочного громоздкого сооружения, какое есть первая часть этого романа, состоящая из 80+ страниц двумя (!) абзацами), контрапункт всего высказывания, вневременное и внепространственное "ом", каким его слышал Беккет, а над ним размещается очень буддийское по тону, кхм, стращание, скажем так. Стращание адами сансары. Это вполне прием в буддийской практике — показывать ученикам, что такое сансара "без прикрас и косметики" (с, Андрей Лапин) и какие перспективы у тех, кто к сансаре прикипает, любыми способами. Это не про иудео-христианскую "грешность" и расплату за нее, а про навязчивые привычки жизни, которые, согласно буддийскому мировоззрению, прилепляют человека к тому или иному пространству страдания — не в наказание, а просто из общей логики бытия, какой видят ее в этой визионерской традиции.
"Моллой" — пространство ада и непрерывного умирания, с точки зрения западного восприятия — мир не просто унылый, а вопиюще, кричаще безнадежный, проклятый, беспросветный. Но стоит пристально почитать хотя бы Бодхичарьяватару или даже просто Дхаммападу, это пространство диковинным образом озаряется. Нет, не надеждой, а чем-то другим: надежда существует во времени, это векторная величина — сейчас, в этой точке времени-пространства, чего-то не хватает, а где-то-там во времени-пространстве оно есть; надежда — вектор из "здесь" в "там". Свет Беккета — в полном, абсолютном риске отцепления от надежды. В этом смысле он у меня в голове размещается где-то рядом с Камю. Переступание через жесткий запрет западной культуры — запрет отказа от надежды — шаг колоссальной внутренней силы и смелости. По крайней мере, для западного человека. И вот этот вкус шага в пропасть мне дают любые произведения Беккета, "Моллой" — в особенности. Описать, что мне видно в этом демо-шаге (для меня он демо, конечно же, я-то сижу с книгой на диване) во вне-надежность, я не могу. Там уже нет слов.
Злоупотребление служебным положением, фаворитизм, кумовство: поскольку мой сегодняшний эфир совпал с днем рождения нашего постоянного букжокея Ани Синяткиной, я собираюсь сказать вам пару слов о ее стихах. Нет никаких сомнений, что Анины стихи должны увидеть свет с бумаги, это я вам говорю как редактор и читатель с ненулевым стажем, надо просто чуть-чуть подождать, пока их наберется на книжку.
"Хорошие стихи" в моем читательском сознании, в частности, определяются так: если поэт пишет Тибетскую книгу мертвых — он мне нравится. И если пишет Тибетскую книгу живых — тоже. И та, и другая Тибетские книги — пылкая, самозабвенная инструкция (или медиумическое вещание), сопровождающая мертвого или живого человека через испытания миров, которые этот человек проходит, посмертно или при жизни соответственно. Задача поэта, таким образом, — вести меня, читателя, своим голосом в полутемном пространстве и толковать его не вполне зримые очертания, тревожные звуки и запахи, но поэт при этом совершенно не обязан знать, что он комментирует, его миссия — сказать, что, да, он тоже это слышит, и предложить описание и метод взаимодействия с этим неисповедимым, а также просто быть рядом с идущим. Отличие такого дантова Вергилия от читателя/ведомого — в чуть большей смелости идти на полшага впереди и упреждать. И совершенно не важно, по каким чудищам и чудесам тот или иной Вергилий специалист: необходим всякий, любой слух, и на громадных драконов, и на тени саблезубых мышей. Сообщать о них идущему за поводырем требует от поводыря уязвимости и уверенности в своем слухе, вопреки тому, что ведущий рискует не меньше ведомого.
В Ане этот поводырь, на мой взгляд, несомненно есть.


Мои любимые детские книги написаны не "для детей", и поэтому из них нельзя вырасти. Они сочиняются для дальнейшей совместной жизни и чтения среди граждан, которые по убеждениям взрослые, и граждан, которые по убеждениям дети. Взросление для авторов таких книг — смена убеждений, в некотором смысле неизбежная. Относиться к убеждениям другого человека уважительно — гуманно, здорОво и логично. Особенно к обоснованным убеждениям. Люди, которые по обоснованным убеждениям дети, имеют в жизни свои плюсы и минусы — а как иначе? За свои убеждения всем из нас приходится чем-нибудь платить. Чем старше мы делаемся, тем отчетливее это становится.
Так вот. Вера написала 28 стихотворений, в которых уважение к убежденным детям и к их мировоззрению абсолютно. Вера, со всей очевидностью, к этому мировоззрению расположена, увлечена им и понимает его настолько полно, насколько это возможно для человека, по убеждениям и по необходимости взрослого. И восхищается им так, как умеют художники в любом жанре: внимательными веселыми глазами.
И да, как во "взрослых" ее книгах, Верин фонтан изобретательных рифм, щедрое разнообразие метрик и памятность образа и намерения в каждом тексте — это, конечно, праздник и большая радость внутреннему уху. Независимо от убеждений читателя. Такие книги, хоть поэтические, хоть прозаические, можно и нужно читать вместе и по одиночке, а потом, перебивая друг дружку, делиться, как это было — дождь, варенье, птицы, машинки и власть над вселенной — в поры наших самых первых, самых непреклонных, самых ярких убеждений.
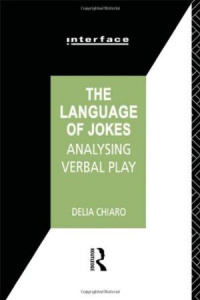
Британское издательство "Раутледж" занимается изданием научных и научно-популярных книг по гуманитарным дисциплинам примерно с середины XIX в., в бэк-листе у этих людей 70 с лишним тысяч титулов, по пять тысяч титулов в год одних только книг печатают. Вообще история "Раутледжа" достойна какой-нибудь Би-би-сишной документалки: в 1836 г. компания началась с провального тиража некоего путеводителя, зато набрала обороты за счет пиратской печати "Хижины дяди Тома", что позволило заплатить 20 тыс. фунтов сэру Эдварду Булвер-Литтону, невероятно популярному в те поры писателю, за эксклюзивные права на 35 его книг. К слову, это Булвер-Литтону мы благодарны за выражения "Перо сильнее меча", "всемогущий доллар" и некоторые другие, а также за одиозный теперь уже беллетристический зачин "Стояла темная бурная ночь".
Так вот, среди многочисленных серий "Раутледжа" есть серия "Интерфейс", посвященная функции, собственно, языка в литературе, и вот в этой серии я откопала небольшую монографию о языке шутки, опирающейся на игру слов. Мне много лет интересна тема устройства смешного: почему, с какой целью и в каких обстоятельствах люди смеются, как устроен смех в одиночку и коллективный ржач, что он меняет внутри человека, как срабатывает или не срабатывает внутри одной культуры и между разными, как меняется со временем и пр., и пр. Ну и, конечно, интересуют меня и прикладные стороны этой темы, поскольку переводить смешные книги — самое любимое мое занятие.
Делиа Кьяро — лингвист с мировым именем, академически занятая аккурат бытованием шутливой игры слов в разных языках, задачами перевода шуток и их культурной обусловленностью. Понятно, что многое из ею объясняемого интуитивно очевидно, однако такие работы, когда уже сколько-то провозился на практике с задачей, полезны и хороши умением автора систематизировать и обобщать эмпирику. Порядок наводить. И Кьяро это прекрасно удается, и, хотя, разумеется, эта книга не претендует на полноту, в ней есть замечательные схемы (!) устройства некоторых шуток и анекдотов, не самые очевидные примеры сильно завязанных на культуру того или иного (европейского) языка словесных трюков и как с ними можно обращаться в переводе, классификация (англоязычных) шуток по их формальному устройству (нарративные, стихотворные, формульные, а внутри этих категорий — более частные), а также контексты, письменные и разговорные, в которых игра слов уместна — и почему.
И, конечно, море пользы от этой книги — еще и в прилагаемом списке литературы. Он вызывает одновременно восторг и ужас — как любые списки литературы, которые немедленно хочется осилить.

Этот эфир можно было бы, вообще-то, свести к одной умеренно длинной фразе: эта книга прописана тем, кому в детстве не хватило Джералда Даррелла, а заодно и в целом тем, кто через книги приникает к лучшей, самой безмятежной стороне своих юных лет. Динец, судя по этому тексту (я не читала его ЖЖ во времена ЖЖ), — такой же счастливый полоумный маньяк всего живого на этой планете и самой этой планеты как пространства для сломя-голову-маневра, каким был Даррелл (и Кусто, и Дарвин, и Хейердал, и некоторые очевидные другие).
Тексты влюбленных маньяков читать целительно и вдохновенно — если абстрагироваться от зависти, неизбежной при таком чтении у любого, свободного от совсем уж клинических неврозов и фобий. Впрочем, эти же тексты — и свойства этой самой зависти — полезны для доопределения собственных магнитных линий жизни, через отрицание. Нет сил как прекрасно мотаться робинзоном по миру, да не просто так, а вслед за путеводной звездой неутолимого предметного интереса, однако отчетливо понятно и другое, не менее полезное: если с твоей жизнью этого не происходит, значит, твоя путеводная звезда и твои магнитные линии устроены иначе.Такое понимание тоже ценно.
Тем не менее, для тех из нас, кому не показано по внутренней генетике спать под звездами на тайных горных плато, куда нога человека до сих пор ступает после дождичка в четверг, красться нагишом по бразильским джунглям за редким ленивцем, нырять с маской в китайских озерах-старицах в наблюдениях за местными кайманами, выживать в чукотской тундре святым духом, бегая за исчезающим куликом, и ухлестывать за боливийскими девицами по дороге к заповеднику, где водится особый крокодил, показаны вот такие книги и это особое безумие, каким, скажем честно, все еще жива эта планета вообще и наш биологический вид в частности.
Динец написал вполне личную, темпераментную и по-даррелловски увлекательную книгу, со множеством фотокарточек, в т.ч. цветных. Это отчет о диссертационных подвигах, посвященных исследованию специфического брачного поведения у семейства крокодиловых (аллигаторов, кайманов и, собственно, крокодилов). Из этой книги я узнала прорву фактов об этих пресмыкающихся, и меня совершенно не тревожит степень их практической применимости к моей отдельно взятой жизни. Именно это небеспокойство меня отдельно чарует в ощущениях от подобных книг, его можно считать признаком прекрасности той или иной книги в жанре нон-фикшн. И, конечно, много чего нового, в т.ч. и практически применимого, я узнала о нескольких десятках стран (и устройстве широко понимаемого эко-туризма в них), где побывал Динец и которые щедро и бодро описывает.
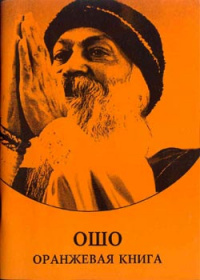
Ошо всю дорогу переводили на русский до уныния так себе. Тому есть несколько причин, одна из них (не главная) — что он не писал своих текстов, а произносил их на лекциях-даршанах, за ним писали на аудио, а затем расшифровывали записи. Как любая устная речь, она, с одной стороны, живая и непосредственная (а в случае Ошо еще и минимально замусоренная междометиями и меандрами отступлений, ведущих в никуда), а с другой — все же устная, как ни крути. Сделать устную речь в переводе и максимально близкой к исходнику, и при этом полноводной и, просите, русской — немалая переводческая задача, особенно если лексика говорящего — не шекспировская, и с синонимами и бОльшими структурами и их разнообразием там не очень-то покрутишься. Я много слушала записи Ошо, он живой, веселый, предельно осознанный оратор, в оригинальных (англоязычных) текстах это есть, а вот в переводах на русский — почти нет. Однако применительно к "Оранжевой книге", например, с облезлым переводом смириться легче, нежели в других его беседах, поскольку эта книга — методичка по "бытовым" медитациям, причем, вероятно, лучшая из всего, что я видела на эту тему.
Для тех, кто глубоко не в теме: Ошо Раджниш — современный (уже покойный) индийский мистик-синкретик, знаменитый своими практиками для человека наших времен, т.е. светского горожанина с кучей дел, забот, неврозов, да еще и проживающего в северных широтах (где темно, холодно, индивидуализированно и экзистенциально бОльшую часть года). "Оранжевая книга", вышедшая в начале 1980-х, объединяет основные наработки Ошо в части и катарсических, и спокойных практик, доступных в техническом выполнении любому человеку, решившему наконец хоть как-то поработать с качеством собственного сознания и, в конечном счете, с качеством самой своей жизни. Не хотите делать "Натарадж" (в базе — танцевальная практика) или "Динамическую медитацию" (там надо орать, скакать и вообще беситься, примерно полчаса) — делайте 15-20 минут в день, перед сном, "Золотой свет" (лежа в постели, дыша неким незамысловатым образом и представляя кое-какую немудрящую красоту, в книге написано, какую именно) или несколько раз в день по одной минуте "Стоп!" (просто прекращайте делать, что бы вы там ни делали, и минуту просто дышите и наблюдайте за мыслями, не бегая за ними). В книге собрано несколько десятков таких практик для суматошных и ленивых, вроде нас с вами, их простота и красота — болезненный удар по отговоркам и уверткам от такого творчества жизни, которых у нас в головах — по полсотни штук на брата.
И да: я знаю, о чем пишу — я саньясинка Ошо с 2001 года и многие предложенные практики пробовала, а кое-что делаю до сих пор. Работает. Ом шанти шанти.

Русскоязычную прозу я читаю мало, оговорюсь сразу. И поэтому утверждая, что ныне пишущих авторов, гарантирующих мне одним своим именем на обложке незабываемое чтение, у меня раз-два и обчелся, я приглашаю вас иметь в виду мою хилую начитанность в современной русской прозе. Тем не менее, имя "Мария Галина" для меня — эта самая гарантия.
"Автохтоны" — книга об узорах пространства-времени, об искусстве, истории и мистической топографии города. Возможно, таков идеальный город, идеальное пространство людей — место, где, при должной увлеченности и бесстрашии исследователя, отменяется пространство-время; это такой портал в точку-схождения-всего. Прототип города, где происходит действие романа "Автохтоны", угадать нетрудно, однако совершенно не важно, на мой взгляд, что именно это за город. И не факт, что я понимаю, каково жить в таком городе. Однако навестить его и побыть в нем сколько-то я бы, конечно, мечтала. Хоть и боязно. Марии Галиной всегда удается — сейчас очень неймется помянуть Стругацких, Борхеса, Гоголя и еще пару миросоздателей, но будем считать, я это уже сделала (или наоборот — не сделала) — с минимальным видимым усилием создать абсолютно достоверную чертовщинную реальность, куда хочется и где жутко. И где интересно, (остро)умно и невероятно поэтично.
Желаете, словом, оказаться в точке, где сходится весь ХХ век разом, где река перерождений описывает петлю Мёбиуса, где вечный новый год, где вас, читателя, начнут узнавать в кафе, где всё туго сцеплено между собой, но взгляд ни с кого сводить нельзя (потому что они могут враз переродиться в нечто довольно чудовищное), — отправляйтесь к "Автохтонам".
Роман готовится к выходу в проекте "Скрытое золото ХХ века", ориентировочная дата издания — 01.04.2017 г., по ссылке же можно прочесть о Магнусе Миллзе.
Об одном из двух переведенных на русский язык романов Миллза ("Загон скота") см. тут и тут.
Если вам дорога ваша жизнь, не ходите гулять на болота. Если вам дорого всё вопиюще английское — минимум слов, предельная экономия в высказывании, пресловутый "сухой юмор", облагораживающий труд на свежем воздухе, деревни, пустоши, овцы, спорная погода, бережное обращение с эксплетивами и прочими эмоциональными выбросами энергии — впадайте в Миллза, как впадаю в него я.
Но это всё гарантированные предварительные... э-э... удовольствия.
Миллз вообще и этот конкретный роман в частности — саспенс безмятежного (вроде бы) быта и ежедневки, упоительной рутины, покоя и благолепия, это жуть Линча, размещенного в замке Бландинг. Однако и это — часть гипнотического воздействия.
Для меня лично "В Восточном экспрессе без перемен" — о нескольких острых для меня вечных темах для размышления и, скажу вам честно, нервотрепки и домыслов об окружающей среде:
1. о том, что человек решает за себя сам, что — он и другие люди рядом, сознательно, а что — другие люди за него, т.е., вообще говоря, об общественном договоре, необходимости/факультативности его исполнения и подлинных и мнимых карах, постигающих нарушителей;
2. о том, что такое в человеке его истинная воля — к действию, к покою, к выбору и пр.
и, наконец,
3. о неисповедимой бухгалтерии взаимных одолжений, о равновесии оказанных друг другу услуг, помощи и иного участия, о благодарности и ее формах и проявлениях.
Я, признаться, не упомню текста столь же лаконичного, прозрачного, ювелирно сцепленного и подвязанного. Это прям серия офортов — даже не акварелей: каждый штрих из совершенно необходимых (и не более) — на своем месте: и формулировки бесчисленных вопросительных оборотов по всему роману, и эмоциональный строй диалогов, и предложенная предметная среда, и звуковая картинка романа, и то, что имя рассказчика (роман от первого лица, в манере подробного почти дневникового изложения событий) мы так и не узнаем, и речевые характеристики последнего введенного по тексту персонажа, и полная парковка всех запущенных в этот пруд радиоуправляемых яхт. Это методическое пособие, как собрать из десяти досок шедевр северного зодчества без единого гвоздя. "Теплое" остранение, доверие читательскому чутью на равновесие, правду и устройство каждой явленной в тексте натуры. Восторг, восторг.

Стихи я читаю наскоками, в поэтов либо влюбляюсь со второго-третьего текста, либо не влюбляюсь, и во втором случае бывают разные варианты: отхожу, пятясь, с почтением, бия поклоны; ухожу тихо, пока на меня не обратили внимания; ухожу шумно, демонстративно. Последнее — редкость. Впрочем, возможно, это оттого, что поэзию я читаю куда реже прозы. В Патрика Кавана я влюбилась сразу, но это однозначно мой личный тик: он, во-первых, ирландский, а во-вторых, "регионалист", скажем так, а мое обожание Ричарда Хьюго — певца Тихоокеанского побережья Штатов — широко известна (среди меня и моих друзей).
Ирландца Кавана я люблю за его ирландскость, простите. В смысле, он художник-акварелист с хирургическим зрением на свои края, художник-летописец, влюбленный по-честному, не слепо, в свой остров, в это чудо и проклятье любого зрячего ирландца. Конечно же, Кавана легко любить за его образы, за его щедрую, богатую ворчливость; он женат на Ирландии, с рождения, этот брак — бурный и сильный, со взаимными восторгами, стычками, спорами, раздражением и нежностью. Я готова и хочу видеть Ирландию его глазами — и любить ее как сестру намного старше меня.
Ну и, конечно, то, что Кавана был другом/врагом Флэнна О'Брайена, лишь добавляет моей симпатии кухонно-родственный оттенок.
Черные мои холмы не видели ни разу, как восходит солнце, Вечно глядят они на север, к Арме. Лотова жена не стала б солью, если б оказалась Нелюбопытной, как черные мои холмы, довольные, Когда рассвет выбеливает часовню Глассдраммонд. Мои холмы копят каждый сияющий шиллинг марта, Покуда солнце шарит по карманам. Они мне Альпы, я взбирался на Маттерхорн С охапкой сена трем телятам чахлым На поле под Великим Фортом Роксавидж. Ветер ледяной рвет тростниковые бороды Шанкодаффа, А пастухи, попрятавшись в Фотерна-буш, Поглядывают вверх и говорят: "Кто им хозяин, холмам голодным этим, Что брошены давно камышницею и бекасом? Поэт? Тогда, ей-богу, нищий он уж точно". Я слышу, и мое сердце не потрясено ли?
порога влобовую скажу: среди многих прекрасных подарков романа "Архив Долки"*, последней большой прозаической работы О'Брайена, есть один, который мне, возможно, дороже прочих. И, в частности, поэтому про сюжет романа ни в коем случае нельзя вываливать никаких спойлеров. В "Архиве Долки" О'Брайен небывало, невероятно для всего себя прочего откровенен о себе самом. Ближе к тому, кем О'Брайен был "на самом деле" как человек, он ни в одном своем высказывании не подходил, а для человека его натуры — настолько ранимой, самоедской, с постоянным стробоскопом неполноценности/сверхполноценности, да еще и для неуехавшего представителя ирландской богемы ХХ века под сенью Джойса — это настоящее испытание. Читая этот текст, я поневоле затаивала дыхание: О'Брайену уже давно все равно, что думают о нем его читатели, но никак не отмахнуться от чувства, что застенчивый, замкнутый, очень горестный внутри себя паяц, не стаскивая с головы колпака, внезапно меняется в лице посреди очередной сатирической тирады и обращает свои стрелы и дротики на себя самого. Роман написан от третьего лица, быстро становится ясно, что на все происходящее мы смотрим глазами Мика, а не Хэкетта**, и именно Мик — альтер-эго автора, пусть автор до самого конца и не признается в этом целиком (Де Селби — его суперэго, простите за этот кухонный фрейдизм; кто в романе ид автора — оставлю решать вам). Я до конца не верила, что О'Брайен вообще способен себе такое позволить, но биография, написанная Кронином, подтвердила: способен-способен. Вряд ли О'Брайен знал, что через пару лет после окончания возни с "Архивом" его самого не станет, и потому считать это предсмертной исповедью не стоит вовсе. Да и в переписке и в многочисленных разговорах с издателями и друзьями об этом романе О'Брайен старательно делал вид "я не я и шапка не моя", но зная все, что мы теперь можем знать об авторе и его методе, понятно, что шапка все-таки его.
Что же до прочих подарков, их тут навалом. Привет старым друзьям и идеям из "Третьего полицейского" — и совершенно плевать на закулисную историю этого привета: да, О'Брайена до конца его дней удручал отказ издателей опубликовать "Полицейского" (мы-то теперь знаем, какую офигенную штуку они проморгали) и он потаскал оттуда то, отчего не готов был отказаться навсегда. Привет старому Дублину и окрестностям, легендарной топографии, речи, обитателям; весело-горько в очередной раз видеть сложную любовь О'Брайена к атмосферному явлению "Джойс" и его неустранимым последствиям для литературного восприятия того времени. Да и сам Джойс, как всем, кто читал об "Архиве" хоть что-то, известно, в "Архиве" имеется, живой и невредимый, хотя О'Брайен — из все того же неисповедимого своего к Джойсу отношения — наделил его парой несуразных комичных черт. Привет невообразимым барочным кудрям письменного стиля О'Брайена, которыми он во всех своих романах высмеивает выспренность и высокие котурны ирландского возрождения и бузит против них как против воплощения дурновкусия. Привет католицизму, ирландской набожности, христианским представлениям о добродетели и пороке — и О'Брайеновскому отношению ко всему этому, едва ли менее сложному и неоднозначному, чем у Джойса. "Архив Долки" — самое чеховское из всех высказываний О'Брайена, и потому привет парадоксу, ради которого, как мне кажется, этот роман написан: как возвышенные ангелические замки в голове у отдельно взятого человека, опрятно выстроенный гладкий мир/миф рушится, как карточный домик, о будничные, комические в своей пошловатости обстоятельства, и как умозрительный героизм и спасительство трогательны рядом с обыденностью, куда более могучей и полновластной, чем любые царства фантазии. Что эти самые царства, впрочем, не обесценивает. В этом и парадокс.
*Ожидайте издание на русском языке в июне-2017, в рамках программы Додо Пресс/Фантом Пресс "Скрытое золото ХХ века".
**О'Брайен очень любил собак и вообще животных, открыто гордился, что умеет легко налаживать с ними общение, находить общий язык. Последнего пса О'Брайена звали Хэкетт.

Биографии — жанр коварный; знал биограф или нет свой предмет лично — источник разных, но равновеликих опасностей. Легко свалиться и в энтомологически брезгливый тон, и в восторженное бульканье; ни то, ни другое не "плохо" в принципе, но меня, читателя, знакомит при этом не столько с предметом биографии, сколько с биографом. Выбор самого важного в жизни описываемого человека — тоже дело тонкое и, разумеется, не может быть математически точным: даже сам человек, хозяин собственной биографии (с), много раз за жизнь меняет представления о том, что важно в его жизни, а что нет. Да и что значит "важно в жизни"? Черт его знает.
Флэнн О'Брайен для меня — человек и писатель совершенно завораживающий. "Любимый" не в значении "единственный", а именно в значении мишени моей любви. И биография, составленная Кронином, восхищает меня именно тем — совершенно, 100%-но субъективно — что он вложил персону (вернее, многие персоны) О'Брайена в сложный ложемент времени, людей и обстоятельств, в которых наш автор действовал. Эту книгу имеет большой смысл читать всем, кому интересна история ирландской богемы, культуры, Дублина первой половины и середины ХХ века. У Кронина получилась диорама дублинской жизни не менее яркая, красивая и честная, чем у Джойса в "Дублинцах", просто Кронин, в силу выбора предмета разговора, интересовали в первую очередь писатели, журналисты, критики и городские политики и администраторы, а эта призма ни чем не хуже и дает не менее ценное представление о жизни города, чем любая иная людоведческая. О'Брайен Кронина совпадает с тем, что слышно в многолетних колонках Майлза на Гапалиня, эволюция этого человека совершенно живо и трехмерно сливается с издававшимися — неровно, неравномерно, рваным пунктиром — романами О'Брайена/Майлза. Грамотная биография любимого автора — необходимое дополнение к его работам, и то, что О'Брайен не писал ничего хоть сколько-нибудь откровенно биографического, пусть и непрерывно заимствовал из своей жизни и настоящих обстоятельств, на мой взгляд, прекрасно и правильно: таков закон театра О'Брайена, четвертая стена никогда не должна быть обрушена, хоть сам О'Брайен дорого заплатил за соблюдение этого закона. И здоровьем, и внутренним покоем, и, возможно, многим ненаписанным.
Кронин знал и любил О'Брайена, имел прямое отношение к той тусовке, память на слова и обстоятельства у него хорошая и спокойная, портреты людей одновременно и живые, и не карикатурно перераскрашенные, и потому слушать голос этого явно доброжелательного очень взрослого человека неимоверно приятно, и, когда книга заканчивается, жаль, что у О'Брайена жизнь оказалась всего 55-летней, не только потому, что мы, возможно, оказались обделены еще парой-тройкой прекрасных модернистских высказываний, но и потому, что биография его на этом неизбежно завершается. Напиши Кронин биографию Дублина ХХ века, любой толщины, я бы с восторгом ринулась ее читать и, подозреваю, эта книга могла бы оказаться лучшим монологом об этом городе: наблюдательным, спокойным и тихо, без слюней и размахивания руками, любящим. Биографы с голосом как у Кронина, мне кажется, — мечта любого творца. Да и друга такого иметь — большой подарок жизни.
PS. История добычи этой книги — отдельный анекдот. Нет, она не оцифрована и прочесть ее можно (пока) только в бумажном виде. Нет, ее не допечатывали, это умеренная букинистическая редкость. Мы перерыли все книжные в нескольких ирландских городах, прежде чем совершенно случайно, на самой неочевидной полке в старейшем книжном в Корке не напоролись на этот корешок, упершись в него глазами, хотя стоять эта книга должна была вообще на другом этаже, и местные сказали нам, что это небрежность кого-то из покупателей или персонала.
PS2. Иллюстрация на обложке — картина одного заслуженного ирландского художника Роберта Баллаха, писавшего много чего на тему Пасхального восстания (к которому у О'Брайена было сложносочиненное отношение, как, впрочем, и у некоторых других интеллигентов того времени, свободно владевших ирландским и любивших/ненавидевших многое в Ирландии, однако по массе не самых очевидных причин так ее и не покинувших. Ничего не напоминает, кстати? ;) ). На выставке Баллаха мы были все равно. Хорошая выставка.
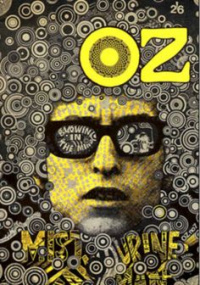
По-русски книга выйдет в издательстве ЭКСМО в некоторое ближайшее время, в переводе Макса Немцова (кроме него мало кто осилил бы, верьте слову).
Давайте так: доставит ли вам удовольствие этот текст? Чтобы ответить на этот вопрос, придется хорошенько доопределить "удовольствие". "Тарантул" — точная, очень осознанная серия сновидческой поэзии в прозе молодого гения слов и наблюдений, политически увлеченного, музыкально "начитаннного", в разгарх 1960-х, но до лета любви. Вы получаете удовольствие, слушая пересказ чужого сна человека, отделенного от вас во времени полувеком? Не торопитесь отвечать.
Записывать сны, подпуская к этому занятию бдящий ум лишь в очень регламентированном режиме, куда сложнее, чем может показаться. Нет, это не автоматическое письмо нисколько — как не автоматична живопись фасона "Искушения Св. Антония". И это не метод Керуака или Барроуза. И не отписка тогда уже вполне легендарного рок-н-ролльщика а-ля "драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота" — ради денег или захвата умов и через изданный текст. И не графоманская белиберда в целях выпендриться. Это в некоторой мере герметичное высказывание прекрасно отдающего себе отчет в написанном читателя Кэрролла и Лира. Здесь много ловкой игры в слова, много интересных наблюдений за уличной речью, изрядно социально-политической злободневки того времени, очень много американской музыки первой половины ХХ века.
Ну хорошо. Раз это, положим, сновидческая запись, значит, должен получаться некий символический портрет подсознания автора, так? Тут мне ответить нечего: Дилан создал маленький, но невероятно плотный и шарадный текст, путаный лабиринт, и выловить там автора, зная его только по его публичной жизни, — задачка почти не решаемая, а сам Дилан не сделал ничего, чтобы читателю стало проще в этом отношении. Это само по себе интересное явление: в подобном с виду трансовом высказывании нет дешевой "загадочности", но нет никаких попыток быть прозрачным, понятным снаружи. Это не шифровка со звезд, и поэтому к ней нет ключа, хотя это не означает, что этот текст не подлежит прояснению в голове у читателя. Точек входа в этот лабиринт предостаточно — и через упоминаемые в изобилии культурные реалии, и через яркие выразительные словечки, и, особенно, благодаря внезапным прозрачным окнам чеканных, афористичных формулировок, если и сновидческих, то из того времени сна, которое на грани пробуждения, совсем утром.
Вернемся к исходному вопросу об удовольствии. Да, можно. Это не удовольствие сантимента, гладкой складной истории, катарсиса от эволюции персонажей. И это не в чистом виде церебральная игрушка, удовольствие от которой — забороть ее, вскрыть ларец, достать яйцо кащеево. Это медиумический сеанс, где вы постепенно понимаете, что здесь все без обмана.
Ричард Бротиган
Конь со спущеннной шиной
Когда-то в некую долину
спустился
с неких златосиних склонов
пригожий юный принц
под ним был
зорецветный конь
по имени Лордсбёрг.
Люблю тебя,
Ты дышащий мой замок
Все нежно, очень нежно
Жить нам вечно
В долине той
жила прекраснодева,
принц постепенно вплыл
в любовь к ней,
как некое Нью-Мексико возникло
из яблочной грозы и длинных
парников.
Люблю тебя,
Ты дышащий мой замок
Все нежно, очень нежно
Жить нам вечно
Очаровал принц
деву,
и на зорецветном
коне по имени Лордсбёрг
они помчали
к златосиним склонам.
Люблю тебя,
Ты дышащий мой замок
Все нежно, очень нежно
Жить нам вечно
И жить бы им
долго и счастливо,
если бы у коня
не спустило шину
прямо напротив драконьего
дома.
Пер. Шаши Мартыновой, первая публикация на http://dystopia.me/

Родная дисциплина время от времени призывает меня в денщики: моим первым издательским проектом стал том "Химия" в коллекции энциклопедий "Аванты+", в 2000 году, сразу после вуза, и этот почти случайный визит в книгоиздание решил мою профессиональную судьбу навсегда, похоже. Год с чем-то назад "Фантом Пресс" заказал мне перевод тома "Химия" из британской серии "50 идей".
Хэйли Бёрч написала милый, хорошо придуманный обзор по химии с сильным креном в материаловедение, привет "Химии и жизни". Пожалуй, в ряду моих переводов для этой серии ("Будущее", "Архитектура", "Математика", "Мозг" и "Химия") этот текст — самый развлекательный и "юзер-френдли". Хотя я, возможно, рассказала бы больше про поразительные штуки в самой химии, той самой, которая разнообразно пахнет, про ее роскошную совершенно детективную историю становления, про подвиги химиков, а не про ультрамодную сверхсовременную науку о материалах. Но это я бухчу с позиций химфаковской методологии преподавания. Прекрасно было б собрать такую книгу именно о современных материалах, топливе, лекарствах и прочем нужном житейском. А вот химию, будь моя воля, я бы давала той, которая граничит с магией. Однако энтузиазм и задор Бёрч все же убедительны, и книга потому получилась хорошая, пусть в ней лицо химии — и не исшрамленный хулиганский лик Парацельса, а опрятный улыбчивый доброго Терминатора. Впрочем, она действительно теперь совсем другая. Даже по сравнению с той, какую учила я.

Эту пьесу Беккета называют "самым влиятельным драматургическим произведением ХХ века". Запросто так и есть, по-моему. Беккетово оголение скелетов способствует одновременной жизни такого количества интерпретаций, что человечеству хватит на игры еще много веков вперед. О театре Беккета и о каждой его пьесе в отдельности написаны тонны диссертаций, на этих скелетах универсальных животных далекие грядущие поколения и разумные гости нашей планеты смогут (пытаться) изучать нас теперешних.
О символике этой пьесы я писать не буду, по массе причин. В частности, потому, что сам Беккет с неприятным изумлением говорил, что не понимает, зачем публика так всё усложняет: дескать, все же прозрачно, просто. И мне кажется, что вот это разрешение автора воспринимать его текст "по-детски", как можно непосредственнее, и есть один из ключей к нему. Это ключ, который не отпирает ее смыслы — в линейной развертке, списком, по каталожным ящикам или еще как-то, — а позволяет не маяться неизбывным читательским желанием понять в значении "проконтролировать".
В целом, готовность читателя не контролировать автора, а, доверяя ему, идти за ним из-умленно, — источник особого рода читательского наслаждения. Мне самой оно открылось сравнительно недавно, и оно не мешает мне колупаться в отдельной песочнице с кубиками Рубика, которые я себе вижу в том или ином тексте. Можно и читать всякое дополнительное про освоенный текст, т.е. смотреть, как крутят кубик Рубика другие умы. Но вот этот тайный мир непосредственного простого восприятия написанного Беккет дарит в любой своей пьесе, для меня в этом его учительство и новаторство, потому что, понятно, именно то, что в результате такого восприятия достается мне, читателю, — мое и только мое, это моя уникальная встреча с текстом, тогда как комбинации сборки кубика, сколько бы их ни было, исчислимы и согласуемы между разными читателями. И да: подобный навык "простого" восприятия ценен далеко не только в чтении.
Последнее, что мне нужно от этого эфира, — это бередить амбивалентно-созидательный хаос, воцарившийся вокруг издания романа по-русски этим летом. Там, по-моему, все уже было пережевано в труху, все обмены... э-э... любезностями состоялись, и всевозможное и очень разнообразное по качеству внимание это издание получило. Я тут хотела бы занести в протокол буквально пару соображений о том, что дает чтение таких текстов не на смысловом уровне, а на уровне, простите, навыков чтения, хоть по-русски, хоть по-английски.
Да, некоторые книги я лично, даже когда понимаю странице к тридцатой, что просто мне не будет отсюда и до выходных данных, что это ежеабзацный труд, что лопату отложить мне дадут хорошо если разок-другой на главу, что комические разрядки есть, но отдохнуть на них я не успею, все равно продолжаю читать, пусть и небыстро. "Край навылет" — далеко не самый трудоемкий для меня как для читателя роман (по сравнению с "Радугой тяготения" — вообще тра-ля-ля), и все же это такие "американские горки", где свою тележку наверх ты вталкиваешь сам, а потом оттуда уже немножко скатываешься вниз, в порядке передышки. Однако лишь такие тексты, во-первых, максимально близко эмулируют то, как устроена действительность — в ее одновременности всего, непостижимой многомерности и тайнах, и чтение их, как фаза быстрого сна, — некоторая тренировка сознания в безопасных условиях "теплого клетчатого пледа", т.е. дома (в метро я такими книгами предпочитаю не заниматься, внимание рассеивается). Во-вторых, меня такое чтение натаскивает, как ни странно, на трудные разговоры с людьми, у которых голова устроена частью идентично моей, а частью — кардинально, устрашающе, совершенно не как моя, поскольку чтение для меня — это своеобразный, но диалог с альтер-эго автора, представленным в тексте. В-третьих, в конце будет двойной приз: преодолел припятствие и обрел какое-никакое понимание прочитанного, следовательно, обогатился.
И поэтому, в конечном счете, для перевода таких текстов важен максимум осознанности переводчика и вытекающей из нее цельности подхода к тексту как к целому. Если я понимаю логику подхода, остальное уже дело третьестепенной важности, поскольку именно логика просвещенного переводчика — один из ключей к тексту, и по смыслу, и с точки зрения метода чтения.
PS. Одна моя коллега-переводчик, которой Пинчон в целом не близок, но к его текстам она относится с уважением, как-то раз сказала, что Пинчона надо читать, слегка склонив голову набок, и тогда все встает на свои места.
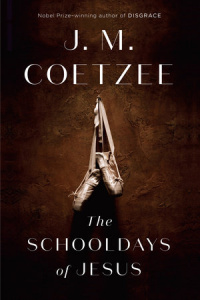
С романами идей такая штука: спойлерить применительно к ним — это вываливать с порога не повороты сюжета, а повороты собственного ума в связи с прочитанным. И поэтому дальше будут такие вот спойлеры, потому что оба эти романа Кутзее, подобно, скажем, Пёрсигову "Дзэну...", сюжетом обслуживаются исключительно ради идей, которые автору важно обсудить.
Второй частью дилогии округляется мысль об устройстве этой действительности, с авторской т. зр., как я ее понимаю: в любой жизни (из прошлых, текущих и грядущих) по закону мироздания полагается спаситель. К спасителю прилагается его свита, она сгущается вокруг него по законам некоторой жизненной кристаллохимии (кто знает, что такое ячейки Браве, поймет сходу). Спасать человечество есть много от чего, и поэтому спаситель в каждом варианте жизни спасает от разного (от чего именно собирается спасать человечество мальчик Давид, вы узнаете, прочитав роман). Модель кристалла всегда опознаваема, но кристалл всякий раз не такой же, отличный от предыдущих и будущих. теория реинкарнации приобретает отчетливое звучание: перерождаются наборы свойств и взаимных связей, а не их носители.
И да, милая частность на ту же тему: Хуан Себастьян и Ана Магдалена Арройо — простой, но изящный трюк с именами. А золотые балетки, которых на Симонов размер ноги в этой реальности нет, но он все равно находит способ их натянуть, тогда как Давиду они сразу по ноге? Красота да и только, играйся в эту идею сколько влезет. А таких в этой небольшой книге не по одной на абзац.
Еще несколько задачек для любителей читать книги в режиме "покрутить кубик Рубика":
1. почему часть персонажей имеет фамилии, а часть — нет, при этом приведенные фамилии частью ничего особенного не говорящие, частью говорящие то-сё, а частью — прямо-таки вопящие
2. почему Эстрелла по своему бытовому укладу так радикально отличается от Новиллы
3. вся эта свистопляска с Достоевским и его Карамазовыми (особенно с растворенным много в ком Иваном)
4. платоновщина vs протагоровщина
5. нумерология и пифагорейство
6. эзотерика vs экзотерика
7. треугольник "страсть-бесстрастность-разум" (по идее, дилогия должна бы дорасти до трилогии)
8. суд божий vs суд человечий и как первый возник по образу и подобию второго
9. что на самом деле такое — фигура, подобная Иисусу, если абстрагироваться от всего, что мы привыкли про нее думать/понимать, и кто в дилогии Кутзее на самом деле Иисус (совершенно не обязательно Давид, между прочим)
10. почему библейские цитаты вложены в уста исключительно Дмитрия, который утверждает, что родился уже в Эстрелле (отдельный разговор, почему одни люди в мире этой дилогии рождаются "на этом берегу", а другие приплывают на кораблях) и, по идее, должен быть не в курсе "наших" представлений о библейском мифе
11. не танцевал ли автор, выбирая язык, на котором все у него говорят, от того, что валюта, которой население оперирует, — реалы?
12. память как универсальный вариант бессмертия, привет тибетским тулку и их перерождению
(и это совсем, совсем не всё, что можно делать в голове с этим романом).
В остальном же роман в той же мере скуп на эпитеты, сух и прозрачен, остранение полно, главный и самый значимый двигатель сюжета — диалоги. Ожидайте в ближайшие месяцы в ЭКСМО, я от этого кубика Рубика не могу отлипнуть уже второй месяц.

— Интригу они затеяли... Вы что — тятр, что ли?
Павлик Лемтыбож
Раздираема я нынче противоречиями: писать о сиквеле к "Детству Иисуса" Дж. М. Кутзее (о-о-о, мне есть что сказать об этом романе) или же о невероятном подарке мне лично и всем, "кто такое любит", авторства Павлика Лемтыбожа "Теоремы Пафнуция"? Роман Кутзее из русскоязычной аудитории даже по-английски мало кто читал еще, насколько мне известно, а перевод выйдет после Нового года скорее всего, и потому, видимо, вываливать на вас свои интерпретации так рано все же некрасиво, да? Про "Теоремы" меж тем пару слов сказать прямо-таки нужно. Вот пусть про "Теоремы" и будет.
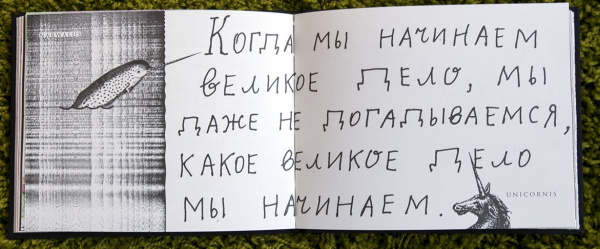
Начнем с материальной составляющей. Я души не чаю в книгах-мифах, я вам про это уже сто раз говорила. Причем книга-миф может быть ею и в смысле созданного автором чокнутого мира, и в смысле оформления самого макета. Люди, сделавшие эту книгу, Павлика со всей очевидностью обожают: это приз любому коллекционеру изощренных дурашлепских макетов, а то, что Павлик — художник, и обязало верстальщиков этой книги, и обогатило их возможности запредельно. Они выжали из качественного офсета, небелой пухлой бумаги и Павликовых безумных картинок всё, что можно. Я имела отношение к изданию нескольких подобных книг — это счастье и придумывать их, и собирать такие макеты, и печатать, и потом нести читателю. Потому что читатель, которого от таких книг не прет, — из какой-то совсем другой песочницы, и пусть бы его, раз так. Я вообще иногда выношу смелые суждения о родственности людей по тому, как они реагируют на Воронежского и Лемтыбожа.
Что же до содержания, то Павликов фейсбук нас худо-бедно подготовил, однако, влезши в книгу, с восторгом понимаешь, сколько всего в творчестве Павлика пропустил, не видел, не знал. Обэриутство живет и побеждает. Таких, как Рома Воронежский, Юра "шоупанорама" Швецов (RIP) и вот Павлик, мне никогда не будет много. В ту же кучу можно сложить стародавнего Андрея Кнышева. Хотя Павлик гораздо, гораздо безумнее, точнее и литературнее. И он делает меня на некоторое время отчетливо счастливой. Несите еще!
Книги про космос я читаю не только потому, что это беспредельно (в разных смыслах слова) интересно, а еще и потому, что выпасать мозги в таких пространствах целительно для мозгов. Шестое чувство — чувство "перспективы", как говорят англофоны, т.е. своего места во всей этой махине, и масштабов собственной жизни применительно к ней же. Очень отрезвляет — и успокаивает, когда необходимо.
Ликбезов по астрономии немало, эта книга — не первая, не последняя и, конечно, не исчерпывающая (хотела бы я посмотреть на исчерпывающую книгу про Вселенную), но формат серии — "50 идей" — принуждает автора к строжайшей дисциплине высказывания и педантичному отбору материала. Это шестая то ли седьмая книга в этой серии, к которой я имею прямое отношение, и в диапазоне между шалуньей-затейницей Хэйли Бёрч ("Химия") и суховатым строгим Мохебом Костанди ("Мозг человека") эта — примерно посередине.
В астрономии я, в целом, просвещена не больше среднего потребителя, и поэтому реликтовое излучение, скажем, или гравитационное линзирование появились в активе моего ума благодаря этой книге. О пространственно-временных парадоксах я могу читать до бесконечности, это один из любимых моих природных коанов. Как рождаются и умирают звезды — тоже штука поразительная. Но в целом медитация на масштабы, в которых живет Вселенная, — вещь, на мой взгляд, необходимая для гигиены ума в целом. И да: астрономия — это еще и, извините, ужас какие красивые слова: параллакс, альбедо, перигелий.
Рекомендую иметь в доме хотя бы одну научно-популярную книгу о жизни Большого Дома. В минуту смуты или печали она может стать — хотя бы на время — утешением.

Эта книга, будем надеяться, возникнет в продаже уже в этом году. Саша Галицкий собирал на нее деньги краудфандингом, еще в 2015-м, всё удалось, книга для участников крауда вышла, я свой экземпляр (электрический) получила, и теперь Саша говорит, что отпустит ее в народ. Дорогие взрослые дети, берите на карандаш: даже если у вас идеальные отношения с предками, эту книгу вам читать нужно все равно. Потому что идеальные эти отношения у вас до поры до времени, а как оно сложится, когда вашим родителям будет 70+ (чтоб им жить долго и с хорошим самочувствием), никто не знает.
"Мама, не горюй!" — сверхчеловечная, честная, обаятельная и очень предметная методичка, полностью отвечающая своему подзаголовку. Моим родителям семидесяти еще нет, но отношения с ними выстраивать — старательно и осознанно — я начала по крайней мере лет пятнадцать назад, по массе причин, в том числе и невротических. Сашина книга изрядно помогла мне дособрать этот паззл и предложила свой уверенный, очень взрослый голос человека, давно работающего со стариками, в пользу некоторых интуитивных решений, которые я опасалась принять. Опасалась, потому что не до конца понимала, как этичнее. Как логичнее — понимаю практически всегда. Саша предлагает очень практичные, простые (для понимания; исполнение требует тренировки) и интуитивно правильные методы создания здорового общения и ухода за очень пожилыми родственниками, которые сохранят ухаживающему/общающемуся рассудок, спокойный сон и качественную карму.
Мистерия старости — конечно, не мистерия жизни после смерти (допустим, она какая-нибудь есть) и не мистерия младечества. Однако все-таки что мы, семь-восемь молодые, понимаем про людей, которым и впрямь завтра может быть последним днем в самом не статистическом смысле слова? И как это влияет на их поведение (от которого любой из нас хотя бы раз в жизни влезал на стенку)?
Вообще же таких книг про старость и как с ней жить — и самим старикам, и тем, кто с ними общается, — должно быть много. Человечество научилось жить сравнительно долго, а что делать с той частью жизни, которая еще сто лет назад доставалась абсолютному меньшинству, пока не очень понимает. Саша внес свои прекрасные пять сияющих дорогих копеек в это понимание, спасибо ему громадное.
Впрочем, показывать этот текст родителям я бы не стала. Он не для их глаз ;)

И вновь на наших волнах эфир о книге, которая выйдет после Нового года. Нонфикшн у меня в переводе бывает редко, но метко. Четыре книги Млодинова оказались увлекательнейшим путешествием (и с автором было весело); пять книг из серии "50 идей", хоть и утомили лоскутной версткой, тоже были познавательны и вполне себе "сад расходящихся троп" (с); Жижек, мой единичный заход в философию, — тоже занимательная история, небесполезная для моей головы. А теперь вот мне вдруг досталась книга-исследование, соединившая под одной обложкой социологию, биологию, популяционную генетику, этнографию, экономику и историю, и все это завихряется вокруг не самого приметного с виду, но страшно дорогого (в Японии) гриба — мацутакэ (в среде русскоязычных грибников — рядовка).
Интересен этот текст может оказаться неожиданно много кому. Во-первых, людям, романтически влюбленным в леса и деревья: про леса в книге есть много чего такого, что людям без специального образования вряд ли придет в голову искать и узнавать. Здесь изящно сплетаются поэзия, история и биология деревьев; цель текста — в первую очередь научно-популярная и просветительская, однако Цзин удалось сделать так, что гуманитарная прядь в этом плетении — не падчерица и не служанка, а партнер естественно-научной пряди. Я, к примеру, деревья люблю почти физически, и эта мелодия в "Грибе" доставила мне отдельное удовольствие. География у этого исследования обширная: Орегон, Китай, Япония, Финляндия и Юго-Восточная Азия более-менее в целом.
Во-вторых, тем, кто интересуется окраинами капиталистической жизни — диковинными небольшими (оффлайновыми!) сообществами людей и всякими причудливыми образами жизни, продиктованными не прихотью или скукой, а всякими насущными вещами вроде пропитания, реабилитации после тяжелых психических травм или неспособностью ассимилироваться в чужой стране. А поверх этого в книге есть кое-какая историческая и экономическая база, необходимая для понимания главной цели высказывания автора.
В-третьих, тем, кого увлекает история и экономика середины ХХ века. Эта книга возится в основном с одной из тысяч товарных цепочек — купли-продажи грибов мацутакэ — но в очередной раз наглядно показывает, как всё сплетается со всем в современной мировой экономике (и как это красиво и жутко), а также до чего эффективно мы научились ломать игрушки и гадить в собственной песочнице — и как в этой песочнице и с этими игрушками жить дальше. Это, собственно, и есть главная цель высказывания Цзин: попытаться предложить современному миру отряхнуть морок "прогресса", перестать считать человека фокусной точкой всего на этой планете, заметить (автор предлагает нам вспомнить искусство приметливости и воскресить этот навык в себе), что в мире уже существуют — и всегда были — многие другие способы жить. И другие практические и философские задачи — совершенно мирские, но другие, перпендикулярные или параллельные плоскости привычного капиталистического потребления.
И отдельно — об устройстве этой книги. Мне как наблюдателю текстовых форм страшно интересно, как можно по-разному организовывать нехудожественный текст, и в "Грибе" автору удалось написать историю предмета в форме и по законам этого предмета. Эта книга — о выделах, в биологическом смысле слова, применительно и к экосистемам, и к бизнесу, и к человеческим взаимосвязям. И сама книга устроена так же — сложнопереплетенной дробной мозаикой, из маленьких сказов, соединенных друг с другом бесшовно. И при этом получилась вполне подробная полевая диссертация. В предисловии автор говорит о полифонической музыке и о том, что ее нужно учиться слушать: и одновременно, и поочередно вылавливать в звуковом потоке многие мелодии, которые звучат совместно, а не последовательно. Такое же восприятие она предлагает развивать и в отношении всей нашей большой совместной жизни на этой планете, особенно в природопользовании. И книга эта — еще и попытка полифонии в тексте, и смысловой, и стилевой, и архитектурной.
Автору, на мой взгляд, все удалось.
Хотелось бы сказать сразу всё одновременно, чтобы у вас сложилось точное впечатление, но тут форматирование не даст мне сделать несколько колонок параллельно, а и дало бы — мы же (ну, большинство из нас) все равно не можем читать больше одной фразы за раз, поэтому гуськом будет, как обычно.
Понятно (мне лично), что любой дорогой мне поэт — либо шаман, либо гость из глубокого космоса, либо и то, и другое. Говоря строго, можно было бы, берясь писать о дорогом мне поэте и его книге, просто класть одно слово в эфир: "шама-а-ан" или "го-о-ость", и вся недолга. Но поскольку и шаманы, и гости все-таки разные, несмотря на глубинное единство, одним словом отделываться не годится.
Маша не хочет, что бы ее-рисующую лепили в кучу с ней-пишущей, у нее это, дескать, две реальности, которые она желает не смешивать. Желание друга — закон, но как, как отделаться от знания/видения, что это Машина невероятная реальность, увиденная насквозь, задумчиво и с настоящей любовью, которая не страсть, не прилипчивость, а stargazing, взирание, разглядывание и через такой вот взгляд наискосок — принятие? И реальность эта в конечном счете целая.
Пытаясь подобрать слово, каким обозначить горячий этот чай с лимоном, который проливается внутрь от Машиных текстов, я поочередно отмела "восторг", "нежность", "умиление", "растроганность" и поняла, что нету у меня нужного слова, есть только сравнения — вроде вот горячего чая с лимоном. Но и оно какое-то слишком здешнее, что и хорошо, и никуда не годно одновременно. С одной стороны, Маша здесь, и все предметы, которые она обнимает взглядом, втягиваются в это ее пространство, и все эти места, планета эта — ее пространство. С другой же — Маша не присваивает их совсем, берет подержать, поносить, похранить и отпускает практически тут же, но они потом долго не комнатной температуры, а Машиной.
С одной стороны, опять-таки, ужасно жалко, что книга заканчивается так быстро — как концерт любимого музыканта, или любимое кино, или летняя ночь на море, или удачный карандаш. С другой — ну а как? Чертово человечество дорожит только тем, что коротко и хрупко — и то не всегда. И вроде хочется, чтобы Маша пустила в книгу в десять раз больше своих приметливостей, да чтоб в подбор заверстано, щедро, с избытком, с горкой. А с другой — а вдруг тогда я и/или другие читатели какие-то тексты не прочитают, а пробегут глазами и поскачут дальше, а со сказочными заклинаниями так нельзя, они не для этого. Что же мне как наблюдателю за наблюдателем остается? Ждать и хотеть, чтобы Маша отпускала от себя еще много-много таких же маленьких подборок, и тогда галактический концерт, пусть и со многими антрактами, будет продолжаться. И редкий, спасительный зимой чай с лимоном будет попадать в меня с должным дозированным постоянством.

У нас вновь эфир "издателю на заметку". Идеальное развлекательное чтение. А для фанатов всего ирландского — еще и возвращение к родственникам.
Теперь я хочу, чтобы по этой книге сняли кино, где в роли Блоба выступил бы Дилан Морэн (увеличенный во все стороны при помощи толстинок). На главную роль надо брать Зуи Дешанель, с ее хрупкой насупленной вздорностью и дерганостью. Получилась бы великолепная черная комедия в духе "трилогии Корнето". Жаль, Шимэс Хини уже не с нами, он прекрасно сыграл бы самого себя — Рори Макмануса. Ричард Гир в этой роли смотрелся бы отлично.
Ну и далее: Кевин — Саймон Пегг, Крис — Сэм Рокуэлл, мамаша — Кристин Скотт Томас, например (жаль, что она уже не снимается).
Давно не попадалась мне такая звонкая и бешеная по темпу трагикомедия о невропатах. И давно я не видела коллизии детей и родителей, в которой родитель(ница) с экспозиции и до самой развязки остается отвратительным мерзавцем и гаденышем, примирения не случается, а дети, при всей их невропатичности и раздолбайскости, — все же люди, с которыми готов был бы дружить в жизни. Опасливо, но тем не менее. По сравнению с "Брыки блядским Дентом" Дэвида Духовны (и многими прочими сладостно-примирительными отцами-и-детьми) здесь мораль не "ребяты, давайте жить дружно", а "деточка, никто не гарантирует тебе любви и принятия в этом мире, даже маман, живи с этим уже в конце концов, так тоже можно, не сахарная, не растаешь" и "взрослый — это когда умеешь стоять сам, пугаясь, но продолжая стоять".
Манера подачи — стэндап, но поточнее и поизящнее, чем у Кэти Летт. Тара Уэст не заигрывается, не пережимает почти нигде, с ее героями сживаешься мгновенно; ситуативно текст потешен через страницу, но без всякой вымученности.
И да: отложить почти невозможно, а на последней странице хочется, чтобы дальше было еще пяток глав.
К чему я? Издатели, это нужно печатать. А если вы разумеете по-английски и вам неймется, дорогие наши радиочтитатели — можете порадовать себя подарком, пока мы ждем эту книгу по-русски.
Об этой работе Остера нужно сразу сказать несколько вещей.
Во-первых, это дебют Остера в прозе, 1982 года, до этого выходили только его переводы и поэзия. Он ее написал в 35 лет, и она не только автобиографична и по крайней мере отчасти порождена смертью отца Остера (и первая часть книги — целиком вокруг этого события), но и в некотором смысле энциклопедия тем, которыми Остер занимался в своих дальнейших романах. Я с большим интересом читаю такие писательские манифесты, потому что, при нынешней гонке за новинками, иногда не догадываешься, что слушаешь ремикс (или смотришь сиквел) к чему-то, что уже было гораздо раньше; и первые книги, и авторов-предтеч интересно читать с точки зрения археологии идей. И понимать потом, как у автора (или в пределах условного литературного направления) происходила эволюция соображений и образов. С чего все начиналось-то, вообще.
Во-вторых, тихие, задумчивые попытки Остера понять собственного отца уже после его смерти — при жизни отец категорически, пусть и не осознанно, не желал быть понятым, — но при этом как-нибудь не запихнуть его в каталожный ящик, а, буквально, воскресить его в памяти и там с ним разобраться, и поучительны, и мучительны, и гипнотизирующи одновременно. Остер честен — отец у него, прямо скажем, не новогодняя елка, исходя из перебираемых воспоминаний, — но ему удается предъявить сыновние горести и обиды, которые теперь уже никак не разрешить, на тонкой грани человечного, где у меня как у читателя не возникает сопротивления, дескать, так нельзя, отца уже нет, и никто не узнает его стороны этих историй. Есть в самой подаче текста, его подробности и некоторой аутичности, апологетика его французскости — в смысле "копания в пупе" (тм), как ни парадоксально. У меня двойственное отношение к перебиранию старых пуговиц от уже не существующих жакетов, но Остеру удается превратить эту игру в целительный ритуал, в попытку примирения. О "прощении" речь не идет, как мне слышится, оно неуместно — да и, в целом, не нужно. Вообще, по мотивам этой книги можно устраивать психотерапевтические сессии о детско-родительских отношениях — и читательские заседания, конечно же, которые на пятнадцатой минуте нацело съедут с литературы на общечеловеческие вопросы. Что, по-хорошему, происходит всякий раз, когда обсуждают дельные книги.
В-третьих, в серии "Интеллектуальный бестселлер" навыходила гора книг, настолько разных, что я уже не в силах усматривать в них идеологическое единство. Это я к тому, что если вы эту серию почему-нибудь перестали любить, это не повод игнорировать эту книгу.
Целых три раза "Голос Омара" докладывал вам о трюкаче Кириле Бонфильоли, положу и я свои три пенса. Подробности об авторе лучше всего почитать в давнишнем эфире у Макса, а я тут коротко — о том, что дорого (и нечасто попадается) мне лично.
Есть у некоторых авторов бесценное свойство: каким бы ни был увлекательным сюжет, какими бы живыми и подлинными не были персонажи, сколь важным и значимым ни было б то, что желают они в конце концов сказать читателю — всё это они вытворяют под канонаду китайских фейерверков щедрого слова. Под щедрым словом я понимаю дополнительный подарок читателю в виде каламбуров, парадоксальных сравнений, комических интертекстуальностей, физической комедии и прочего счастливого паясничанья, которые для высоких смыслов и саспенса вроде бы не обязательны, но есть книги, которые я, затаив дыхание и умирая от восторга, читаю только ради авторской щедрости. Все остальное либо как-то доезжает до моего сознания попутно и исподволь, либо я потом перечитываю книгу с фокусом на всем вот этом "смысловом".
Кирил Бонфильоли — штукарь. Салтыков-Щедрин, Вудхаус, Адамс, Миллигэн, О'Брайен, Беккет, Летт — штукари. Мне плевать, заигрываются они или нет, щедрости не бывает чересчур, я готова простить в этом отношении любые излишества ради чуда языка. В штукарстве язык, как райское дерево, покрывается всеми цветами и сыплет всеми фруктами (и овощами, и сырниками, и колбасой). Некоторым вдумчивым читателям (тм) мерещится, что читать "смешную" литературу — несерьезно и даже где-то стыдно. Какая потрясающая чушь. Великая смешная литература — заповедник языка, с буйством эндемической растительности и живности. Читайте смешное, господа.

И вновь на наших волнах эфир, предвосхищающий выход книги.
С некоторых пор мне все же кажется, что интимная близость переводчика с переводимым текстом мешает ему, переводчику, извлекать из текста кое-какие радости, доступные именно при свободном полете над страницами (пусть этот полет и предполагает пристальный взгляд на читаемое, хоть бы и с карандашом и закладками). Переводчик по тексту, бывает, ползет, как партизан, зажав гранату в зубах, и его приметливость все же отличается от вольной читательской. Нехудожественные тексты, нагруженные и по смыслу, и фактологически, — как раз такие, по которым с гранатой. Поэтому отклик мой рецензией и не назовешь — это в большей мере тезисы разговоров, порожденных идеями из этой книги, без всякой иерархии важности.
Оговорка первая: как нам честно докладывает обложка, это шесть разных очерков Жижека, более-менее объединенных идеологически, но это не сквозное слитное высказывание, поэтому читать их вполне можно и по отдельности, на интересующие вас лично темы. Оговорка вторая: в частности, лакановщины у Жижека, понятно, навалом, поклонникам Лакана будет много радости. Оговорка третья: Жижек — автор эмоциональный и увлекающийся, это одновременно и облегчает восприятие его текстов, и временами раздражает, когда его выводам чуточку не хватает, с моей точки зрения, строгости.
Теперь очень некоторые тезисы. Интересное приключение мозга предлагает нам Жижек в пространстве кинематографа (пятая статья в сборнике), и Линч тут — исключительно как повод поговорить, там много чего помимо. Хотя, конечно, рассуждения о природе жуткого в "Твин Пикс", например, и сами по себе хороши получились.
Несколько громоздкий, на мой вкус, разбор лакановского понятия objet petit a, тем не менее, для меня лично всегда интересен, поскольку трансцендентная мистическая разница между непрерывно текучим живым человеком (возлюбленным, допустим) и вмерзшими в неприятно пахнущую вечность представлениями о нем у любящего гипнотизирует меня в любом исполнении.
Многостороннее рассуждение о том, как желания, от простых и поверхностных до глубинных хтонических, отдельных личностей (подавление или, наоборот, подогревание) можно использовать как рычаг манипуляции, который в руках у, скажем, власти — тоже увлекательно и наблюдать, и развивать потом самостоятельно.
Это совсем не всё, что в этой книге есть полезного для головы, книга щедрая. А переводить Жижека на русский — отдельное интересное удовольствие: он строит фразы как носитель славянского языка, который, хоть и прекрасно владеет английским, мыслит все же конструкциями родного, и потому, переводя, буквально слышишь, как оно в голове у Жижека лепилось. Это приятное ощущение — и подспорье в переводе.
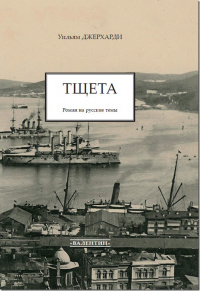
И вновь на волнах нашего радио предуведомление. В сентябре ожидайте появления этого изысканного маленького брильянта. Пусть вас не смущает обложка: этот роман — не про войну на море. Обложка символизирует Владивосток, в котором происходит часть действия, а вообще же действие происходит вдоль всего протяженного русскоязычного пространства.
Уильям Джерхарди — удивительное явление в литературе ХХ века. Этот человек родился в Петербурге 1895 года в состоятельной англоязычной семье выходцев из Бельгии, которая чуть погодя перебралась в Лондон, однако позднее, во время Первой мировой и, далее, революции, Джерхарди вернулся в Россию, навещал с военной миссией Сибирь. Человек этот — и судя по отзывам современников, и по его письму, и по манере жить — уже сам по себе персонаж: умище-эрудит, бонвиван, циник, безумец, приключенец. Этот вот роман, о котором я говорю, он написал в свои 27 лет, — первый в его писательской биографии, но сразу мастерский, что немедля заметили Герберт Уэллс, Кэтрин Мэнсфилд, Ивлин Во и некоторые другие классики. Однако так вышло, что после Второй мировой войны Джерхарди, как о нем пишут, "вышел из моды", и все о нем виртуозно забыли. А зря.
Романы о русской жизни, написанные иностранцами не по-русски, читать интересно всегда: расскажите нам про нас — универсальная приманка, а если рассказ этот еще и наблюдательный, по-хорошему безжалостный и честный и отлично сделанный в смысле языка — совсем хорошо. В "Тщете", написанной полностью на русском материале и с громадным знанием всего, что мгновенно опознается как русское, — но по-английски — с нами делятся историей одной семьи (в ней три дочери, а как же), втянутой в водоворот времен революции и Гражданской войны, семьи совершенно аполитичной и вынужденной перемещаться по стране в ожидании. Весь роман — это исследование ожидания, и специфически русского, и общечеловеческого, в ХХ веке, и, поверх отчетливой трагикомической чеховщины и салтыково-щедринства, здесь вдруг зажигаются прожекторы Беккета.
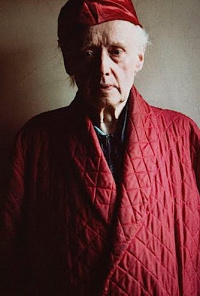
Если вам интересно поглядеть, как лихо, изобретательно и точно можно заплести в пределах одного небольшого произведения с полдесятка литературных голосов и мировоззрений из литературы XIX-XX века, из нескольких литературных традиций разом, — "Тщета" вам подарок. Это невыразимо грустно и даже, пожалуй, горестно идеологически — и восхитительно, если отодвинуть этику и разглядывать эстетику. Отдельное удовольствие — понимать, что читаешь перевод текста, написанного человеком, который мыслил диалоги персонажей по-русски, записывал на английском, а перевод — это реконструкция того, как автор придумывал все это по-русски. И реконструкция эта — мое вам слово, я редактировала перевод — получилась блистательно: только русскоязычной аудитории доступна роскошь такого чтения, когда тон, порядок слов, метафоры, эвфемизмы и даже расстановка пауз в речи совершенно узнаваемы и порождают целый зеркальный коридор воспоминаний о программной классике русской литературы. Переводил роман Макс Немцов, с большим удовольствием, и вы его тоже, гарантирую, получите.
PS. Для пущей красоты пристегнула фотокарточку Джерхарди в его преклонные годы (он, к счастью, прожил долгую жизнь, невзирая на невнимание к его трудам).
По необъяснимой причине я до сих пор не доложила вам об этой книге. По чистой случайности. А книга эта для меня очень особенная, возникшая в моей читательской (и переводческой) жизни красиво, — и посвящена одной из любимых тем в литературе: художественным размышлениям о том, что будет после смерти.
Сначала давайте расскажу о содержании, а дальше поведаю об моей личной истории с этой книгой, потому что она, история эта, — эдакая органичная часть смыслового поля "В сумме". Итак, вот есть сравнительно молодой нейробиолог Дэйвид Иглмен, который занят наукой и пишет научно-популярные книги на понятно какую тему — нейробиологическую. И вот в 2009 году он взял и написал книгу художественную, 40 фантазий о том, как оно может быть с человеком после его смерти. Там тебе и привет разнообразной античности с ее мифами о загробном мире, и тому, как эту тему осмысляла классическая мировая литература, и ультрасовременным представлениям о смерти в математике, физике и науках о сознании. Все 40 историй — эдакие более-менее подробные тексты для рекламного буклета, какой могло бы печатать турагентство, продающее экскурсии на тот свет, в 40 его вариантах. Выбирайте, дорогие путешественники, куда желаете отправиться, когда здесь всё для вас завершится. И, конечно же, не раз ловишь себя на мыслях: "Нет, сюда не хочу после смерти, тут скучно/ утомительно/ слишком шумно/ всё непонятно" и "О! Вот это мне нравится, сюда можно было б закатиться на год-другой" и т. п. Это очень густые, насыщенные тексты, ни от одного не возникает ощущения, что автор его для красоты суммарной цифры насосал из пальца, или что автору в этой конкретной истории на самом деле нечего сказать нового по сравнению со всем остальным в этой книге.
А теперь, кратко, моя личная история этой книги. Мне ее передали младшие коллеги директора шотландского издательства "Кэннонгейт", когда я навещала их редакцию весной 2009 г. Сказали, что мне должно понравиться. Я ее прочитала в самолете по дороге домой и впала в восторженное буйство. Это надо делать по-русски. Со мной такое случается нередко, и я имею обыкновение дожимать этот восторг до материального воплощения. В те поры опыта перевода у меня было немного, но вышеозначенный восторг перевесил осторожность, и я проделала необходимые формальности по покупке прав, благо нашелся прекрасный обильно читающий человек Влад Марсавин, который эту книгу быстро согласился профинансировать. А потом случился "Додо", и всё заверте... Книга подзастряла до следующего года, и за перевод я взялась лишь весной 2010-го, но сделала быстро, и Макс Немцов взялся его отредактировать. К концу лета была готова верстка, а попутно стало понятно, что очень хочется придать этим историям голосовое звучание. Так возникла аудио-версия "В сумме", диск прилагается к книге (!). Тридцать восемь моих прекрасных друзей (включая парочку детей) приехали в студию к Мише Штерну и записали каждый по истории. Почему 38, а не 40? Одну записала я сама, а один из 38 прекрасных друзей сделал две истории — двумя радикально разными голосами, берите себе эту книгу, слушайте аудио-версию — и угадывайте.
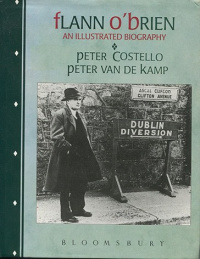
Сразу простите меня, что докладываю о книге, которая, с хорошей точностью, по-русски вряд ли появится: она прям фанатская, конечно. В оригинале ее тоже не очень-то найдешь: е-версии я в сети не находила, а бумажная, которая есть у нас, вышла в 1987 г.
Биографий О'Брайена не то чтобы пруд пруди; мне, кроме этой, известна еще одна, авторства поэта, прозаика и историка Энтони Кронина, "Не до смеху. Жизнь и времена Флэнна О'Брайена" (тоже пока не издана). Взгляд Костелло-Кампа покомпактнее и более отстраненный, поскольку, в отличие от Кронина, они с О'Брайеном не дружили лично, биографию составляли как исследователи, по документам эпохи и по свидетельствам жены О'Брайена и его братьев. Тем не менее, сами понимаете, когда обожаешь какого-нибудь автора и работаешь с его текстами, неймется прочитать всё, до чего дотянешься.
Биографии — специфический жанр высказывания. Я сообщала читателям "Голоса Омара" год с лишним назад о книге Павла Басинского о Толстом — что мне очень близка интонация Басинского-биографа, не умильно-сладостная и не энтомологически-инопланетянская. С тоном в книге Костелло-Кампа все занятно: она, судя по всему, пристальная и честная, насколько это возможно при той неимоверной приватности, какая свойственна была О'Брайену всю его взрослую жизнь, вполне любовная, но без предвзятости, из-за которой биографии превращаются в эпиталамы. Обилие включенных в издание документов и фотографий — иллюстрированная же биография — всегда хорошо, добавляет погружения в эпоху, а тут нашлось множество редких снимков, каких в сети не сыщешь днем с огнем, и по ним, идя за текстом, мне удалось собрать какого-то своего личного О'Брайена. Он, разумеется, имеет мало общего с когда-то жившим человеком, как и любые — слово Капитану Очевидность — представления одного человека о другом, тем более об умершем. Кроме того, Костелло-Камп интересно и неформально прихватили в свой рассказ и жизнь дублинской богемы первой половины ХХ века, студенческую жизнь, настроения в обществе, немножко влияния дел в Европе на эти самые настроения, и в итоге получилась живая человечная экскурсия в Дублин О'Брайена.
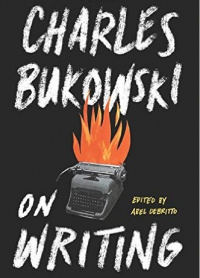
Душа человека либо ее
отсутствие будет видна по тому, что́ он сумеет высечь на белом листе бумаги.
Чарлз Буковски
И вновь я собираюсь накормить вас завтраками: это еще один свежепереведенный на русский сборник писем Буковски, составленный тематически, — это письма о писательстве во всех его видах. Книга эта увидит свет в некотором обозримом будущем, но ее все же придется чуточку подождать.
Писем Буковски писал много — и друзьям, и врагам, и издателям, и, позднее, своим переводчикам и агентам. В сборник попали письма с 1945 по 1993 год, и потому мы теперь можем подглядеть одним глазком за эволюцией взглядов Буковски на заданную тему. А взглядами своими Хэнк шумно и яростно делился, с очень разными респондентами, в разном тоне, но в пределах одного промежутка времени был, невзирая на разницу в тоне, очень последователен и целен — судя по его переписке. Впрочем, это не значит, что взгляды эти не претерпели изменений, пока Буковски взрослел/ матерел/ старел. Например, в 1960-м он ругательски ругает "Кантос" Паунда — в публичной критике, позднее не раз и не два полощет Эзре кости и в частной переписке (достается от Буковски и Одену, и Фросту, и Каммингзу, да и Вильяму нашему Шекспиру), но к 1990-м сообщает, что горд быть в одном учебном плане с Паундом и Оденом. Примерно тогда же, в письме редакторам одного небольшого литературного журнала, говорит, что слова Паунда, Элиота, Одена (и некоторых других) "прожигали бумагу", а их "стихи становились событиями, взрывами". Но следя за движением Буковски-писателя на ускоренной, по сути, промотке — за 50 лет Буковски написал даже на эту отдельную тему немало, однако читать чужие письма совсем не то же самое, что жить чужую жизнь, — очень наглядно можно увидеть, как меняется дерево сознания. Вернее, та его ветвь, которая посвящена писательству. Особенная удача для нас, читателей Буковски из его недожитого будущего, что это дерево сознания, на которое мы глядим, — Буковски: он легендарно прям, легендарно пьян и легендарно яростен. И настойчиво искренен, как обычно. Благодаря такому наблюдению за чужой эволюцией, понимаешь, что, да, это прилично и не ужасно — менять свои взгляды на что угодно, думать много раз об одном и том же и приходить к новым выводам. По крайней мере, Буковски себе это позволил. Важно, впрочем, в таком случае честно отдавать себе отчет: действительно ли мнение поменялось, или это "прогиб под изменчивый мир" (с), трусость или что-нибудь в этом роде. Буковски такое не одобрял.
Но это вторая часть пользы от этой книги. Первая, более прикладная — практически советы Буковски молодому бойцу, сиречь писателю. Чаще они высказаны в виде суждения о том или ином писателе, или тексте, или литературном явлении или процессе, которым Буковски был свидетель (или которые осмыслял); есть и публичные критические высказывания (или целые статьи), и приватная переписка. Попали в сборник и прямые рекомендации, хотя их немного. Смысл и прок от этих наставлений, в любом виде, будет лишь тем пишущим, кому мило и дорого явление под названием "Буковски", кто считает его хорошим писателем (т.е. писателем, которому есть что сказать и который распелся — нашел свой голос). Если вам Буковски как писатель не дорог, вторая часть пользы от этой книги все равно будет вашей. Мне Буковски дорог и по-человечески, и как писатель, и поэтому от этой книги я всю возможную пользу получила. Чего, конечно, желаю и вам — когда ЭКСМО ее выпустит.
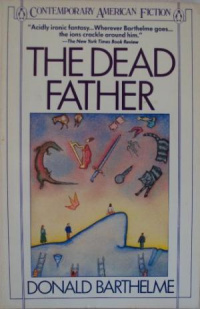
Дорогие фанаты "Детства Иисуса" Кутзее, а также мировых мифов и легенд, "Алисы в Стране чудес", "Между двух стульев" Клюева etc., деда Бартелми написал книгу, которая разом утолит ваше алканье и диковатых чудес, и сверхплотных многоярусных символических персонажей, и до поросячьего визга ядовито-смешных диалогов, и раздумий о смысле жизни, вселенной и всем таком (тм). "Мертвый отец" — оммаж "всему святому", что есть у западной цивилизации, а лучший оммаж — это пасквиль. Этот роман хоронит всякое святое и так пытается найти в нем... святое.
Из Отца сделан Город. Отец Мертв — в той или иной мере, как говорится. Несколько избранных его отпрысков транспортирует Отца для захоронения (или омоложения? или воскрешения? как думается Отцу и, в той или иной мере, отпрыскам). Это процессия. И процесс. В той или иной мере. Во времени и пространстве. Попутно происходят События в Пути, рассказывание Историй, экзекуции, смертоубийство (в той или иной мере), питание, выпивка, жалобы населения, пикники, сон и выяснения отношений.
Узнавать в Мертвом Отце и его отпрысках Томасе, Эмме и Джули всяких мифологических персонажей (перво-наперво ветхозаветных, а потом как пойдет) — милое, но далеко не единственное читательское развлечение. Бартелми щедр, как Даглас Эдамз или Вальтер Мёрс, — чеканными афоризмами сыплет, не считаясь ни с какими творческими расходами, хоть уподчеркивайся. Но и это не всё: рефренный прием — поток диалогового сознания, т. е. не сознания какого-то одного персонажа, а коллективный; такой поток протекает через наши уши в кафе, в метро, на улице — везде, где сквозь нас сочится чужая речь многих людей, переплетаясь с нашим личным бессвязным мысленным брожением и рождая, как выясняется, десятки клише в минуту. Эти диалоги — гипнотизирующее шаманское действо, каждую фразу можно отправлять в космос как кредо человечества, и все они при этом — в результате их многократной сказанности — мертвые, обслюнявленные бесчисленными ртами людей. Но это так, помимо многих других прелестей.
Мир Бартелми — как мир Кэрролла, Беккета, Ионеско и пр. — сверкающий, ледяной и горячий одновременно. Он девственно чист — в том смысле, что нет в нем места коленным рефлексам привычного эмоционального реагирования, по нему нельзя сверять нормальность, среднестатистичность собственных откликов. Это территория инопланетных зеркал, здесь видишь себя не заново и не по-новому — здесь себя видишь. В той или иной мере, как вы уже поняли.
Прим. гл. ред.: Этот эфир подготовлен в рамках издательской додо-феерии "Скрытое золото ХХ века". Скоро из всех утюгов Галактики.
Мы с Аней паровозиком пишем про одну и ту же книгу. Ну и пусть, такое "Голос Омара" уже видел на Додже, когда у нас случилось спонтанное хоровое пение на пять(!) голосов про одну и ту же книгу.
Я этой книге была редактором, к другим текстам Сергея, изданным прежде, тоже имела отношение, и потому для меня Сережины тексты — всегда особая история.
Мне давно — лет десять — нравится манера Сергея Москалева делиться добытым в его церебральных экспедициях. Эта книга — своего рода выставка экспонатов. Экспедиция длится всю жизнь, а представленное на выставке, в отличие от энтомологических образцов, не заспиртовано, не пришпилено булавками к атласным задникам, не застеклено и вообще живое, дышащее. Зоопарком такую выставку тоже не назовешь, поскольку все ее содержимое привольно гуляет в наших с вами головах, иногда пушистое, временами — осклизлое, но, как истинный даррелл своего дела, Москалев ко всем находкам — и лично обнаруженным, и коллективно извлеченным из-под какой-нибудь умственной или эмоциональной коряги — относится бережно и по-человечески.
Вероятно, эта вот спокойная заинтересованность и делает Сережины тексты увлекательными, нисколько не дидактическими и не высокомерно-снисходительными, как это часто бывает с «эзотерической сгущенкой» — выжимкой опыта и знаний автора о чудесах и выкрутасах человеческого сознания. Извлекать для себя пользу из наблюдений, представленных в этой книге, приятно и удобно, узнавать своих «зверей» — интересно и даже трогательно, и в этом узнавании, как мне кажется, помимо прочего прока внутреннему хозяйству, подтверждается тихим контрапунктом всамделишная связь между всеми нами, людьми, счастливая одновременность того, что́ в каждом из нас уникального — и до боли похожего. А для того, чтобы что-то прояснилось и стало красивее внутри, иногда достаточно знать, что кто-то уже смог это «что-то» прояснить и сделать красивее.

Есть у меня на воображаемой книжной полке несколько авторов, которые под видом своей поэзии и прозы, по-моему, шлют телеграммы неким незримым высшим силам. На этой полке у меня Линор Горалик, Эдгар Керет, Миранда Джулай — и Ричард Бротиган, среди прочих. "Высшим" не в смысле ангелов каких-нибудь, а в смысле свободным почти от всего, отчего мы тут не свободны. Язык таких авторов обычно называют "детским" или "наивным". Ну, наверное. Тогда "взрослым" языком пишут и разговаривают те, кто либо считает, что несвобода — это навсегда, это уже никак не исправить, пока не умрешь, или те, кому кажется, что они полностью управляют своей жизнью, или совсем перпендикулярные люди, которые давно вне этих понятий. Кто тут прав, я не знаю.
Так вот, "Уиллард" — это телеграмма про две молодые семейные пары и трех братьев, отправленная автором высшим силам, чтобы еще разок доложить, какое неописуемо горестное и комическое дребезжание — эта самая "обычная жизнь обычных людей". Две молодые семейные пары живут одна над другой в малоквартирнике в Сан-Франциско, они приятельствуют, но за время романа никак не общаются друг с другом, но Бротиган подглядывает за ними, и мы, как в кино, знаем, что происходит на двух этажах этого дома, практически одновременно. У пары на первом этаже в квартире есть достопримечательность — фигурка птицы из папье-маше и многочисленные кегельбанные призы, украденные; это "складная" пара. У пары на втором этаже из достопримечательностей — ухоженные комнатные растения; это "нескладная" пара. Братья — те, у кого украли три года назад кегельбанные призы и чья судьба после этой кражи уже никогда не будет прежней. Братья, поискав самое для них дорогое по всей Америке и растеряв по дороге все, что у них оставалось вообще в этой жизни ценного, наконец оказались в Сан-Франциско — по наводке одного эскимоса. И совсем скоро что-то должно случиться. И, в общем, случается.
Это очень маленький роман. В точности так и выглядят телеграммы незримым высшим силам.
Прим. гл. ред.: Этот эфир подготовлен в рамках издательской додо-феерии "Скрытое золото ХХ века". Скоро из всех утюгов Галактики.

Рассела Хобана русскоязычный читатель читал прискорбно мало (но мы работаем над этим), а он меж тем виртуоз сновидческой действительности, шаман и трикстер. "Амариллис день и ночь" я читала, когда он только вышел 11 лет назад, и этот роман попал у меня аккурат в ту категорию книг, которые подобны живому достоверному сну, после которого трипуешь еще сутки, иногда двое. Счастливое такое блаженное похмелье. Говоря в понятиях Нагваля, точка сборки от таких книг съезжает набекрень, и очень не хочется, чтобы она потом ехала обратно.
Не люблю я в эфире пересказывать содержание — и тут тоже не буду, скажу только, что это роман с небольшим количеством персонажей, интимный и "пралюбовь", в нем Хобан ловко и изящно устраняет границу между сном и явью, одновременно разбираясь с одним из вечных человеческих вопросов, есть ли вообще так называемая действительность и что ее ею делает. Герои у него, короче, развивают отношения и "наяву", и во снах друг у друга. А сон, как все понимаем, — нечто, определяющее человека вообще, вернее, его отклик на некоторые явления сновидческой действительности, а именно: та особая танталова горечь близкого неукусимого локотка.
Для меня гений писателя, среди прочего, состоит в его способности находить скрытые (выдуманные или всамделишные — бессмысленное уточнение, особенно в контексте "Амариллис") связи между вещами и событиями, с виду очень далекими друг от друга в смыслах, времени и пространстве. Во вселенной "Амариллис", в этой самой возне с тем самым вопросом, всплывают всякие удивительности из мира абстрактного знания — бутылка Клейна, например, — и агностический разговор о действительности мгновенно делается трехмерным, вписанным в символы и от этого вновь читателю дают возможность услышать хлопок одной ладони. Ну или по крайней мере одаряют иллюзией, что он его услышал.
Этот эфир посвящается разноцветной счастливой памяти Иры Мелдрис, в поры выхода этой книги — главреда изд-ва "Открытый мир". Это она подарила мне эту книгу. Ира, ом ом ом, где бы ты теперь не витала.

Сим эфиром, будем считать, "Голос Омара" анонсирует скорый (буквально этим летом) выход свежих сборников Чарлза Буковски, в новой серии. Буковски — тот нечастый счастливый случай, когда автор вроде как продолжает писать нам с того света: Буковски был настолько неукротимо писуч и свою некраткую жизнь занимался практически исключительно созданием запаса текстов, чтоб мы и десять, и тридцать лет после его смерти продолжали открывать "нового" Буковски. Ясное дело, писал Буковски не для этого. По его неоднократным признаниям, отлученный от пишмашинки или даже карандаша и бумаги, он быстро заболевал, физически; письмо — и алкоголь — делали бурную и разнообразно бесприютную жизнь Буковски более-менее сносной.
Понятно, что все его романы мы уже прочли, и тут, увы, подарков не ожидается. Однако сборников его стихов, малой прозы и писем, какие на белом свете видело до сих пор всего несколько человек (издатели, в адрес которых Буковски безостановочно фонтанировал посланьями, друзья, приятели, кумиры, коллеги и враги, с которыми Буковски переписывался), на наш век хватит.
Сборник "Из блокнота в винных пятнах" — попурри из рассказов разных лет, черновиковых пометок на будущее, статей для журналов на всякие темы. Некоторые из нас предпочли бы, чтоб Буковски наваял нам еще пяток романов взамен этой вот бури в малом жанре, однако неотлепляемость всего Буковски от сиюсекундной жизни такова, что любую подборку его текстов можно читать как единое высказывание. Противники Буковски считают это признаком его бездарности, поклонники — наоборот. В моей читательской голове Буковски занимает редкое место кумулятивного писателя: любой его текст (или набор их, неважно), когда начитаешь его некоторое критическое количество, из с виду необязательного хамсколирического высказывания трансформируется в хриплую, но чистую ноту, какой и впрямь умеет петь жизнь, и в этом смысле я слушаю ее песню и понимаю слова на всех языках.
Из прикладного: к переводу этого сборника, спасибо Максу Немцову, прилагается гениальный справочный аппарат — редкие сведения об американском самиздате ХХ века, какие фиг найдешь днем с огнем.

Дайте-ка я вам сразу скажу, чем я не планирую в этом эфире заниматься:
1. толковать про книгу, которая пристегнута к этому эфиру, т.е. про биографию Сэлинджера; эта книга рекомендуется к прочтению, в "Омаре" — аж дважды: вот Максовы слова, вот Манины. Но эта книга содержит, вероятно, некоторые ответы на некоторые вопросы, почему все так (и все такие) в "Ловце";
2. подробно рассуждать о достоинствах и недостатках существующих двух опубликованных (и как минимум одном "неофициальном") переводах романа на русский.
А теперь к делу. Этот эфир я захотела выдать, почитав параллельно два перевода и оригинал романа. Мне это понадобилось для стереоэффекта, для понимания, с чего этот роман (и его главный герой) занял когда-то именно такое место в русскочитающих умах. Ну и с профессиональной точки зрения интересны переводческие стратегии, а тут такой полигон для наблюдений. В результате чтения оригинала мне стало понятно, что "Ловец" стал тем, чем он стал для русского читателя, а именно — священной канонической коровой, преимущественно благодаря выбранной первопереводчиком стратегии, и в случае этого эфира неважно, как я лично к этой стратегии отношусь. Занимательно то, что роман-то, да, поражает воображение и захватывает внимание, как мало какой остросюжетник, но совсем не за то место он меня-читателя хватает и не туда поражает, чем первоперевод. Да, и в переводе, и в оригинале Холдена Колфилда хочется по временам то по голове погладить, то по ней же стукнуть хорошенько, но довольно в разных местах и за разное, если сравнивать исходную и переводную версии. Если же говорить о втором переводе, то там это расползание минимально.
Во всех трех случаях роман остается зеркалом читателя, как я себе это вижу: диаграмма Венна, которая получается из всех оттенков отношения к рассказчику, размещенных топографически по тексту, отражает устройство самого читателя — мое, например. Оригинал остро показал мне мое типовое реагирование на спектр иррациональных, движимых недоразвитым, сонным сознанием поступков человека передо мной: есть громадное множество мелких черт человеческого поведения, которые мне остро противны, и мне проще отойти подальше, чем включить недвойственность отношения к такому вот. Переводы скрадывают эту остроту, первоперевод — в существенно большей степени. Возможно, дело в моих персональных отношениях с обоими языками — и с родным, и с английским; вообще, чтение на неродном языке обязывает к большей внимательности, происходит с меньшим автоматизмом, оно непосредственнее. Оригинальный Холден Колфилд мучительно человечен аккурат своей доступной стороннему состраданию отвратительностью. В первопереводе его чаще жалко, а лично мне этот сорт отношения неприятен — ни к себе, ни в себе. В новейшем переводе Колфилд другой, он убедительнее, резче, отчетливее и ближе в своей вот этой карикатурной недовзрослости к оригинальному. И оригинальный Колфилд, на мой слух, — нисколько не среднее арифметическое между первым и вторым переводным. Да, он заметно ближе ко второму, и все же, видимо, есть такие тексты — как вот "Ловец", к примеру, — которые настолько интонационно интимны и мучительны, что на каждого читателя будет свой личный Колфилд.
Извините.

Дисклеймер к картинке: перевод на русский я не читала и за качество ручаться не возьмусь (пер. Михаила Бутова, который в напечатанном виде, насколько мне известно, не существует, а есть только в сетевом, и он хорош, а про качество того, который можно добыть в виде книги, мне неведомо), а зарубежные обложки немножко скучные, и я поэтому нарисовала свою — вот до чего мне симпатичны эти два обормота.
Сразу дам ссылку на качественную статью о "Мерсье и Камье" в "Гардиане", она на английском, но если хотя бы человек пять (вслух) пожелает прочесть ее по-русски, я не поленюсь перевести.
Я обещала, что Беккета еще будет — и таки да. Мы продолжаем смотреть гениальный телепроект ирландского телевидения "Беккет на пленке" и с удовольствием читать/перечитывать его на бумаге. Маленький роман (или крупная повесть) "Мерсье и Камье" возник и на стыке времен, и на стыке важных периодов в жизни самого Беккета, в 1946 г., когда Беккет переключился в письме с английского на французский и второй период считал у себя "зрелым". Автор не разрешал издание этой книги вплоть до 1974 г., хотя и не скупился раздавать копии рукописи друзьям и их друзьям. Всякие критики считают, что все, случившееся у Беккета до "Мерсье и Камье" включительно, — это, фу-ты ну-ты, недо-Беккет, а всамделишный Беккет — это всё, что после. Запишите мое отдельное мнение.
Беккет, в своем "аналитическом" методе письма стремясь оставить написанным как можно меньше, уже в "Мерсье и Камье" добился такого уплотнения смыслов, что — ежели не знать, как все дальше уплотнится еще больше, — кажется, будто сейчас рванет, уже странице к тридцатой. Абсурд вообще наделен термоядерным качеством для (моей) головы, он не предназначен для понимания, это самое близкое к хлопку одной ладони в экзотерике, и "Мерсье и Камье" имеет смысл читать и для этого переживания в том числе (для кого-то, возможно, в первую очередь ради этого). Сюжетное (чуть не сказала "сценарное", потому что роман этот, конечно, могучая разминка перед уходом Беккета в драматургию) построение тут не шибко сложное: двое людей, поначалу совершенно непонятных дядек, шляются туда-сюда без видимой цели — это сверхважно, это один из хлопков одной ладони — и разговаривают, преимущественно друг с другом. Мы про этих дядек мало что понимаем поначалу, но постепенно проясняется, что они бездомны и немолоды. Это имеет значение — и не одно, как и всегда и всё у Беккета. Однако помимо сюжета и символики перемещений и остановок на блуждающем пути наших героев есть еще и второй формальный слой ребусов — каскад дзэн-диалогов Мерсье и Камье, кратких и с виду простых, но не впихуемых в будничные рациональные рамки реплик, в которых уже тогда проступали герои "Годо".
Да, обязательное узнавание себя (не себя-студента/работника-почты/жены/отца/обормота-подростка и пр. частных ипостасей, а себя-вообще-человека) и в этой беккетовской истории есть, и узнавание это одновременно горестное, страшноватое и гуманное. Да, каждую вторую фразу хочется вынести в прикольный демотиватор (тм) и выкинуть в ФБ. И да, дочитав до конца, хочется тут же начать сначала, потому что обязательная часть опыта Беккет-чтения — в бесконечном кажущемся приращении понимания, которое на самом деле сплошь апория Зенона.

"Нет ничего смешнее несчастья, что правда, то правда... Да, да, это самая потешная штука на свете"
— Нелл, "Эндшпиль"
"Джеймз Джойс был синтетиком, старался привнести [в текст] как можно больше всего. Я же аналитик и стараюсь оставить как можно больше всего за текстом".
— Сэмюэл Беккет
Взялись мы смотреть сквозняком эпохальный театральный проект ирландского телевидения "Беккет на пленке". Это все 19 пьес нобелевского лауреата, включая и те, что без слов. Все пьесы поставили разные режиссеры, с разным актерским составом, и это, конечно, пир ума, духа и остальных эфирных запчастей человеческого организма. А следом перечитать (или прочесть вообще, по первому разу) эти драматургические шедевры — самое то. Сегодня я вкратце доложу о свежих впечатлениях от одноактной пьесы "Эндшпиль" ("Конец игры" еще есть в переводах).
В пьесе четыре персонажа — дедушка с бабушкой (безвылазно сидят в мусорных баках — урнах то есть, в обоих смыслах слова, — на арьерсцене, ходить не могут, потому что безногие), отец (ноги есть, но ходить не может — и слепой) и сын (не может сидеть, ходит плохо), действие происходит в неопрятной унылой комнате, где, кроме баков дедушки с бабушкой, кресла, двери и двух окон, больше ничего нет.
Как и любая другая пьеса Беккета — да что там, как любой его текст — эта сплошь притча и игра архетипов. Минимализм Беккета и его медитации на отчаянное положение под названием "жизнь" позволяют вчитывать (или всматривать) в него много чего, и, в отличие от, например, скользкой и призрачной многослойной вуали "Детства Иисуса" Кутзее, метафоры тут возникают вполне стойкие и недвусмысленные. По причине тех же минимализма и архетипичности возникающие ассоциации зависят и от текущего состояния мозгов читающего/смотрящего — и насущных обстоятельств. Мне, к примеру, ловко и легко вчитать в эту пьесу, во-первых и в-простых, прямой буквальный смысл происходящего, то есть отношения взаимозависимости формально близких друг другу людей, как связь всегда о двух концах, терзающий и терзаемый всегда совмещаются в каждом из участников связи, а изъяны и немощи их — и бремя, и награда для обеих сторон. Во-вторых, на фоне О'Брайена и чтения про непростые отношения ирландцев-интеллигентов первой половины ХХ века со своей Родиной, хороша и цельна тут такая метафора: сын — собственно, сын своей страны, отец — Родина, бабка с дедом — историческое прошлое, легендарное и фактическое, этой самой Родины. Слегка подкрутив читательский окуляр, можно прочесть всю пьесу под этим углом и увидеть в ней в точности то, что происходит не там и тогда, а тут и сейчас, в РФ, в 2010-х.
Все трое великих ирландцев — двое вырвавшихся из страны (Джойс и Беккет) и один оставшийся (О'Брайен) — то ли потому, что они ирландцы первой половины ХХ в., то ли это просто черта подобных инопланетян, а ирландцами они оказались по чистому совпадению, наделены поразительным даром смотреть на человеческие обстоятельства, которые, например, мне как читателю могли бы показаться чудовищными, с особой точки зрения. Этот взгляд не упрощает, не искажает, не предлагает утешений, не перетолковывает — и это не просто хроника происходящего. Это такое сказочное "белое свидетельство", неуловимое прикосновение художника, точное и творящее настолько, что сама эта способность так видеть наделяет читателя покоем и силой смотреть на что угодно традиционно "ужасное" так же — и продолжать, невзирая на полученное знание, жить, не закрывая глаза.
 Продолжаем нашу многосерийную беседу о Флэнне О'Брайене: дорогая редакция в моем лице добралась до "Третьего полицейского". Что творится в существующих трех переводах этого романа на русский, не ведаю, но говорят, что последний, опубликованный издательством "Текст", пригоден для чтения и роман некое сильное впечатление производит и в переводе. Ну хорошо.
Продолжаем нашу многосерийную беседу о Флэнне О'Брайене: дорогая редакция в моем лице добралась до "Третьего полицейского". Что творится в существующих трех переводах этого романа на русский, не ведаю, но говорят, что последний, опубликованный издательством "Текст", пригоден для чтения и роман некое сильное впечатление производит и в переводе. Ну хорошо.
Читая О'Брайена (в любой его ипостаси), я на редкость остро интересуюсь персоной/тенью автора за его текстами, а применительно к "Третьему полицейскому" — и подавно. О'Брайен, как я уже сообщала почтеннейшей публике в прошлом своем эфире, всю свою писательскую жизнь старательно заметал свои человеческие следы в собственной прозе; то же утверждают и его биографы. Есть у меня знакомые, которые ведут себя в жизни так же, как О'Брайен — в своих текстах: это "удивительные человеческие магнитофоны" (с), чрезвычайно разговорчивые, скорые и острые на язык, экспансивные, мимичные, едва ли не буйные во всем и, одновременно, совершенно непроницаемые, полностью приватные, закрытые на все засовы, застегнутые на все пуговицы. Общаться с ними — все равно что наблюдать непрерывный стендап-спектакль — и без всякого результата пытаться влезть такому человеку если не в душу, то хотя бы в ее предместья. Ипостась О'Брайена-колумниста и не предполагает никакой интимности между читателем и автором, это разговор на базарной площади (или в людном пабе в большой компании). Но романы-то, романы? Обыкновенно слышишь в них какое-никакое личное высказывание, пусть и не все авторы откровенно гоняют персональных бесов. О'Брайен же всякий раз ухитряется скрыться в причудливой вязи своих дьявольски ловких, находчивых, точных и временами уморительно смешных словесных трюков. Быть может, поэтому его изысканный диковинный литературный дар широко известен в узких кругах, среди публики со специфическим чувством юмора и вкусом на такое вот ловкачество.
Содержание "Третьего полицейского" пересказывать без спойлеров затруднительно, поэтому скажу так: некий персонаж (его имени мы так и не узнаем), сирота более-менее с детства, возвращается — уже юношей — домой из приюта, полностью увлеченный трудами некоего ученого-философа де Селби (ему посвящены обильные подробные авторские сноски); вернувшись на родину, наш герой многие годы (без подробностей) постепенно приближается к ключевому событию своей жизни, а именно — [спойлер]. Это действие он совершает вместе с человеком, который все эти годы "заботился" о собственности и недвижимости нашего героя. После совершения этого действия наш герой оказывается в интересной странной реальности, очень похожей на обыденную, но все же причудливо другой. В этой причудливой реальности он сталкивается сначала с человеком, которого [спойлер][спойлер][спойлер], и тот рассказывает ему о трех полицейских, которые, среди прочего, умеют распознавать ветра по цветам и делать из этих наблюдений неожиданные выводы. Наш герой отправляется к этим полицейским, чтобы выведать у них о нахождении [спойлер]. Далее происходят приключения героя с полицейскими, в ходе которых он едва не [спойлер], но [спойлер], а попутно узнает поразительные вещи об атомистической теории человека и велосипеда, испытывает на своей шкуре апории Зенона, общую теорию относительности, устройство вечности и некоторые другие новейшие достижения и заблуждения (де Селби-)науки. В результате оказывается, что [спойлер], все вроде бы налаживается, но потом [спойлер]. В конце концов — как бы! — выясняется, что [спойлер].
На всё это я, загипнотизированный читатель, смотрю не отрываясь и к концу понимаю, что мне только что рассказали 200-страничную "лохматую собаку", и, вероятно, это самая длинная и остроумная "телега" в этом стиле, какую мне доводилось до сих пор слышать. А когда подберешь отвисшую челюсть и произнесешь сакраментальное "ну и ну-у-у" или "вот те на-а-а", автора-престидижитатора уж и след простыл.
Так отчего же мне неймется знать, что за штука такая — Флэнн О'Брайен? Оттого, что, в отличие от многих других писателей, он, мимоходом, буднично и со смешочками поминает Устройство Вселенной, Смысл Жизни и Всё Такое, а сосредоточиться настоятельно приглашает на Всём Другом, да и это, в общем, не всерьез. И мне в результате кажется, что О'Брайен что-то знает, но хитро скрывает от меня, хотя хвост этого "чего-то" постоянно мелькает за его словами.
Вместо вводного слова будет (не очень точная) метафора:
Вещание Воденникова — большая многокомнатная квартира, в которой, насколько нам видно, открыты двери всех комнат и всех шкафов, хозяин стоит нагой. Предметы вокруг него, как и положено предметам, говорят о хозяине лишь то, что мы можем сказать о себе самих.
Вещание О'Брайена — большая многокомнатная квартира, в которой, насколько нам видно, открыто то-сё (по непонятному нам принципу), предметы вопят на все голоса и всё сплошь обо всем на свете, кроме хозяина, а его самого искать совершенно без толку.
Первым делом вот что: праздничная всклокоченная книга Дмитрия Воденникова "Пальто и собака" — материальное свидетельство парадокса: тактика (и стратегия) добровольного открытия всех своих дверей и снятия с себя всех одежд делает человека неуязвимым — и бесконечно расширяет границы его недосягаемого персонального мира. Давно читающие Воденникова-поэта и публициста знают о его "пресловутой искренности", как он ее называет, и, в частности, за нею к Воденникову и ходят. За годы существования Фейсбука мы уже успели понять, ЖЖ по сравнению с ним — практически переписка, ведомая посредством почтовых дилижансов, по сравнению с диалогом в телеграммах, и последнее время Димины открытые двери — в Фейсбуке, их больше (и чаще), а неуязвимости и даже некой победной бескрайности у Воденникова прибавилось, как мне кажется. Поначалу, по давним его поэтическим сборникам и читкам, я за него немножко побаивалась: совершенно нагой человек стоит и говорит; но вскоре поняла, что сознательно и с усилием умалчивать или скрывать то-сё может быть гораздо рискованнее, чем вот так. И да, в конечном счете мало что действительно заслуживает драматического многозначительного молчания. Димин сборник стихов, газетно-журнальных заметок и ежедневных маленьких текстов формата ФБ-постов, украшенных говорящей графикой Тани Кноссен-Полищук, — отпечатанная на бумаге Димина неуязвимость, изложенная разными способами, но всегда с его задумчивым английским ехидством. Кстати сказать, я отлично представляю, как перевести Димин ФБ на английский без потери соли, сахара, перца и прочих кондиментов.
Вторым делом — о Флэнне О'Брайене, коротко. Сравниваю я его с Воденниковым строго в одном смысле: О'Брайен выбрал диаметрально противоположную стратегию — убрал себя из своих текстов нацело. Так вышло, что тексты Воденникова и О'Брайена на днях встретились у меня в голове, и совершенно незачем назначать ту или иную стратегию более... выигрышной? интересной? правильной?!
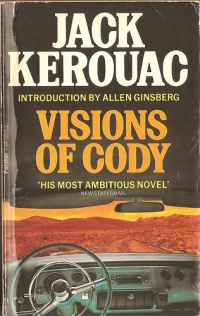
В живой жизни такие люди, как Керуак, если считать его тождественным его текстам, меня одновременно бесят, восхищают и завораживают. "Видения Коди" — ниагара впечатлений Керуака от дружбы с Нилом Кэссэди, поразительным недолго пожившим ангелом-соучредителем битников, и, попутно, много от чего еще, прямо или косвенно к этой дружбе относившегося. Весь роман — папка занимательных, восторженных, задумчивых, дебильных, усталых, печальных и удолбанных подмалевков к легендарному "На дороге", в нескольких частях, очень не равных по темпу, плотности и структуре. Большущий кусок — подробнейшая и совершенно нечесаная расшифровка магнитофонных записей трёпа Керуака с Кэссэди в интересном психохимическом состоянии — обо всем на свете, но в особенности о музыке и о том, как устроены память и ее последующие пересказы. В остальных частях Керуак, со свойственной ему (хорошо темперированной, говорят) разнузданностью вываливает вперемешку эпизоды из биографии Кэссэди, Гинзберга, Берроуза и некоторых других, о себе самом тоже, понятно, не забывает, но, в отличие от "Сатори в Париже", "Одинокого странника" и др., все же сосредоточен не на своих приключениях.
Такое вот устройство этого романа — который сам Керуак назвал "развернутой характеристикой персонажа" — придает чтению радикальную неравномерность и ощущение как от луна-парка. Керуак, как мало кто — во всяком случае, в его время и до этого — позволяет себе смелость и (хорошо продуманное) элегантное разгильдяйство появляться перед читателем заспанным, лохматым и в одних трусах: он не дозирует словотворчество, спонтанное письмо — штука одновременно контролируемая и... спонтанная, простите за рекурсию, разговорная человеческая речь на самом деле страшно захламленная, непоследовательная, не всякий раз смыслогенерирующая, на письме раздражающая — но, да, живая донельзя. Саму жизнь же Керуак рефлексирует очень по-своему, как обычно для его текстов: он не отстраняется от нее, не вылезает из воды, не рационализирует, не извлекает прок для дальнейшего. Его рефлексии — вспоминание ощущений и чувств и назначение им разнообразных предельных оценок. Всем этим джазом — а роман, конечно, получился чисто джазовая оратория — Керуак добивается во мне-читателе большого и сильного ощущения, тоже акынического, а не абстрактно-рефлективного: о людях как о расе, об обормотах, о детстве, о холоде, голоде, грязи и недосыпе, об иррациональных порывах и том, как они обустраивают жизнь людей, к ним склонных, о доме, о родителях, о друзьях, о дороге. Керуак — лекарство от духоты и тесноты, какие иногда случаются в городских буднях, волшебный пистон безалаберности и позволения себе быть.
У Мервина Пика, мастера эпоса, есть такой вот сборник, и у сборника этого всего один недостаток: он огорчительно невелик. Холодные страшные притчи с сильной струей иррационального ужаса особенно ярко и удивительно воздействуют на голову, когда их подряд прочитываешь некоторое критическое количество, и в исполнении Мервина Пика мне бы их еще три-четыре (в сборнике есть две совершенно не страшные — строго наоборот — практически вудхаусовские байки, и, как доберешься до них, так сразу липкий сквозняк прежде прочитанного развеивается, мир вновь мил и дурашлив, пусть и по-прежнему довольно абсурден, и дальше приходится сдвигать точку сборки заново. Впрочем, нечего привередничать: памятуя о личной истории самого Пика, спасибо и на том.
Мне дороги многие персональные англии писателей-англичан, и Пик, само собой, свою страну создал — еще какую. Этот сборник можно считать некоторым тизером к "Горменгасту", хотя он ни сиквел, ни приквел, ни по мотивам, однако особый, узнаваемый сорт безумия, восхитительно без потерь предложенный читателю Пиком, там есть во всей красе, просто в миниатюре. Сама притча "Мальчик во мгле" — это вам и Гофман, и По, и братья Гримм (в непастеризованном виде), но все равно очень Пикова, сама по себе. И да, всегда интересно выяснять, что именно тот или иной любимый автор держит за "зло". В "Мальчике" зло, как и много где, — жестокость, т. е. психопатическая неспособность одного мыслящего существа переживать боль другого как свою и, следовательно, ни чем не ограниченное желание эту боль причинять — из экспериментальных соображений.
Однако жутче рассказ "Тогда же, там же" — потому что нам так и не объясняют цели зла, просто показывают существ, которые уже злу отданы (или отдались сами, нам это неизвестно).
Пик, как писатель, к которым я питаю особую нежность, — сказитель, его задача — предложить хрустальный шар, вынутый из собственной головы, а что с ним делать и какая из этого шара мораль, — это уж пусть читатель вынимает шар из своей головы. Мне в этом сборнике куда дороже тонкие правила миров Пика, а не мораль, которую можно оттуда выволочь в "этот" мир.
Поскольку я на финишной прямой в своем несколькомесячном походе на "Лучшее из Майлза" и сейчас полностью персонаж моноидеи, в этом эфире буду развлекать вас переводом стишка из этой книги и послесловия к нему, не обессудьте. Считайте это очередным тизером к грядущей книге, ладно?

Из раздела "Ирландские и попутные дела", Флэнн О'Брайен, "Лучшее из Майлза"
Воспою этой
песней
Трех ученых
известных:
Бинчи, Бёргин и Бест[1].
Подобрали
ключ к тайне
Языка
кельтов давних
Бинчи, Бёргин и Бест.
Они глубже
копали,
Чем старик
Куно Майер,
Разожгли
ярко пламя,
Взяли
Циммера[2] знамя
Бинчи, Бёргин и Бест.
Забирались
в чащобы,
Написать в Цайтшрифт[3]
чтобы,
Бинчи, Бёргин и Бест.
Трехголовый
колосс
Одолел кучу
глосс,
Бинчи, Бёргин и Бест.
Хороши
поясненья
к
допотопным склоненьям
и точны исправленья
—
вот
удовлетворенье,
Бинчи, Бёргин и Бест.
Впали в
гнев и в печали
От
Марстрандера Чарли[4]
Бинчи, Бёргин и Бест,
Движутся
как по рельсам
Все втроем
вслед за Цейсом[5],
Бинчи, Бёргин и Бест.
Через Тан[6] да стремглав
За
владычицей Мадб,
В «Кто найдет
первым Леди»
Поиграли с
О’Грэди[7]
Бинчи, Бёргин и Бест.
Пели хором
так славно
В Институте
(заглавном)
Бинчи, Бёргин и Бест,
Первый,
следом второй
Отошли на
покой,
Бинчи, Бёргин и Бест.
Третий
вложит старанья,
Чтоб
добиться блистанья
Парадигмы
былой
Любою ценой,
Бинчи, Бёргин и Бест.
Словом, форте кон брио[8]
И гип-гип в
адрес трио,
Бинчи, Бёргин и Бест.
Ну-ка,
други Покорны[9],
«Гран
Марнье» тяпнем вольно —
Ура, Бинчи, Бёргин и Бест.
Их недаром
мы ценим,
Ум и тыщу
умений,
Всё в них
сильно и смело,
Их отец —
Миль Гаэлов[10],
Бинчи, Бёргин и Бест.
Воспроизведение
целиком или частично запрещено. Все права защищены.
Не
экспортировать в Великобританию или Северную Ирландию без акциза.О любом,
замеченном за выносом песка с прибрежной полосы, будет составлено скверное
мнение.
[1] Дэниел Энтони Бинчи (1899–1989) — ирландский ученый, специалист по ирландской филологии, лингвистике и древнеирландскому праву; Осборн Джозеф Бёргин (1873–1950) — ирландский филолог, специалист по истории ирландского языка и средневековой ирландской литературе; Ричард Ирвин Бест (1872–1959) — ирландский ученый-кельтолог.
[2] Генрих Фридрих Циммер (1851–1910) — немецкий кельтолог и индолог.
[3] Журнал (нем.).
[4] Карл Йохан Свердруп Марстрандер (1883–1965) — норвежский лингвист, исследователь ирландского языка.
[5] Иоганн Каспар Цейс (1806–1856) — немецкий историк и филолог, основоположник кельтологии.
[6] «The Táin» («Угон быка из Куальнге», пер. А. Смирнова, «Похищение быка из Куальнге», пер. С. Шкунаева) — центральная сага Уладского цикла, одного из четырех больших, в которых сохранилась ирландская мифология.
[7] Стэндиш Джеймс О’Грэди (1846–1928) — ирландский писатель, журналист, историк; сыграл ключевую роль в Кельтском возрождении, опубликовав сборник ирландских мифов («История Ирландии: героический период», 1878); считал, что с гэльской традицией могут сравниться только мифы Гомеровой Греции.
[8] Громко, с огоньком (ит.).
[9] Юлиус По́корный (1887–1970) — австрийский лингвист, специалист по кельтским языкам и сравнительно-историческому языкознанию.
[10] Миль Испанский — персонаж мифов о происхождении ирландцев (их мифический предок); сыновьями Миля именуются ирландские гаэлы (гэлы).

Костю Дмитриенко я все пять лет нашего знакомства знала как плодовитого владивостокского поэта и энтузиаста-издателя. Наша ведьма (с), короче. А тут внезапно (для меня) оказалось, что Костя классный прозаик и стилист — и замечательный рассказчик. Последнее время все что-то повадились все подряд сравнивать с Пинчоном, но тут, на мой взгляд, осторожное и камерное сравнение уместно: Костя, как и помянутый Патрон всех недоходяг, ловко заплетает кучу персонажей и их историй, разбросанных во времени и, отчасти, в пространстве, с паранойей и некоторой чертовщиной.
Вторая ценность этого маленького в смысле страничности романа — в том, что она про российский Клондайк, т. е. про Дальний Восток и наш местный извод Золотой лихорадки, отягощенный бурной историей стыка веков и первых 30 лет века ХХ-го (ну и последующим интересным Советским Союзом, который русскоговорящего Дальнего Востока достиг несколько не так, как европейской части страны). Он касается того, что с людьми делает золото, и в этом отношении в нем запрятан алхимический флер, мне, понятно, родной и симпатичный (по сути своей; в романе-то у героев с этим делом всё довольно мрачно). Однако, сказать, что это и есть "мораль" книги, нельзя, потому что Костя, спасибо ему большое за уважение к читателю, разговаривает, как мы любим, т. е. ребусами, по-шамански — блюд из консервированной тюльки читателю не впаривает. Но по моему предположению роман — без всякого скорбного причмокивания и сокрушенных качаний главою — про пластичность человека, про всяких в нем зверей (или прямо-таки тварей, в библейском смысле слова), и до чего поверхностны всякие там определения типа "казаки", "белые", "красные", "япошки", "хунхузы" и пр. Я за это в том числе полюбила (трижды краснознаменные) романы Александра Григоренко —за вот эту честную отстраненность и безоценочность, такую трудную нам, западным людям, но такую богатую на оттенки — и на персональные выводы, за которые автор — еще раз спасибо! — никакой личной ответственности не несет.
А теперь — квазиспойлеры. Есть подозрение, что голос автора вложен в уста Уруя, который "то ли манегр, то ли тунгус, то ли маньчжурский уйгур", и Уруй этого романа — изящная ипостась хитрого бога (это моя интерпретация, ахтунг!), который знает варианты будущего, но рассказывает их только тем, кому сочтет нужным, обычно — "луча" (это не вполне люди, а такие орсон-уэллзовские персонажи, которым общечеловеческие законы не очень писаны, но за последствия они отвечают мощнее, в любую сторону нарушения или соблюдения этих законов, да и вообще за статус свой, который они то ли сами выбрали, то ли нет). Есть в романе и другие не-люди — Родий Ликин, например, а еще, вероятно, Юдиха ну и кое-кто другой. И с этими ребятами всё затейливее: они, похоже, не-люди как раз потому, что у них нет выбора, изначально. "Луча", таким образом, — существа, которые делают выбор, зная о последствиях, люди — существа, которые делают выбор, в лучшем случае предполагая последствия, а эти вот, которые не-люди, — у них выбора нет, и луча и люди обходятся с ними соответственно — т. е. как с дикими тварями из дикого леса (с). И все это на фоне голографического сгустка всамделишной истории Дальнего Востока, напомню. Колорит, достоверность, все дела.
Ну и техническое: книжку — пока, мы надеемся, — не достать, она в самиздатовском виде только, но мы работаем над тем, чтобы она стала доступна читателю пошире, чем чахлый тираж в несколько десятков экземпляров. О развитии ситуации, конечно, доложим — надеемся, что уже в этом году.
Мне интересны стихи, которые рассказывают истории людей. У стихов в этом смысле есть специфическое преимущество (оно же — строгое и дисциплинирующее требование) малого жанра: поэту, как художнику-импрессионисту, приходится отбирать из всей "байки", скажем так, даже не самое главное/важное, а то, что сделает суммарную игру цвета на полотне говорящей и эмоционально точной. Прозаику (или устному рассказчику) проще — места больше, ни рифмы, ни размера не требуется, есть где разгуляться, даже в пределах небольшого рассказа. Поэту же необходимо и историю рассказать, и математику стихотворения учесть, и не расплескать доносимый до читателя концентрат чувства. Это такое искусство художественной голограммы.
В "Фотосинтезе" у Веры таких историй немало, и мне они и Карвером откликаются, и Чеховым (сравнения одиозны (с), как мы помним). Понятно, что написать про то, с чем эмоционально не в силах соединиться, автор достоверно вряд ли может, и в этом смысле автор всегда — every woman, как пела нам Чака Хан. И нравится мне, отдельному читателю, что Вера в этом своем скрипичном соло не вылетает за границы истерики — там нужный градус надрыва, но он честный, без античных трагедий. И да: "Фотосинтез" — относительно ранние Верины стихи, но с ними, на мой взгляд, уже все правильно и хорошо, и это, конечно, повод для почтительного восхищения.
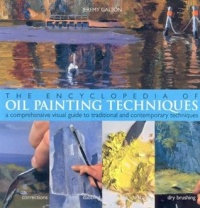
Кое-кто (я) — опять гад: этой книги, во-первых, нет по-русски, а во-вторых, это иллюстрированная методичка по живописи маслом, что (казалось бы) очень не всем из вас, дорогие читатели, занимательно. И все давайте я объясню, почему вообще здорово и прекрасно читать качественные методички по всякому искусству, которое можно без риска для здоровья и отношений в семье пытаться практиковать (заниматься ваянием крупных скульптурных форм, ковкой, литьем, травлением стекла, фресками и пр. не предлагаю именно поэтому).
Оставим за скобками очевидный факт, что рисовать умеют все, просто не все пробуют, равно как и другой очевидный факт, что это тихое безупречное счастье — возиться с цветом и видеть результат создаваемого почти сразу. Читать простые понятные доброжелательные рекомендации специалистов "чайникам" можно даже если не собираешься им, рекомендациям, следовать: они учат, как учить, объяснять, делиться, благословлять на любое занятие. В нашем конкретном случае художник Джереми Голтон объясняет — с картинками! — всякие прекрасные ремесленные штуки про живопись: как применять пальцы, как убирать всякую лишнюю фигню, как промокать избыток краски, как действовать сухой кистью, как рисовать губкой, а также дает кучу полезных маленьких советов про композицию, блики, светимость, контрастность, движение, дыхание линий и цвета, без порожняка и помавания перстами, всё строго по делу.
И, конечно, примеры! Альбомы живописи — дело хорошее, но в методичках смотришь на картины иначе, и как зритель, и как "чайник"-маляр, и как механик, пытающийся разобраться в устройстве этой гравицапы. Одного этого втыкания, в общем, достаточно, чтобы такое чтение имело смысл.
Ну и, конечно, (меня) накрывает зудом все бросить и немедленно забабахать какой-нибудь мост 50х70 см! Или уехать в Аптекарский огород, с палаткой и этюдником, эдак на недельку.
С писателем Михаилом Бару я познакомилась благодаря его хайку, в нулевых, в стародавние времена, когда Фейсбука не знали, жизнь в ЖЖ поверяли. А сразу следом был сборник "Один человек", в котором "Лайвбук" принимал участие как издатель. И дальше у Михаила Бару, к моему — и не только — счастью вышло еще несколько сборников в "Лайвбуке", и радуюсь я этому потому, что Мишины книги — любая из них — это и себя усладить, и, что важно, всяких взрослых местных родственников и уехавших друзей, которые с периодичностью спрашивают, что бы такого почитать для здорового и счастливого умащения ностальгии по русскому языку и стране, которая этим языком создается хорошо, т. е. по внутренней монголии, говорящей на родном нам языке. Страна, говорящая по-русски, у Бару всегда получается особенная, это особая разновидность честной идиллии, простите за противоречие в понятиях — которого на самом деле нет: наш автор умеет брать предметы, пейзажы, людей и события в руки так, что они сразу делаются хрустальными и звонкими — и смешными в самом лучшем смысле слова. У смотрящего на всё Бару в глазах — несомненно, красота, честная красота, на любом проселке, под дождем, у покосившихся построек и рядом с людьми в несвежих облаченьях. Это особый, редкий извод любви к месту жизни, ближайший к дзэну, — пристальный, спокойный, бережный, нежный и веселый. Города и негорода России у Бару — не из пряничного теста и не из кизяков, они у него сделаны из материи и энергии, цветных и неодинаковых, все по-настоящему, но ничего, что лично мне представляется довольно паршивой слякотью, — дальтонического патриотизма, умильности, высокопарности, брюзжания, снисходительности — там нет, и попутно жаль, что приходится описывать то, что там есть, через отрицание. Но, как я уже сказала, таков дзэн Мишиной любви к наблюдаемому.

У меня к писателю Лоре Белоиван одна-единственная претензия: у писателя Лоры Белоиван руки доходят писать существенно реже, чем мне этого хотелось бы. Я читала всё, что Лора подарила миру в виде букв, и сегодня в паре слов расскажу вам, почему необходимо прочитать "Пятьдесят первую зиму..." — и почему я очень обрадуюсь, когда/если Макс Немцов переведет ее на английский.
Эта восхитительно изданная книга (спасибо вам, Чеслав, за нее!), настоящий памятник книгоизданию, — в общем, монолог селянина Нафанаила, собирательный образ соседа по деревне. Про все на свете, т. е. в точности так, как разговаривают селяне, когда в них не тыкают диктофонами, камерами и прочей аппаратурой по сбору народного фольклора. Никаких предисловий и послесловий нету, нам не рассказывают, где Лора этого нахваталась, потому что сапиенти сат: весь интернет знает, что Лора живет в Тавричанке, деревне под Владивостоком (и там помогает морским млекопитающим оживать, потому что так повелело ей сердце много лет назад). Деревенские люди — вокруг Лоры, она их слушает, а когда у человека такой слух, ни в какого селянина приборами тыкать не надо: сага их жизни конденсируется на бумаге не документально, и в этом еще больше правды, чем в "журналистском расследовании".
И вот еще что оказывается: если вот так реконструировать нафанаилов и их речь, обязательно получится стихотворение. Читаешь "Пятьдесят первую зиму" и понимаешь, что это самая настоящая поэзия, и ни единого матерного слова или междометия из нее не выкинешь — настолько здесь все необходимо и точно. И поэтому — стихи. Белые. Серые. Зеленые. Цвета мокрой телогрейки. И всех остальных, обязательно. Я даже пробовать не буду определять, грустно там или весело. Инопланетный гость счел бы, что очень информативно и энергично. А у нас землян — и горожан к тому же — очень много всяких трафаретов, понималок и толстого с достоевским в головах. И вот это, мне кажется, нам могло бы помешать восхититься Нафанаилом во всей его широкой красе.
А какая в этой книге графика Ильи Викторова!
Сейчас эту книгу фиг сыщешь, хотя тираж был 1000 экз. У нас — есть. Почитать дадим только в гостях, не на вынос!
егодня, дамы и господа, я намереваюсь сделать самой себе поблажку и рассказать вам не про свежепрочитанную книгу "Знаешь, кто помер?" Пэдди Даффи (всем интересующимся частными подробностями современной жизни Ирландии, доложенными в фасоне "Нового Сатирикона", рекомендую пылко, по-русски нету, правда; оригинальное название "Do you know who is dead? A hilarious celebration of what makes us Irish"), а про... ага, про Флэнна О'Брайена опять. А поскольку я вам про него докладывала дважды (тут и тут), по разным поводам, сегодня будет парочка не обнародованных еще фрагментов из перевода "Лучшего из Майлза", который я сейчас колупаю. Считайте этот эфир тизером (или тазером, кому как придется) и, одновременно, поводом умилиться, до чего все остается без изменений, по крайней мере — в Европе, если нам с вами по-прежнему приятно считать себя европейцами. Заранее предупрежу: все непонятные слова в нашем издании будут откомментированы в сносках до понятности. Все приводимые фрагменты были опубликованы в 1940-х гг.
Участвовать в издании можно (и нужно, следовало бы добавить, но я не буду, потому что уже добавила) тут.
Из раздела "Исследовательское бюро"
Полезный инструмент
Проиллюстрированное сегодня изделие (угадали?) — снегомер. Ныне их в Ирландии совсем немного. Он изготовлен из меди и состоит из воронки, или трубы-уловителя, для снега, которая расширяется внутри прибора, а затем восемнадцать дюймов ее ведут вниз, что позволяет снегу падать в подставленный поддон. Вокруг датчика располагается кожух, который можно нагревать горячей водой и тем самым плавить снег. Благодаря этому устройству снег никуда не денется: он растает и стечет в ведро, размещенное ниже, где и будет тщательно измерен.
Ну и что, скажете вы. А я вам объясню, что. В том, чтобы иметь у себя снегомер, есть одно большое преимущество. Предположим, случится близ вашего дома слоняться какому-нибудь луноликому юноше, какие читают Пруста и несут всякий вздор про искусство, жизнь, любовь и тому подобное. У него, разумеется, найдется в запасе несколько плаксивых фраз на французском, которые он через подходящие промежутки времени станет бережно доставать, как достают из кошелька монеты. Неизбежно наступит день (даже если вам придется ждать много лет), когда он вздохнет и пробормочет:
— Mais où sont les neiges d’antan?[1]
Вот она, ваша возможность. Ваш звездный час. Хватайте этого олуха за шиворот, тащите к снегомеру и вопите:
— Да в ведре, болван!
Готов поспорить, вам будет приятно.
[1] «Но где же прошлогодний снег?» — строка из стихотворения «Баллада о дамах былых времен» (1461/1462) французского поэта Франсуа Вийона (1431/1432 — 1463-1491), пер. Н. Гумилева.
Из раздела "Простой народ Ирландии"
Ни в коем случае не следует забывать, что владение имуществом на правах сокмена, полученное по феодо-копигольдам персонально и переполученное по пактам ленного жалования пожертвованной в пожизненное пользование правом…
Простой народ Ирландии: Слушаешь — будто грязная вода из дырки в лопнувшем резиновом мячике прыскает.
…отчуждаема лишь по droit о перевыполнении закона, действующего в праве поквартальной платы вдове, претендующей на копигольды усопшего супруга, или же в возвращении копий seisinafacitstipidem, законной копии с маркой в два пенса стоимостью, каковую следует подать в суд Звездной палаты.
Более того, рента без ответственности по долгам может быть ущемлена подобным пожизненным владением недвижимостью или взысканиями по документальному владению и переприсвоена путем открытого торга и состоит далее в graund serjaunty du roi, а, чтобы доставить все это дело из Лиссабона, должно хватить восемнадцати рыболовецких баркасов.
Простой народ Ирландии: А рыболовецкие баркасы тут откуда?
Моя персона: Обыкновенно из Хоута.
Простой народ Ирландии: Да нет, какое они имеют отношение к тому, что вы говорили?
Моя персона: Все в порядке. Я просто пытался выяснить, вы все еще читаете, что написано, или нет. Кстати, я тут наткнулся давеча в таверне на одну смешную шутку.
Простой народ Ирландии (хихикая): Ну-ка?
Моя персона: Там объявление на стене было. Такое: «Мы достигли соглашения с нашим банком. Они согласились не продавать напитки. Мы, со своей стороны, согласились не обналичивать чеки».
Простой народ Ирландии: О, ха-ха-ха! Хо-хо-хо! (Звуки тысяч хлопков по ляжкам в пароксизме веселья.)
Моя персона: Вот и славно. Я знал, что вам понравится.
Из раздела "Критика, искусство, письма"
СРОЧНО В НОМЕР! Когда крыша течет, а пианино нуждается в настройщике, когда прорывает газовую колонку, а брат (на побывке) линяет по-тихому в пивнушку, что делаю я? Я посылаю за специалистом, обученным человеком, и оставляю решение проблемы ему. А когда придет час расплаты, я все улажу в соответствии с типовыми расценками, осененными парой столетий общественных договоров. Но когда желаю что-нибудь почитать, я обычно пишу это сам.
Впрочем, приметил я в газетном киоске на днях «ПАК ФЭР», отпечатанный невзирая ни на что на качественной глянцевой белой бумаге и посвященный милому капризу, что писатель — настоящий писатель, понимаете, да? — есть профессионал, искусник, высокообразованная персона, которой никогда не следует платить меньше пяти фунтов за хорошую работу. (Я бы делал за четыре и шесть пенсов, мистер О'Фаолейн, но тогда это уже не работа.)
Поскольку этот журнал представляет собой свидетельство непроизвольного признания профессионального статуса за целой безымянной бандой людей и поскольку материалы этих экс-ПАХМА-дилетантов можно счесть в лучшем случае технической работой («Искусство наконец-то не меряется (так!) по линейке», несведущим допустимо восторженно любоваться сияющей аппаратурой. В смысле, синтаксисом и пунктуацией, — мы знаем, что с ними порядок, но все же нам бы глянуть. Покупатель имеет право требовать, чтобы нанятый им словесник словеса свои писал по крайней мере грамотно.
Страница 19 посвящена балету, и автор счел необходимым дважды упомянуть иностранного джентльмена по фамилии Йосс, из соображений экономии отчекрыжив вторую «с» и тем сберегши бумагу. Десятью страницами далее главное перо ПАХМА представляет очерк, который начинается со слов «Шоно Кариссимо» и клеймит — с давлением пятисот фунтов на квадратный дюйм: «Ничего, кроме рояля, из-за озаренных желтых занавесей не слышал я, и метал он громадные, набрякшие, штормовые брызги Концерта ля-мажор!» Любой, кто в силах сыграть концерт на фортепиано, заслуживает больше, чем пять фунтов, во всяк-кий день на неделе. Появляются еще два иностранных джентльмена, и автор воображает, что их звать Брэйгель и Бохаччо. Любопытен и оборот «карио мио», возникающий ближе к концу этой работы, он, без сомнения, намекает на некий романсный язык. (И, более того, «циклоп» — это род. пад. ж. р.).
На странице 35 нам мимолетно попадается «Роберт Эмметт», однако нет упоминаний о «Джоне Митчелле» и «Артуре Гриффите». Две страницы спустя нас знакомят с гэльским новшеством. ‘Ni thagaim geilleadh do’n chúirt seo Guvóradeeaurinn!
Страница 41 предлагает нам изысканное развлеченнье (или же, как это наверняка называется, развлечение) — интервью с самим Глашатаем. Литературный тон здесь еще выше, пусть даже «Диннин» удостаивается лишь двух «н» из трех, а самому́ великому лексикографу походя приписывают изуверства вроде Faoileánn, Faoileánnda и Faioleánndacht. Здесь же, впервые в истории литературы, возникает слово tournédos. (Есть у нас такие, но без вот этого диакритического знака, старина.) На странице 42 мы видим из-под вскинутых бровей фразу: «Не один вечер подряд излагал я в своего приятеля эти кошмарные истории Жан-Жака» (так твою растак).
Все это воспринимается как мелочные придирки, и в этом я с вами соглашусь, так и есть. Но дело вот в чем: если эти спесивые высокообразованные гении письма, уверенные, что они стоят больше пяти фунтов, настырно втаскивают за благородные загривки иностранные слова к себе в тексты, отчего бы не делать этого аккуратно, тем самым показывая, что употребление этих слов совершенно непринужденно и есть результат долгих пребываний за рубежом?
Однако вернемся к. На странице 55 произведение мистера Джойса именуют «Finnegan’s Wake». Все тот же нахальный апостроф ускорил кончину несчастного писателя. На странице 63 имеется аллюзия на «Иллиаду» Гомера, на той же странице слово Primevera следует за артиклем Le, слово Pièta возникает там, где явно должна быть Pietà, триптих именуют трайптиком, а у мисс Джеллетт в фамилии не достает одной «т», ьфу-ьфу-ьфу, никому не пожелаешь.
Любого профессионального борзописца, окажись он повинен в перечисленных мною проступках, следует увольнять в одночасье. Ответственные граждане, может, и стоят в мире словесности шиллинг и шесть пенсов, но никак не пять шиллингов.

На сей раз хоть книга и на английском, ее можно нарыть на наших территориях, поскольку публиковало ее 13 лет назад московское издательство "Глас" (в котором выходила, среди прочего, дорогая моему сердцу "The Russian Word's Worth" чудо-женщины Мишель Бёрди, а сама Мишель навещала "Додо" году в 2010-м). Ужасно жаль, что "Глас" закрылся, но некоторые книги еще добываемы, в частности — "Twelve Stories of Russia".
Мне увлекательно и интересно — а кому нет? — слушать и читать иностранцев, которые провели в этих местах не пару недель, а заметные несколько лет, обжились, заговорили по-русски и совершили труд акклиматизации в наших затейливых широтах. Это всякий раз уникальный эксперимент на живых людях — полное и продолжительное погружение в чью-то другую жизнь, и в определенной мере читать такие отчеты — как смотреть "Подводную одиссею капитана Кусто", только с позиции кальмара.
Перри, в отличие от Мишель, написал роман, а не журналистские очерки, но роман, в котором поэтической лицензии выделено очень скромное и почти целиком стилистическое место, а все факты, что называется, на руках: я в силах это удостоверять, потому что Москву 90-х помню вполне отчетливо, она пришлась на мои старшие классы, вуз и первые два года работы после.
Пишет Перри, в некотором смысле, как Миранда Джулай, т. е. не вставая ни на чье место вовсе, зато хорошенько и на полную искреннюю ногу занимая свое. И поэтому летопись 6,5 лет, которые Перри провел в Москве, пока не решил окончательно и бесповоротно ее покинуть, — временами удушливо-кафкианская, иногда хармсовски-абсурдная, а кое-где гулкая и одинокая при всей многолюдности, как интерзона битников. Этот текст совсем не похож на многие отзывы о Москве иностранцев, какие мне приходилось читать и слышать: Перри не напяливает на "непонятное" слово "самобытное", а то, что ему дико, описывает по правилам "Страны приливов", т. е. как ребенок или инопланетянин, которые честно не знает, как это назвать и как к этому относиться. Его персонаж — целенаправленно неприметный, негеройский, неавантюрный молчел, который честно не до конца понимает, зачем его сюда принесло, а высшую цель его поездки — и всего романа — ему сообщает в самолете сосед-немец. Здесь с ним случается то же, что с любым живым, оказавшимся на чужбине: любови, освоение языка, местных пищевых и питейных привычек, приемов быта, преодоления бюрократии... Герой не рассказывает нам, как и что он чувствует, но мы прекрасно понимаем, каково человеку, если он стоит в очереди в овощной магазин под холодным проливным дождем без зонтика (в начале 1990-х) и ждет, когда закончится обед, и ему удастся добыть хотя бы картошки. Или каково ему после падения в пьяном виде с эскалатора. Или каково ему, когда ему нужно вылететь на похороны матери, а в кассу "Аэрофлота" он, после многочисленных опасных приключений, попадает через несколько минут после ее закрытия, и не с рублями, а с долларами в кармане, цент в цент цены билета, а ему еще нужно попасть на м. Ждановская, а потом в Шереметьево.
Такой Москву я не видела сама и не увижу уже никогда, но Москва Эндрю Перри все равно теперь со мной.
Очень не бегом и дозированно, короткими перебежками читаю я "Улисса" в исходнике. Это, несомненно, несколько другая история, чем "Улисс" по-русски. К переводу у меня нет никаких вопросов, просто любому внутреннему ирландцу ну надо все-таки осилить этот глобус хоть разок. Я уже слегка самовыражалась по касательной об "Улиссе" и "Радуге тяготения" в одном эфире, а сегодня будут некоторые заметки строго о Джойсовом магнум-опусе.
Энциклопедичность оставим в сторонке, больше хочется поговорить о синестетических и временных фокусах этого романа — как минимум потому, что "Улисс" можно читать, включив смирение и дзэн и выключив настырное желание ума понимать, кто этот конкретный Вася, на какого Валеру тут аллюзия и почему именно здесь автор употребляет метафору печальной выдры интересного цвета. Чтение "Улисса" чувствилищем (с обесточенным церебралищем) — это полновесный способ получать удовольствие и уникальный читательский опыт (за вычетом эпизода 9, где это удовольствие несколько портит Стивен Д. и его собеседники). Проводник чувственного чтения "Улисса" для меня — конечно, Блум, и если Дублин и не отстроить кирпич к кирпичу по "Улиссу" заново, как утверждал Джойс, его можно отстроить запах к запаху, ветер к ветру, звук к звуку.
Сенсорная сила этого текста поразительна, он вновь безупречно доказывает, насколько открытому (и выспавшемуся) уму все равно, как получать информацию — в виде "реальных" возбудителей извне или в виде рядов черненьких штучек на белом фоне. Единственная — да и та не принципиальная — разница состоит в том, что, стоя посреди июньского города, закрыться от его красок, звуков и запахов можно, но трудно, а сидя дома с книгой — запросто, т. е. от читателя все-таки требуется явное деятельное желание, чтобы город возник. В этом и состоит хрупкое обаяние чтения — без соучастия читателя волшебства не состоится, художественный текст — эпитома ненасилия.
Если в вас есть внутренний Дублин, словом, но вы боитесь "Улисса" — смело бросайте бояться: этот роман можно с наслаждением читать, совершенно оставив в покое (толстенный) пласт энциклопедичности и просто предавшись картинам и разговорам, вкусам, цветам, запахам и звукам. А потом можно и читануть повторно с Гиффордом. Я читаю главу насквозь и снимаю все пенки и сливки, а потом грызу церебральные сушки из "Аннотаций".
(Продолжение следует.)
Когда выходит писать про книги, с которыми так или иначе возился, — это одна особая история. А когда еще и автора знаешь за ужином и завтраком — это другая, еще более особая история. Рок Бриннер — человек-оркестр, который, будь он индейцем, а не американо-швейцарцем с русскими корнями, за жизнь насобирал бы с десяток разных имен, потому что разных замечательных жизней у него уже набралось больше, чем у кошки. И, в частности, поэтому его книгу имеет смысл читать далеко не только тем, кому интересна история ХХ века, история русского Дальнего Востока, молодого Голливуда, парижской жизни столетней давности и рок-н-ролльных бурь 1960–1970-х (потому что про все это Рок пишет — характерным для него кокетливым no-big-deal-тоном), но и тем, кого захватывает наблюдение за лавиной жизни, в любых ее проявлениях. Потому что династия Бринеров-Бриннеров — это она, лавина жизни.
Владивосток — город сравнительно юный, и, как никакой другой, был создан великолепными авантюристами и истинными космополитами, т.е. людьми, которые хотели не славы и покоя, а приключений и открытий. Ну и денег, понятно. Здесь тоже был своего рода Клондайк, с громадными шансами всем смелым — и рисками им же. Сумасбродные, но, как показывает история, сметливые европейцы и американцы начали собираться здесь во второй половине XIX века и, вдали от всего столичного, создавать всё новое среди нехоженых красот на берегу Тихого океана. А дальше... дальше пришел ХХ век, и все заверте с еще большей скоростью и непредсказуемостью. И, в общем, вертится до сих пор (несмотря на то, что нас уже укачивает).
Рок — историк, ему по профессии положено рыться в архивах, достукиваться до очевидцев и их потомков и пытаться собрать панораму из тысяч разрозненных кусочков. Но Рок еще и Бриннер, ему дорога история личная, семейная, и потому у него получилась книга, которую можно было бы счесть мегаломанской, только не читая. А прочтя, понимаешь, как прекрасно и правильно излагать летопись мира как расширенную историю собственной семьи. Это так же правильно и хорошо, как излагать мировую историю как фон к эволюции музыки, живописи, литературы и всего такого, что человек создает, а не разрушает.
Сегодня я планирую восторгаться не только содержанием некой книги, но самим фактом и способом ее существования, а заодно и традицией, в которой она жива.
Крошечную книгу (прямо сингл, я бы сказала) "К. илл. ист. бл." Вовки Кожекина я впервые увидела с подачи старого додо Тома в ЖЖ, в виде картинок. На бумаге ее тогда еще не было, но я до визга люблю все книжное, сделанное с восторгом и душой от начала и до конца, и совершенно не важно, сколько в книге страниц и какого она формата — да хоть две и 84х108/105000. Есть в маленьком самиздате что-то от записок в вечность — у них есть чувство юмора, стиль и изящество ваби-саби, даже у новых, потому что они, как я слышу от них, полностью сознают свою эфемерность. Их создатели — тоже лучшие в мире боги, потому что они тоже все понимают. А мы, влюбленные читатели, будем эти маленькие записки хранить и передавать из поколения в поколение. И так было всегда. Из вот таких маленьких приветов получаются семейные реликвии.
Книжка Вовки Кожекина, как впрямую и по-честному следует из названия, — к. илл. ист. бл. Она так отрисована и сверстана, что я, не зная Вовку лично, слышу его голос — ну т.е. голос влюбленного рассказчика, который говорит строго по делу, прекрасным живым человеческим языком без лишних выкрутасов, и я бы с удовольствием купила и прочитала вот так сделанные к. илл. ист. рэгги, панка, ска, а также чего угодно в истории культуры — не потому, что это дает мне полное знание предмета, а потому что это записка с нашей планеты про то, что мы тут любим — и что совершенно безвредно, в кои-то веки.


Дисклеймер: к этому эфиру прикреплена другая (исторически первая) книга Джулай, сборник ее рассказов, но она полностью стилистически показательна. Роман "Первый нехороший человек" пока не переведен на русский язык, но вдруг, кто знает... "Голос Омара" не раз генерировал в этом отношении правильную магию.
Все, что делает Миранда Джулай, — ее проза, поставленные ею фильмы, сыгранные кинороли, художественные оффлайн- и онлайн-проекты — пропитано удивительной уникальной жидкостью инопланетного из-умления. Это из-умление лишено каких бы то ни было полярных чувств вроде восторга или отвращения. Это чистое пространство, не знакомое с аналитикой. Я не представляю, как это можно эмулировать, носить, как маску или колготки, а вечером снимать и делаться рефлексирующим, самонаблюдающим существом, какие мы суть все, по большей части. По отзывам многих зрителей, главный ужас терри-гильямовской "Страны приливов" состоит как раз в том, что все происходящее мы видим глазами ребенка, который пока не "понимает", что именно он наблюдает. Под "пониманием" имеем в виду способность назначать событиям категории из полярного набора; взрослый — тот, среди прочего, кто насобачился безошибочно и молниеносно эти категории назначать и следом блаженствовать или мучиться от результата произведенного назначения.
Миранда Джулай, технически, — взрослая тетенька за 40. Но всё, что она пишет, не имеет категорий. Мирандины "плохой", "уродливый", "противный" и пр. не напитаны ею; читая ее тексты, понимаешь, что она — как земные дети — заимствует эти категории, никак с ними не сродняясь, не присваивая их. Присваивает она совершенно другие вещи — те, которые непосредственно видит (или домысливает). В некотором смысле Миранда — хайнлайновский "белый свидетель", однако свидетельствует она тому, что видит не только снаружи, но и внутри себя — и в глазах других, и для нее во всем этом нет никакого различия, это одно и то же. Это хайнлайновский Валентайн Майкл Смит.
"Первый нехороший человек" — первый, просите за вынужденную тавтологию, роман Джулай, сюжетно он про странную 40-с-чем-то-летнюю женщину Шерил, которая представляет собой поначалу интересный гибрид Шелдона Купера и Эми Фаулер (это было сравнение для тех, кто смотрит "Теорию Большого взрыва"). Она работает в конторе, 20 лет производящей видеометодички по самообороне для женщин. У Шерил причудливая личная жизнь с самой собой, в которую втянуты окружающие ее люди, хоть они об этом и не догадываются. У Шерил вообще причудливейшая жизнь, о которой никто не догадывается, потому что она есть у каждого, кто постоянно и все замечает и никак не оценивает, и, наоборот, ее нет у тех, кто замечает мало что, кроме своих оценок (это все мое морализаторство, ничего подобного в тексте ни говорится вслух, ни подразумевается — и это важно). У Шерил есть прошлые, настоящие и, потенциально, будущие воображаемые друзья, она носит свою планету на себе и поэтому практически везде и всегда дома.
Впрочем, никакая идиллия не вечна, и на планету Шерил высаживается чужой. Вернее, чужая — барышня Кли 20 с чем-то лет отроду, и этот землянин женского пола устраивает Шерил конфликт цивилизаций. Дальнейшее изложение сюжета будет сплошным спойлером, поэтому воздержусь. Поразительно то, что вроде бы вполне обыденная бытовая коллизия натур длиною примерно в год (то же мне новость! люди разные, и им трудно друг с другом!) со всякими несверхъестественными человеческими катавасиями читается как остросюжетный триллер с наркотиками, спасением Земли от Судного дня и блистательными ушами Дэниэла Крейга в каждом втором кадре. Нет, Кли не приобщает Шерил к землянам, а Шерил не забирает Кли на свою планету. Все по-настоящему, никакой карамели в сахаре. Всё красивее.
Потрясающая, полная, бескомпромиссная невозможность понимания между людьми дается Миранде на "отлично". Чтобы оно давалось на "отлично", это нельзя оплакивать, нельзя цокать языком, качать головой и устремлять повлажневшие взоры к предполагаемому горизонту. Нужно подробно, скрупулезно и очень бесстыже наблюдать и докладывать читателю. И вот это бесстыдство — взахлеб, без единой утайки, без жеманства, эвфемизмов и изгибания позвоночника — раздражает тех Мирандиных читателей, которых это раздражает. Я, в целом, в состоянии их понять: понятно, когда из-за какой-нибудь невозможности скорбят, вздыхают, негодуют или даже цинично поплевывают через губу. Но трудно вынести, когда ее подробно, перебирая замурзанными пальчиками, раскладывают по крупицам, никаких вердиктов о ней не вынося. Джулай голосом Шерил (своим, понятно, голосом — он у нее один везде, во всех ее работах, как я уже сказала) постоянно сообщает о ситуациях, которые девять из десяти — повод для малого или большого "финского стыда", это мучительно гадко, противно, унизительно, несправедливо (продолжите список сами — у любого из нас найдется еще пара десятков наречий из этого ряда). Но довольно скоро критическая масса этих наречий внутри схлопывается в громадный восклицательный знак, под которым тихонько, петитом набрано: все это "гадко, тоскливо, унизительно..." только потому, что ты это так назвала.
Роман "Первый нехороший человек" похож на человека, который на ваших глазах совершает что-то непостижимое, что-то сверх выносимого, у вас сердце воет и ёкает, пока вы глядите на это, а этот человек не подозревает, что вообще-то на Земле принято над всем этим выть и ёкать. Ему, этому человеку, не рассказали, как надо. Поэтому он живет, как на Марсе. Здесь.
Вместо эпиграфа и предуведомления одновременно:
That is my theory, it is mine and belongs to me, and I own it and what it is, too.
— Из теории бронтозавров авторства Энн Элк,
"Воздушный цирк Монти Питона", 16 ноября 1972 г.
Размышлять о бессмертном "Понедельнике..." (и время от времени оттопыриваться, перечитывая) мне лично интересно не потому, что это остро-умный и ловкий текст — и в смысле диалогов, и в смысле авторского нарратива; не потому, что там есть несколько простых, но красиво предложенных соображений о времени-пространстве, о свободе научной мысли и творчества (и всякой другой свободе тоже), о неписанных правилах жизни ученого сообщества, о специфическом лабораторном угаре и пр.; и уж конечно не потому, что пол-текста растащили на цитаты еще когда меня не спроектировали и не запустили в производство. Меня в "Понедельнике..." с первого прочтения еще в школе зачаровывала тема (и явление), которое я для себя позднее поименовала "истинным прайдом".
Все человеческие сообщества я для себя делю на истинные и искусственные прайды. Искусственные прайды составлены из людей, вписанных туда по каким угодно причинам, кроме собственного пылкого желания и совместного созидания. Кровные родственники, этнос, нация — показательные примеры искусственного прайда. В истинный прайд человек входит по собственной сознательной воле, желая этого, и может по собственной же воле покинуть его, когда захочет. Истинный прайд, да, может сложиться случайно (элемент случайности в нем есть всегда), но его жизнь и смерть — в значительной мере в руках вошедших в него людей. В истинном прайде люди вместе, потому что у них есть сознательное совместное делание (чего угодно). Театральная труппа, группа автостопщиков, артель художников, великолепная семерка, братство кольца — всё это примеры истинных прайдов. Можно сказать, не слишком преувеличив (ну, может, слегка присев на поэтическое допущение), что истинный прайд занимается спасением вселенной на своем отдельно взятом квадратном полуметре.
Динамика истинного прайда для меня занимательнее и роднее динамики прайда искусственного раз в тыщу, а научное сообщество — сколь угодно весело представленное Стругацкими — мощный истинный прайд. Да, Стругацкие нам прямым текстом говорят, что участникам такого прайда сидеть дома с представителями своих искусственных прайдов скучно и неинтересно, что они сбежали из-за новогоднего стола, чтобы не отрываться от любимого наркотика — совместного делания с настоящими своими, воплощения сказа своей жизни, для которого даже новогодняя ночь не имеет права и не может быть поводом для перерыва. Из "Понедельника..." я впитала, не жуя, а уж потом уестествила сознательно то, что лишь с виду — так называемая "протестантская трудовая этика", а на самом деле "много-много работы" бывает очень по-разному, и в истинном прайде "работа" существует только в значении деятельной части жизни, времени бодрствования, а не чего-то, что нужно оттрубить и уж потом приниматься за жизнь. "Понедельник...", таким образом, — гимн не расчлененного на шизофренические части творящего бодрствования вместе с истинными родственниками.
После "Понедельника..." и до сих пор я ищу в литературе, среди прочего, образцы жизни истинных прайдов. И, конечно, нахожу, хоть и меньше, чем хотела бы. Сама про это тоже написала книжку. Но "Понедельник..." — не только в силу того, что он был, в общем, хронологически первым и смешным, и умным (а это невероятно важно для меня) текстом про истинный прайд, он останется у меня-читателя на особом счету навсегда. И этот эфир о книге, которую не читал только ленивый, да и тот случайно, я посвящаю этому особому счету.
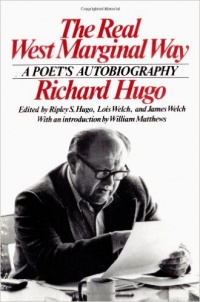
Опять я за свое — то есть за книгу, которой нет (и с громадной вероятностью никогда не случится) по-русски. Ричард Хьюго — уже не чужой нам с вами человек: полтора года назад мы в "Додо" сделали "Пусковой город" — сборник очерков/лекций Хьюго по стихосложению, я перевела сколько-то его стихотворений и вообще на некоторое время на Ричарде Хьюго залипла. Эфиров про него на "Омаре" было аж две штуки (1 и 2). Я по-прежнему хожу время от времени читать его стихи. И вот почитала я его автобиографию.
На самом деле это не прям мемуары, а сборник его автобиографических очерков и интервью разных лет, то есть не было такого, что Хьюго сел как-то раз на старости лет (в смысле, в 50 с небольшим, поскольку помер он, скажем так, рано) да и записал что вспомнил о своей жизни. Тут и настоящее, и прошедшее время, и я заметила, что это несколько иная история, чем однажды сравнительно быстро написанные воспоминания сразу обо всем.
Так вот, читая "Настоящий...", я постоянно ловила себя на мысли, что, похоже, понимаю, почему мне дорог Ричард Хьюго — и как поэт, и как мгновенная траектория падающей неяркой звезды. И сейчас, возясь с переводом одной из книг Жижека, вновь к этой мысли вернулась. Хьюго писал так, словно спокойно сознавал, сколь не памятна для человечества, истории, культуры, цивилизации и прочего, что дольше одной человеческой жизни, эта самая человеческая жизнь. Хьюго сочинял такие стихи и очерки, в которых — поверх невероятной сокровенности высказывания, свободного и от любого надрыва, и от какой-либо рисовки, и от наивной простоты, — отчетливо и чисто слышно это... даже не смирение перед бездной не-существования, нет. Смирение, как я себе это вижу, требует от нас, непросветленных, самолюбующихся, "уникальных" человеков, внутреннего труда, преодоления, постоянного мементо-море. А тут такая природная осознанная в себе эфемерность, ее не сыграешь, не изобразишь. Хьюго прожил довольно унылое полусиротское детство, как-то учился, работал инженером на заводе, водил самолеты во II Мировую, женился-разводился, преподавал, писал, публиковался, катался на машине, гулял по горам, дружил — словом, был в жизни, как просто человек. У любимых мною Доджа и Снайдера, тоже поэтов-регионалистов, суровых мужиков с крайнего Запада Штатов, есть эдакая харизма фасона "Фишерменз Френд": борода, лукавые искры из-под кустистых бровей, разнорабочее прошлое, приключения, сомнительные и несомненные, прислоненность или прямое участие в больших культурных поворотах, и, глядя на них, труднее представить, что их забудут (особенно Снайдера). Глядя на Хьюго, это представить легко. Тем дороже мне его вот это парение, как кленового листка на ветру: листок отрывается от ветки и недолго красиво падает на землю, совершенно не сознавая, что это в первый и последний раз. Хьюго это явно понимал о себе, но ни разу не перестал смотреть на жизнь в оба глаза, писать стихи об индейских лесах и объяснять (себе самому) ветер. А я — из любви-назло — буду выполнять работу памяти о Ричарде Хьюго.
— Малыш, — обратился ко мне Ааз, — скажи мне, что ты тренируешься.
Скажи мне, что ты на самом деле не стибрил еще одного глупого дракона,
чтоб сделать нашу жизнь совсем несчастной.
Не хватило пятикнижия в шести томах Дагласа Эдамза? Тоскуете по очередному Мёрсу, который всё никак не переведется с немецкого на понятный? В претензии к Бонфильоли, что он слинял (помер), оставив нас томиться по своим черновикам? 12 романов "Мифического" цикла Асприна вам тогда прописаны, как витамин Це.
Я читала эту радость лет двадцать назад, и они со мной случились до Эдамза, Мёрса и Бонфильоли. Это был мой первый трип в пространство смешной игровой авантюрной фантастики, и я, конечно, валялась и рыдала слезами. Совершенно без толку пересказывать приключения этого паноптикума персонажей в поисках славы и богатства, довольно помянуть обожаемого демона (изверга) Ааза, который сочетание всего, что мы любим в эмоционально неуравновешенных наделенных магическими способностями великолепных прохиндеях; это счастливое сочетание Джубала Харшоу, Портоса, Джока и еще полудюжины блистательных проходимцев.
12 романов — это довольно много текста, а Асприн — автор щедрый, и его пространство, как и у Эдамза, состоит из десятков разных измерений со своими обитателями, их нравами, обычаями, традициями и источниками поживы для хозяев корпорации "МИФ". Базар-на-Деве, к примеру, — мое любимое.
Славу свою Базар приобрел не зря — он огромен, в этих бесконечных рядах палаток и ларьков можно купить и продать все что угодно. Здесь говорят на всех языках (в других измерениях необходимо пользоваться кулоном-переводчиком), потому что не вылупился на свет еще такой девол, который упустит возможность продать что-либо лишь из-за такой мелочи, как незнание чужого наречия. Заключивший сделку с деволом поступит мудро, если пересчитает после этого пальцы, руки и ноги — сначала у себя, а потом у своих родственников. Особенно если ему кажется, что сделка была выгодной.
Базар-на-Деве — колоритное измерение, обязательно рекомендуемое к посещению. Помимо всего прочего, здесь можно приобрести
И-Скакун. Даже если вы уверены в собственной магии, дополнительная гарантия никогда не помешает.
А сверх того Асприн — большой любитель каламбуров, словесных трюков, шуток, подмигиваний и тыканий локтем в бок, а в ру-переводе много чего удалось сохранить.
Словом, желаете кататься на космической тройке с турбобубенцами и глазеть на инопланетных созданий, смахивающих на барышень — вперед. Найдется потеха и для тех, кто читает такие книги исключительно ради каламбуров.

Гэри Снайдеру — 85 громадных лет, в них битком миль, света разных оттенков, деревьев, рыб, ветра, соли, пота, щебня, мозолей, молчания, рук, глаз, губ, холода, кораблей, знаков на бумаге, камне, стенах и в облаках. У Гэри Снайдера было три интересных жены и Пулитцеровская премия за сборник "Остров Черепахи" (1974). У Гэри Снайдера было Сан-Францисское Возрождение, друзья-битники, многие годы в Японии, серьезный буддизм, переводы, лекции, публикации. Но главное, похоже, вот что: у Гэри Снайдера есть Гэри Снайдер. У нас на русском языке, насколько мне известно, вышел всего один его сборник, ассорти разных лет плюс переводы "Холодная гора", а этого очень мало (хотя прекрасен издатель, привет ему сердечный — артель "Напрасный труд").
Гэри Снайдера я люблю через Джима Доджа, потому что в нулевых увидела на обложке Доджевой книги блёрб Гэри Снайдера и пошла читать. Временами мне кажется, что они двоюродные братья, эти деды. Но потом читаю Снайдерово японское и слышу там очень отдельный его голос.
Снайдер — в точности моя разновидность поэта-шамана-медиума. Поэт и медиум для меня прямые синонимы: любой (в моем понимании) хороший поэт — обязательно чревовещатель-шаман. Совершенно не важно, как именовать источник, говорящий посредством поэта, важно, что хороший поэт ухитряется не добавлять в это течение суетливую отсебятину и явно с удовольствием помогает тому, что из него дует, дуть как можно точнее и чище. Сквозь Снайдера дует студеный ветер в простых одеждах, я тоже одеваюсь в драное, когда его читаю, чтобы и мне дуло в прорехи.
Пожарные новости (из сборника "Настоящий миг", 2015)
Миллионы,
сотни мильонов лет
все горело. Пожар за пожаром.
Пожар пожирал и джунгли, и боры,
громадные ящеры прочь убирались,
торчали из моря могучие шеи
и взирали на сушу растерянно:
пожар за пожаром. Молнии бьют
тысячами, вот как сегодня.
Огонь извергается, пламя течет по земле.
Секвойи одеты в огнеупор, два фута коры,
огнесосны, шишкам жар люб,
как долго все это сказать,
так материки заросли
за десять лакхов тысячелетий иль дольше.
Пора успокоить мне ум.
Успокоить мне ум.
Рим был построен за день.
Думаю о стихотворении, что не напишу никогда (из сборника "Отсыпь и Холодная гора", 1969)
Уперся брюхом в дерево, терзаю
Вслепую, заикаясь, звук леплю,
На всяком языке, сейчас, один раз правда,
Вино ли, кровь ли, мера ли ведет —
Прыжок словес к предметам, вот и всё.
Пустые ниши делать в мастерских
И храмы, но ничто нельзя назвать;
Хор долгий, старый, из-под самых ног,
На долгой ноте горы под водой.
Эй, муза, оплошавшая богиня,
Что греет скот и бережет рассудок
У мудреца (безумье бесов жрет),
Танцуй в лесу алмазном, средь цветов,
Для Нарихиры и его любови-ржанки,
Для выросших детей и отчих крыш,
Иди все дальше, через города,
Рыдай для толп людских, как эти птицы,
Что навсегда отправились на юг.
Тот давний ястреб Якамоти и Торо
Метнулся над холмом, ладонь пуста,
И полнит воздух шум живых семей.
Переводы стихотворений — мои.
У одного Очень Доброго волшебника ангел-хранитель был весь шоколадный.
Очень Добрый волшебник безостановочно делал добрые дела,
и ангел отламывал от своего пальто кусочки и поощрял Очень Доброго волшебника.
Пальто немедленно отрастало обратно.
У одного Просто Доброго волшебника ангел-хранитель был обыкновенный,
делать ему обычно ничего не требовалось, и от безделья он стал философом.
У одного Недоброго волшебника ангел-хранитель был неврастеником
и навещал психотерапевта.
У одного Злого волшебника ангел-хранитель был жабой.
А одному шкодливому ребенку полагался ангел-предохранитель,
который поэтому был птицей фениксом.
Сегодняшний эфир у меня будет про целый, пусть и миниатюрный, но все же сам себе жанр: сказки не совсем для детей. В смысле, не страшные, не с матом и не про процесс производства детворы, а такие, которые требуют от читателя некоторой пожитости и приходящими с ней умениями считывать иронию, сарказм, культурные отсылки, а также иметь хотя бы иллюзию условности времени-пространства. Малолетние люди существуют в своей реальности, где все это тоже плюс-минус есть, но очень в другом режиме (который мне, к слову, уже непонятен).
Так вот, сказки в традиционном смысле слова (и не адаптированные) я люблю из декоративно-историко-лингвистических соображений, то есть как документ инопланетной реальности. А современные здорово сделанные авторские сказки я люблю, потому что это веселье, шанс на удивительные сюжетные и диалоговые находки, а также потому, что в этом жанре есть особая поразительная свобода, и у автора, и у меня-читателя: в таких сказках можно нарушать любые натурфилософские законы, плевать на историческую правду, выкидывать из головы необходимость морали в любом виде и вообще творить что угодно. И пусть бы этот жанр — сплошной постмодернистский цветок из фантиков для простодушных и макраме из дежа вю. Мне такие игрушки роднее, а по-детски радоваться узнаванию иногда чуть более чем совсем незатейливых кивков и подмигиваний на другие сказки, песни, стихи, фильмы, события, людей и прочие приметы планеты мне симпатичнее "сказок для совсем взрослых", которые в быту именуют анекдотом.
И да: смешные остроумные сказки для взрослых детей — мое вечное слабое место как издателя, и ни одной коллекции текстов в этом жанре, над которыми я ржала, я не смогла не издать.
Предупреждение: в этом эфире будут а) дурацкие наглые обобщения (далее -- ДУНОБ), б) еще немного ДУНОБ. Я предупредила. Конец предупреждения.
Сегодня я выступлю в жанре пресловутой мыси. Итак. Читая "Улисс" (в исходнике и с развернутым комментарием Дона Гиффорда), я постоянно вспоминала о Пинчоне и, скажем, "Радуге тяготения". Оба автора чаруют меня (тут принято писать "нас", но ДУНОБы у меня запланированы дальше) этой самой энциклопедичностью, которую обожают отмечать критики. А энциклопедичность — это что? Это красивые упорядоченные вавилоны осмысленных фактов, швейцарский сыр знаний и наблюдений, с ловчейшими плетениями внутри себя. Я бы даже сказала, это такое пространство Калаби-Яу, извините. Т.е. просто уметь решать сложные кроссворды недостаточно, чтобы такое писать. Нужно еще и уметь заплетать это все логично, с красивым смыслом, и чтоб такое переплетение давало смысла больше, чем арифметическая сумма переплетенных фактов. Джойс с Пинчоном потому и классики (не сравниваю!), что ого-го как умеют это. Вот что занимательно: у обоих авторов в этом макраме прорисовывается гуманистический стих, но у Джойса это гуманистический стих гостя с Андромеды, который с душою и чувством (какие у них там на Андромеде они есть) к человечеству, но — гость, и в наблюдения его почти не просачивается пыл, какой я отчетливо слышу у Пинчона, и Пинчон, на мой слух, как раз отсюда, с этой планеты. И поэтому у Джойса зеркальные коридоры связей всего со всем, отмена последовательности времен и пространств (т.е. одновременности и одноместности всего происходящего, и античной Греции, и Ирландии ХХ века) получается глубокой и вольной, как у любого великого энциклопедиста-землянина, но совершенно не хватает за лацканы и ни к чему не взывает, даже обинячно. А вот Пинчон как землянин в таких анфиладах зеркал заражает нас паранойей, и его отмена времени-пространства получается анизотропной, призывной (хотя понятно, что этот призыв — сильно потайная вещь, она не прёт из щелей, и взятие за лацканы происходит очень деликатно, хоть и настойчиво).
В целом, кажется, мощная американская проза ХХ в. склонна к такой анизотропии сильнее английской/ирландской.
Оба подхода увлекательны и красивы неимоверно, однако я экспериментально установила, что Джойсов мне несколько роднее.
Спасибо за внимание.
В нонфикшне, посвященном истории науки, я отдыхаю — по нескольким причинам. Во-первых, это хоумкаминг: я скучаю по своим естественно-научным образовательным истокам, это малая церебральная родина, мне здесь уютно и по-домашнему. Во-вторых, это освежение и пополнение общих знаний о физическом мире, а мне это всегда увлекательно: родной зримый мир действует на меня успокаивающе и напоминает мне о незначительности моей жизни, а значит, правильно корректирует мои персональные координаты в пространстве-времени. А в-третьих — и это очень млодиновское, как мало чье — дружелюбная фамильярность, с которой он рассуждает о столпах мировой науки за всю ее историю, делает все человечество немножко родственниками друг другу и мне. Это чувство было бы еще острее, если бы кроме нас существовала еще какая-нибудь форма воплощенного сознания, чтобы было перед кем выделываться и нос задирать, но даже пусть (пока) ее не обнаружено, некоторое пространственно-временное человеческое мыслящее единство неизъяснимо прекрасно и вдохновляюще.
Млодинова я перевожу не первый год, и, понятно, из-за этого нахожусь с его текстами в специфических отношениях. Мне нравится его тон, его честный восторг перед величием науки, логики и самого неукротимого искреннего желания человечества думать и знать. Это заразительно. Это достойный повод для гордости. Это некое непреходящее рыцарство, блистательный квест, в котором мы, люди, сотни раз применяли молоток не по назначению — забивали им не гвозди, а друг дружку, — но самая возможность понимать, проникать в тайны физического мира есть, по моим ощущениям, один из доступнейших и естественных способов переживания единства с ним.
Эта вот свежая его книга — история человеческого научного мышления, натурфилософской эволюции на нашей планете. Сильно не первый и, конечно, не последний подход к этому снаряду, но вполне зачетный, как мне кажется, живой, веселый — и влюбленный, как всё у Млодинова.

Продолжение. Начало тут.
Вторая половина саги, как уже было многократно отмечено читавшими, куда бурливее и серьезнее первой. И дети выросли, и зло окрепло. Адреналину долили, всяких персонажей привалило, время и пространство действия расширились и ускорились. Но это все техника. Любоваться тут есть чем и любить есть кого, несмотря на по-прежнему сторителлинговую безыскусную подачу текста — а может, и благодаря ей: за словами сразу видно, что мне хотят сказать, поскольку в поттериане что абсолютно важнее, чем как. Как не уважать автора, который делает текст совершенно равным самому себе.
Понятно, что педагогическую ценность гепталогии я уже утащить к себе в нору не смогу — эти яхонты в меня уже сложили другие книги, давно. И все же безупречная приверженность Роулинг законам кармы — и мгновенной, и отсроченной — завораживает, и мне следить за тем, как ткутся эти пряди, было чрезвычайно занимательно. Себе как пишущей я кое-какие пометки тоже сделала: при такой манере подачи и в таких мирах не отступать от кармы — логическая обязанность автора. Закон сохранения намерений и поступков в мире Роулинг нерушим — и страшно нагляден в своей реализации. В этой нашей так называемой действительности все не так очевидно, и хвост этого дракона скрыт туманом времени, обстоятельств и человеческой естественной неспособности видеть все и сразу. Нам остается лишь верить (или не верить), что хвост этот вообще есть.
Ценным видится мне и отчетливо читаемое приглашение решать за себя самостоятельно, во всех ситуациях, без всяких, сколь угодно благородных кивков на кого угодно, кроме себя. Едва ли не главным разговором последних трех книг я считаю беседу Гарри с Аберфортом Дамблдором, когда выясняется, что Гарри выбирает действовать дальше не потому, что он так сильно уважал покойного Дамблдора-старшего, не потому, что дал ему слово сделать домашку на "пять", а потому что он, Гарри, в здравом уме и твердой памяти, решает довести начатое до конца. "Я дерусь, потому что я дерусь" — и всё. Рекурсивное самоопределение как показатель зрелости. Дон Хуан одобрил бы.
Это эфир белой такой, крахмальной зависти. Я много-много лет мечтаю найти точку на глобусе, которая разговаривала бы со мной столь же на все лады, как с Мартой — ее Вильнюс. Да, этот Вильнюс — ее персональный, с другими он, вероятно, не разговаривает — или разговаривает совсем иначе. Более чем вероятно, что все дело в Марте даже в большей мере, чем в Вильнюсе. Но, как ни поверни, пишет Марта про город, в котором живет, хотя любит, по ее словам, много еще какие места. В целом вопрос нуль-родины мне неизменно интересен и затейливо романтичен, и я все еще не теряю надежды обрести такой город — и остаться при этом свободной.
Сказок старого Вильнюса вышло уже четыре тома, Марта явно продолжает слушать и думать этот город, и ей это по-прежнему увлекательно и живо. Подслушанное при чтении тоже живо (для меня), потому что — и это как раз и вызывает доверие — далеко не каждая история мне по шерсти. Есть и такие, которые неизъяснимо неприятны, и неизъяснимость эта — часть странного удовольствия от чтения "Сказок". Городское волшебство еще надо уметь через себя протолкнуть и записать, чтобы оно никуда не рассосалось по дороге и не превратилось в какую-нибудь пластмаску. Мне самой Вильнюс при личной встрече показался спящей дриадой — мы виделись в давнишнем марте, "до-Марты", было сыро, туманно и светло, и Вильнюс будто гладил меня по волглой голове вслепую, на ощупь, не равно- и не благодушно, а так вот, как приветствуют чужих детей с другой планеты. И после того свиданья я читаю Мартины тексты из книг про Вильнюс, оставаясь под впечатлением от этих странных дождливых оглаживаний — и знаю, что приеду туда еще, в город "после-Марты".
Я не должен бояться.
Страх — убийца разума.
Страх — это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение.
Я встречусь лицом к лицу со своим страхом.
Я позволю ему пройти через меня и сквозь меня.
И, когда он уйдет, я обращу свой внутренний взор на его путь.
Там, где был страх, не будет ничего.
Останусь лишь я.
— Литания против страха, "Дюна"
В этом году исполнилось 50 лет со дня публикации романа американского классика фантастики Фрэнка Герберта "Дюна". И это очередной повод сказать сакраментальное: "Не читали? Завидую".
Этот роман я собираюсь перечитывать еще по меньшей мере пару раз — между 40 и 50, а потом, если повезет — ближе к 70. Впервые я читала его года в 22-23 — и пережила потрясение. Лишь погодя, нахватавшись еще всякого-разного в мировой литературе, я поняла, сколько всего понавырастало из Герберта. Он напихал столько богатых, густых идей в свой мир Дюны (планеты Арракиса), что их хватило потом на десятки авторов и романов магического реализма, эзотерики, замаскированной под художественную прозу, трансгрессивки и многих других попыток объединить известные человеку старые мистические традиции с сильными ненатужными саспенсом и движухой. У Герберта я впервые увидела, как красиво можно обустроить мистику ислама, экологическое мышление, придворные интриги, боевые искусства и разные интересные вещества в убедительной поражающей воображение космоопере. После Герберта многое из далее читавшегося показалось более или менее талантливой перепевкой. Герберт сделал всех, на много десятилетий вперед. Я не утверждаю, что таких прометеев литература не знала — знала-знала, конечно, — однако не поленитесь влезть в мир Дюны и исчезнуть в нем (гарантированно). Вы поймете, о чем я.
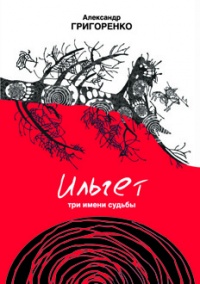
Как я уже неоднократно сообщала, правильно сделанный миф — это подарок. Профессор говорил нам, что, дескать, придумать лиловое солнце — одно дело, а мир, в котором это лиловое солнце будет уместно, — совсем другое. Григоренко сам человек сибирский — и родился, и живет там же, — и обе свои книги (у него есть еще первый роман, "Мэбэт", который я тоже с интересом и осторожным удовольствием читала) сделал так, что я ему верю. Такую фактуру испортить можно в два счета, то есть сделать вот это совершенно чужое (для меня) пространство шаманского севера недостоверным. Александр Григоренко все устроил так, что я никакой недостоверности не улавливаю. И ухитрился втиснуть в не очень толстую книгу сильный и цельный эпос.
Жизнь той части человечества, которая живет на Севере, да еще и не теперь, а века и века назад, так же далека от мироустройства, которое есть в голове у западного жителя, как, скажем, китайская. Вот вроде в сути нам всем надо одного и того же, но штука в том, что это "одно и то же" в разных культурах смешано в головах носителей в очень разных пропорциях (да и между отдельными людьми все по-разному, но все-таки в пределах одной культуры фигуры умолчания более-менее смахивают друг на друга) и в разном порядке сложено в стопку. И представления о чести, доблести, достоинстве, верности и цене жизни, понятно, у героев из "Ильгета" очень отдельные, и засекать и разглядывать изумление, какие возникают при сверке своих часов с вот этими, — часть поучительной нагрузки этого романа. А роман о-о-о-очень воспитательный. То есть есть там и приключения, и всякие интриги, и адреналиновые обстоятельства, но вообще, конечно, это нравоучительное чтение. Причем нравоучительное в очень специфическом и свежем смысле: такие тексты отмывают от залапанности те самые понятия о доблести, чести, достоинстве, целях, средствах и смыслах — и создают контекст, в котором эти понятия делаются не абстрактными, а не нагруженными эмоционально, кусками хрусталя эдакими они становятся. Примерно так имело бы смысл объяснять инопланетянам, как у нас тут все устроено.
PS. Единственная беда этого издания, помимо опечаток, — полная замена длинных тире на короткие, по всему тексту. Меня лично мучают короткие тире. И впору бы, может, стесняться этого, но я не буду: в моем мифе все тире — длинные.
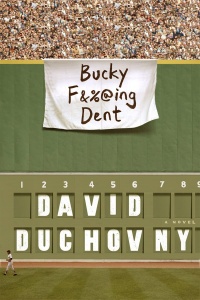
Кажется, я впервые пишу эфир по книге, рукопись перевода которой полчаса назад улетела к издателю. Более того, она и в оригинале-то появится только весной следующего года, то есть я вам сейчас предлагаю, друзья, шкуру опоссума не только не убитого, но и в некотором смысле не рожденного. Это, конечно, не платоновская чистая идея опоссума — он уже совершенно готов к жизни (о да!), но вам придется немножко подождать издания. А ждать его я вам рекомендую — и весь этот эфир будет продолжением зачина "и вот почему".
"Брыки" — из тех текстов, при переводе которых вопрос о сносках встает во весь свой интересный рост. И приходится решать, на какую глубину вспашки культурного контекста закладываться. По мере возни с переводом стало ясно, что легких путей в данном случае не ожидается: одна из опорных тем романа — бейсбол. А что русскоязычный читатель знает о бейсболе первых ста лет его существования? Правильно — обычно примерно ничего. А поверх бейсбола красиво расположились музыка (и попса, и рок-н-ролл, и то, что было до Элвиса), американская проза и поэзия, от Уитмена, Эмерсона и Торо до Крейна, Хемингуэя, Мейлера и Берримена, приметы быта, включая уже канувшую в небытие предметную среду и рекламные джинглы, не самые памятные общественно-политические черты 1970-х и многое-многое другое. За декорациями романа — громадное закулисье со своей жизнью, которая происходила 40 и больше лет назад и в те поры была так же бурлива и жива, как 14 ноября 2015 года. Каждый день, все дни истории, всё везде происходит, и в таких романах время дает себя рассмотреть. И если все это не рассказать, 2/3 смыслов пролетит незамеченными, а это не просто жаль, а нельзя допустить — как давеча обсуждалось на заседании Секты "Голос Омара", хоть и неизвестно, нацело ли мы продукт культуры, но очевидно, что вне контекста неплохо себя чувствуют лишь уже помянутые платоновские идеи, да и то не любые. Сама я еще долго буду находиться в тенетах 1970-х, которые сознаю в своей биографии смутно, зато теперь благодаря роману у меня появились фантомные воспоминания — такой он густой и точный, этот текст.
Помимо брейгелевских подробностей жизни "Брыки Дент" — про мучительное скоростное восстановление с виду полностью разрушенной сердечной связи между 32-летним сыном и 60-летним отцом. Скоростное потому, что отцу осталось жить месяца полтора-два — рак. Хоть Дэвида Духовны мы знаем по большей части как актера, его заход на драматургию отношений восхитителен, право слово. Духовны все удалось. Если у вас тоже непростые отношения с пожилыми родителями — можете сверить реакции, когда роман выйдет. В таких текстах всегда важно не сбить настройки — не соскочить в слезогонность, не передавить с сантиментом, удержать динамику натуральной, убедительной, честной. Сделать так, чтобы всех было жалко, но при этом не осклизло, можно разными способами. Духовны выбрал ловкую, умную иронию и позволил своим персонажам разговаривать живо и компактно (киношник Духовны, понятно, знает толк в диалогах). Да, из этого романа есть что потаскать на цитаты и мемы. Любовь в "Денте" не только отцовско-сыновняя, конечно. Прекрасные дамы там тоже имеются, из разговаривающих в романе — латиноамериканки, две штуки, обе — королевны.
Но поверх всего этого "Брыки бл&%ский Дент" — про то, что будущее постоянно становится прошлым, про то, что всё отмирает, но прежде, чем отомрем мы сами, отомрет всё, кроме любви, однако таинственное время жизни, когда не остается ничего, кроме любви, можно, если повезет — и при желании — продлить. И, возможно, ради этого происходит вся остальная жизнь.
И напоследок — ключевая песня романа. Ожидайте Дента в начале следующего года, в издательстве "Фантом-Пресс".
Поразительно и восхитительно: хоть я и не могу сравнить перевод с оригиналом, поскольку не читаю по-гречески, мне под силу сравнить русский и английский переводы, и... русская версия гораздо, гораздо лучше английской. Бог весть, как он звучит на греческом, но по-русски Кавафис для меня — чистый восторг.
Все в нем как мы любим (тм): у Кавафиса личная внутренняя монголия размещается плюс-минус в эллинистическом мире, по шву Запада и Востока, это очень точный выбор притчевости — точка в пространстве-времени, когда, кажется, будущее, настоящее и прошлое еще не объявили о своей независимости и отдельности, да и время, собственно, еще не очень изобрели, и потому кавафис-реальность — еще и вклеенные друг в друга "всамделишная" история и миф. Я уже докладывала вам о своих внутренних Ирландии и Индии, и внутренняя Эллада Кавафиса — это такой побратим моим воображаемым родинам. На своих внутренних территориях Кавафис обустраивает поэтические притчи, делает выводы, делится важным, напутствует, наставляет. Громадное спасибо Геннадию Шмакову, переводчику Кавафиса, другу Бродского, за опыт знакомства с поэтической страной давно умершего александрийца.
Быть может, что-то мнится понятнее про Кавафиса и про то, почему ему хотелось — и, возможно, у него получалось не только для нас, благодарных потомков, но и для самого себя — ускользать из этой вашей так называемой действительности, если знать, что он родился в Египте, происходил из александрийских греков, провел детство в Англии и Франции, но подростком вернулся с семьей в Александрию, потом в Константинополь, затем обратно в Александрию, и все эти метания получились из-за всяких экономических и военных потрясений тех лет, семье всегда было трудно, а сам Кавафис был геем, и эллинистическое спокойное отношение к этой теме — утерянная аркадия, и не только для геев. Кавафис умер в 1933 году в день своего семидесятилетия от рака горла.
"Итака" — мое любимое:
Отправляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным,
полным открытий, радости, приключений.
Не страшись ни циклопов, ни лестригонов,
не бойся разгневанного Посейдона.
Помни: ты не столкнешься с ними,
покуда душой ты бодр и возвышен мыслью,
покуда возвышенное волненье
владеет тобой и питает сердце.
Ни циклопы, ни лестригоны,
ни разгневанный Посейдон не в силах
остановить тебя – если только
у тебя самого в душе они не гнездятся,
если твоя душа не вынудит их возникнуть.
Молись, чтоб путь оказался длинным,
с множеством летних дней, когда,
трепеща от счастья и предвкушенья,
на рассвете ты будешь вплывать впервые
в незнакомые гавани. Медли на Финикийских
базарах, толкайся в лавчонках, щупай
ткани, янтарь, перламутр, кораллы,
вещицы, сделанные из эбена,
скупай благовонья и притиранья,
притиранья и благовония всех сортов;
странствуй по городам Египта,
учись, все время учись у тех, кто обладает знаньем.
Постоянно помни про Итаку – ибо это
цель твоего путешествия. Не старайся
сократить его. Лучше наоборот
дать растянуться ему на годы,
чтоб достигнуть острова в старости обогащенным
опытом странствий, не ожидая
от Итаки никаких чудес.
Итака тебя привела в движенье.
Не будь ее, ты б не пустился в путь.
Больше она дать ничего не может.
Даже крайне убогой ты Итакой не обманут.
Умудренный опытом, всякое повидавший,
ты легко догадаешься, что Итака эта значит.
PS. К тому же мне хорошо и просторно в свободных ямбах, а таких стихов у Кавафиса много.
Сегодняшний хэллоуинский эфир будет про... ненаписанные книги. На моих личных внутренних территориях обитает несколько мифотворцев, (пока) не желающих свои миры никак комментировать, и я одновременно и ужасно жалею об этом, и не уверена, не пострадают ли эти миры от слов, если бы слова возникли.
Художник-иллюстратор Михаэль Сова ничего сам не пишет, насколько мне известно. Есть совсем немного книг с его иллюстрациями. Он просто все это рисует. И его картинки, которые я хожу смотреть, как будто мне там намазали вареньем, с ехидным прищуром вываливают мне всякий раз поразительные истории на змеином, заячьем, поросячьем, птичьем языках, дразнят неимоверно, а по-человечьи — ни слова. Вы послушайте эти картинки — из них же сифонит, как из-за двери майским утром:



Здорово или нет, что это не иллюстрации ни к какой книге? Не знаю. Вот Игорь Олейников — обожаемый художник-иллюстратор, но его картины говорят словами писателей, к текстам которых картины приделаны. Истории есть, а следом за ними есть изображения. А тут историю не отдали! И самой мне, к примеру, не хватит дара придумать что-нибудь дельное и достойное к вот этой даме, в последние часы Помпеи:

Утешаюсь двумя вещами: пристраиваю эти изображения к текстам, которые вдруг зовут их, когда читаю, — или думаю о них, когда что-нибудь пишу сама. Вот эта помпейская дама — взгляд! этот взгляд! — может быть осью целой небольшой главы.
Ну и да, пересматриваю куски из "Амели", где много оживших чудес Михаэля Совы.
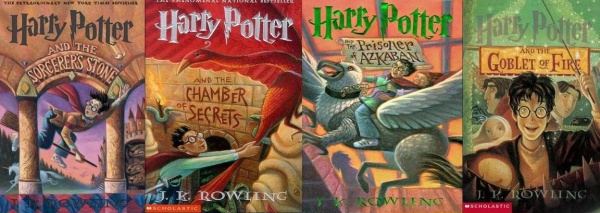
Предуведомление: Линять в другие миры — традиция десятков поколений читателей, магов и сумасшедших (иногда это всё одно и то же). Совершенно не обязательно, чтобы так называемая реальность делалась какой-нибудь несносной, чтобы хотеть другую, хотя бы на время. Не собираюсь я тут картографировать и психологические чуланы и чердаки сознания, искать причины таких побегов: любое трезвомыслие все равно будет отсюда, из этой двумерной плоскости, а то, что творится в голове у странствующего читателя/мага/сумасшедшего все равно навеки одиноко и интимно — и не подлежит, если по-честному, никакому подлинному анализу.
Когда появился первый глобус Гарри Поттера, мне был 21 год, я уже выскочила за пределы потенциального гражданства на той планете, а сверх того случилось еще одна неприятность: вокруг Поттер-глобуса воцарилась истерика. А потом вышли фильмы. Всё против меня. С большей любовью я отношусь к мирам, где не очень натоптано. Звуки самого мира я, входя в него, могу регулировать, а вот гвалт, который там стоит из-за тысяч (сотен тысяч) фанатов, мешает мне быть там. Та же ерунда и с музыкой: я категорически не воспринимала "Битлз" лет до 25, пока не научилась — с усилием — абстрагироваться от уже давно сформированного общественного мнения. I love my worlds pristine. Ну хорошо, если не совсем уж в первозданном виде, то хоть не очень затисканном. С "Гарри Поттером" мне внутри себя уже ничего не поделать: первую книгу я прочитала в 2004 году на итальянском из практических соображений потренировать язык, далее посмотрела фильмы, а за остальное чтение села 10 дней назад. Большого труда мне стоит развидеть лица и жесты жителей планеты Поттер, подобранные директором по кастингу и художниками обложек. Эта планета к сему времени уже непоправимо заросла обожанием, и чтобы добыть себе туда какой-нибудь окольный ход через крапиву, приходится крутиться.
По существу: докладывать вам о том, как я хожу в Хогвартс по крапиве, я буду в два захода — сейчас по первым четырем книгам, и погодя — по остальным трем.
Эту большую историю, если вы, как и я, уже непоправимо пропитаны экранизацией, имеет смысл читать — помимо ее очевидной развлекательной и адреналиновой ценности — ради упражнения в пересоздании реальности. Всякую школьную классику обыкновенно перечитывают в зрелые годы, чтобы наконец понять ее, чтобы вытряхнуть из нее — и из себя — куриные кости догмы, гундеж (или сладкое пение) преподавателей литературы и вымыть привкус столовских щей, какой всегда остается от обязаловки. С литературными пространствами, залюбленными до синяков и мозолей, штука в некотором смысле похожая: их, предположим, не перечитываешь, а знакомишься впервые, но, тем не менее, над страницами курится коллективное программное отношение к происходящему, к героям, их поступкам, решениям и мыслям, а заодно и к автору и его литературному дару. Я, попутно искренне развлекаясь и увлекаясь, читаю "Гарри Поттера" и через вторую оптику — я пытаюсь смотреть на этот текст так, будто это присланная мне как издателю рукопись писателя-дебютанта, терра инкогнита. И через такую оптику мне в первых трех книгах, к примеру, гораздо интереснее этот мир вне действия, его история, в которой текущие события — эпизод, краткий и летучий. Лишь в четвертой книге герои, их слова и поступки делаются мне интересны, хоть и не в той же мере, что мир, в котором они действуют; произносимое и выполняемое мне как читателю нужно лишь для того и тогда, когда только так я вижу и слышу про этот мир еще что-то дополнительное. И да, я соотношусь с гражданами этого мира через него, а не наоборот. И вот такое смещение фокуса мне невероятно интересно прикладывать к пространству по эту сторону книг о Поттере, то есть к этой нашей с вами так называемой реальности, и тогда точка сборки смещается в неожиданную и удивительную сторону: ценность человеческого сознания — в том числе моего — делается следствием неисповедимого мира вокруг, его свойством, качеством. А привычно как раз обратное. И по одной этой причине я бы уже считала, что прикасаюсь к этим текстам не зря.

Сразу говорю: на русском этой книги, увы, нет, а я бы рекомендовала ее читать (читателям) и издавать (издателям), хоть она и 1995 г. публикации (что издателям, кстати сказать, на руку — права на книги из бэк-листов, как известно, сильно дешевле новинок, а качество уже написанных текстов со временем не ухудшается. Иногда — наоборот).
Для справки. Оукли Холл был профессиональным писателем — в смысле, он не только зарабатывал писательством на жизнь, он еще и образование соответствующее получил. Ну и преподавал, разумеется. Причем, думается, студентам его изрядно повезло, если судить по содержанию этого учебника.
Для меня как для чего-то там пишущей эта книга оказалась полезна минимум в трех смыслах: с одной стороны, проверить свои инстинкты, вкусовые предпочтения и накопленную эмпирику, с другой — перевести их в поле осознанного выбора, а с третьей — взять на заметку приемы и трюки, которых я не замечала в читаемом и не употребляла в сочиняемом.
Книга устроена деловито и математично: часть первая, "Вымышленная действительность", излагает приемы драматизации, расставляет акценты на том, как и что необходимо аккумулировать в смысле исторического, культурного и прочего материала, на котором предстоит писать роман, как организовывать движение и дыхание повествовательных мелочей, как насыщать мир романа деталями, делающими его чувственно убедительным; Холл рассказывает про особенности выбора нарратора, о том, как можно — и как не стоит — характеризовать персонажей.
Вторая часть, "Другие элементы художественной прозы", дает обзор некоторых стилей, рекомендует способы (и некоторые правила) организации диалогов, объясняет, как обустраивать в романе непрямое информирование читателя через подразумеваемые последствия происходящего в тексте, через символы и метафоры. А еще Холл отдельно рассказывает про то, как передавать чувство, не именуя его впрямую, опосредованно, — и как именно можно организовывать в финале выход персонажа(-ей) на новый уровень понимания, достигнутого в результате происходившего в книге.
Есть и третья часть — с прекрасной последовательностью глав: "Замысел", "Планирование", "Начало", "Продолжение", "Завершение".
Минимум половина объема книги — многочисленные прекрасные примеры из мировой литературы, в этом контексте и именно так расставленные по главам поучительные сами по себе, а с комментариями Холла они вообще воспринимаются иначе, и после чтения "Искусства..." каждый второй вспомненный Холлом роман хочется про/перечитать.
Понятное дело, эта книга не сделает из любого прочитавшего ее романиста (тем более гениального) — она, мне кажется, аккурат для того, о чем я сказала в третьем абзаце сверху. И это мне в ней тоже нравится: она равна самой себе, никаких виагра-эффектов не обещает — это сумма очень конкретных и внятных рекомендаций профессионала в том поле, где никаких универсальных рецептов или инструкций (по пользованию грузопассажирским лифтом) быть не может в принципе.
Мне эта книга представляется полезной и увлекательной далеко не только как методичка по созданию больших художественных форм, но и как книга для читателей — и обсессивно-компульсивных, и нормальных, не либрофагов.
Предуведомление: о сюжете романа писать не буду, дам ссылку на рецензию Анны Наринской, например, там про это есть более-менее.
Этот роман прекрасен по двум причинам.
Во-первых, это идеальная книга для нашей Секты книгочитателей — и вообще для любых читательских клубов, потому что это икеевский бассейн с разноцветными шариками для мартышки ума: с одной стороны, вроде бы простая и пригодная для кувырканий субстанция, барахтайся в ней сколько влезет, перебирай шарики — все кругленькие, разноцветные и много-много. В этой метафоре шарики — смыслы слов, синтагм, фраз, абзацев, глав и всего текста как целого. Уму тех читателей, кого хлебом не корми, а дай поискать всякие аллюзии, намеки, метафоры, аналогии и параллели, тут прямо-таки идеальная игровая площадка: всем найдется в подарочек пара-тройка разных пониманий одной и той же фразы. И в групповом обсуждении никто не поссорится: здесь нет взаимоисключающих смыслов, все так или иначе имеют право на жизнь. И уже одного этого вполне хватило бы, чтобы внести эту книгу в список для чтения и чувствовать в процессе, что понимаешь, улавливаешь, раскусываешь. Чтобы набрать таких очков, играясь с Пинчоном, например, нужно предварительно знать и помнить много чего фактического, а тут текст прост и прозрачен, можно вообще детям на ночь читать, хоть им местами будет неинтересно.
Во-вторых, это — парадокс! — идеальный повод отправить мартышку в отпуск. Расфокусировать зрение, снять ментальные очки в сто диоптрий и попытаться принять этот текст как коридор зеркал, как узор калейдоскопа, то есть допустить одномоментное существование всех мыслимых версий смысла за каждым словом, не выбирать себе любимцев, не сравнивать, какой смысл круче. Потому что у меня как у человека, возившегося с этим текстом лично и пристально, сложилось впечатление, что автор нам именно это молча желал бы. Одновременности всех смыслов. И мне вот, может, и сгодился бы llave universal, но и без него в этом тексте — при такой настройке зрения — церебральная аркадия.
Про этот роман, вообще-то, мне следовало бы говорить в первой пятерке своих эфиров на "Голосе Омара" — если исходить из его значимости для меня как обитателя этой жизни. Но прошло полтора года и 76 моих эфиров, и лишь теперь, после того как состоялось уже заседание Секты "Голос Омара" по книге, я собрала кое-какие рефлексии о "Чужаке", которые все равно — унылая карандашная проекция трехмерных фигур, копившихся в моей голове 20 лет со времен первого прочтения.
Состоявшийся разговор показал мне лично, насколько этот роман пророс в меня и мою жизнь, и вот почему так непросто о нем разговаривать — с тем же успехом я могла бы рассуждать о том, как именно я пью воду из стакана. Оказалось, что даже с человеком, который принес эту книгу в мою жизнь мы смотрим на нее несколько по-разному. Я осознала, что очень мало с кем готова его обсуждать, — не потому что боюсь, что кто-то залапает сальными руками мою елочную игрушку, а потому что не очень хочу объективировать этот текст. Этот роман-карман можно набивать миллионом разных вещей, и все они в нем с удобством разместятся, независимо от того, имел ли это автор в виду, а значит, этот дворец идей, отражение романа у меня в сознании, жив и дышит, и разъять его на составляющие — чистая вивисекция.
Я по-прежнему не очень понимаю, как именно выстраивать групповую беседу об этой книге. Вероятно, можно было бы сделать Печу-кучу: сколько-то минут на презентацию в стиле "Что для меня "Чужак"", по очереди, чтобы все непременно сказали свое, а потом дать еще час на дискуссию. Было бы увлекательно отдельно поговорить по целому списку тем "Чужака", например:
— Неотъемлемо человеческое в человеке — что это?
— Что такое "грок", как он может происходить между людьми?
— Солипсизм в "Чужаке".
— Мессианство и апостольство — что они такое, по "Чужаку"?
— Функция и метафора языка, речи, обозначаемого и обозначающего в "Чужаке".
— Понятия просветления, нирваны и прочих специальных состояний сознания в "Чужаке", предъявленные как фигуры умолчания.
— Модель совместности людей /коммуны, по "Чужаку": насколько и как именно это возможно в действительности, вне вымысла (тут можно полдня вспоминать и анализировать примеры (удачного/неудачного) коммунального бытия из собственной жизни обсуждающих, и по каким принципам это бытие обустраивалось).
И это, понятно, далеко не все, а лишь то, что сразу пришло мне на ум. Но уже становится понятно, что для меня разговор о "Чужаке" — это выставка мировоззрений, глубоко личных способов жить, сильно выходящий за рамки обсуждения текста. Хорошо это или плохо — вопрос честно заявленного формата. И все же, выписав эти темы и сейчас глядя на них, я понимаю, что нет такой дискуссионной группы, литкружка или даже теплой компании прочитавших этот текст, где в порядке обсуждения может прозвучать со всей марсианской точностью и в безупречно точный миг бессмертное Thou art god. Share water. Never thirst.
О спой нам, поэт, мы вопьем твою речь,
мы стоим, снявши головы с плеч...
"Несчастный случай", 1995

Сейчас я попробую прервать церебральный оргазм и изъясниться рационально и последовательно... Нет, я не могу!.. Нет, я попробую.
Я вхожу в тексты Бекетта, снявши голову с плеч, в смысле, Бекетт — это мой билет в персональную личную беспредельную свободу. Это невозможная, космическая дисциплина формулировок, это чувствование связи (или ее иллюзии) между обозначающим и обозначаемым, граничащее с тем, какое приписывают мифическим изобретателям пракрита. Мне дают трансляцию, которую осуществляют тексты Бекетта, трансляцию быть свирепо, необузданно свободной. Да, читая Бекетта, я поняла, что, когда исчерпывается мое представление о порядке и вроде бы наступает хаос, возможен принципиально новый, совершенно не такой, как по эту сторону хаоса, порядок — красоты неописуемой, совсем иначе устроенный, чем привычный, тутошний. Здесь мои мозги, в общем, перемещаются, как луноход по пересеченной местности — там живо, сям неуклюже, тут буксуя. А там, в гостях у Бекетта, я, простите, как буревестник. Я там летаю в ненастье. Там опасно, однако у вихрей и потоков там есть свои аэродинамические законы. У них нет материального воплощения, которое можно потрогать руками, но их ощущаешь внезапно отрастающим церебральным фюзеляжем.

Кратчайшее содержание этого конкретного бреющего полета: Мёрфи, человек, имя которого нам — совершенно уместно — без надобности, очень хочет, чтобы его мощно оставили в покое. На пути к воплощению этого хрустального желания он последовательно отбрасывает желания, мысли, женщину, людей, которые зачем-то считают себя его друзьями, а затем и то, что отягощает его сильнее остального, взятого купно, — себя. Это, конечно же, роман идей, тончайший взгляд на нирвану, громадный привет Нагарджуне (я так слышу). Гимн претерита. Сарказм, острый, как лазерный луч.
Совершенно не собираюсь рассказывать, как я отношусь к тому, как транслирует понятие самости, ничто, тот или иной выбор стиля бытия (или небытия) Бекетт. Это не имеет отношения к делу. К делу имеет отношение дар свободы, врученный мне Бекеттом. Тот же эффект производит на меня Платонов. И Хармс. И еще пара-другая авторов. Эти люди настолько полно влиты в свои тексты — насколько я это слышу, — что мне не надо знать, как им было, исторически, во времена создания этих текстов. Читаешь "Мёрфи" и понимаешь, что вот оно, дословное значение оборота "читать такого-то автора". Вот читаю я, допустим, какую-нибудь книгу не этих авторов, и знаю, что читаю книгу автора "икс". А в случае с Бекеттом я читаю Бекетта. Это не значит, что я его "знаю" или "вижу как наяву". Я слушаю прямую трансляцию. Я чувствую всякое, но оно поступает мне в кровь сразу, минуя всё промежуточное, это медиумическое, шаманское, оно требует полной сосредоточенности — как в полете в бурную погоду. И эволюция восторга внутри — от причастности, от способности и возможности этому свидетельствовать. Безумие Бекетта для меня читателя, восхитительно — в буквальном значении слова: он вос-хищает, похищает вверх. И когда мне делается смешно, это лекарственный смех, мучительный и живой, как свежая хина.
Вот для чего имеет смысл вообще читать, в частности. Даже если таких текстов за жизнь даруется хотя бы десяток. Это трип, это посвящение, это не опосредованная интеллектуальным пониманием экскурсия по ту сторону хаоса.
Если можете — читайте Бекетта на языке оригинальной трансляции. Ну или хотя бы по-английски (если оригинал на французском).
*Я знаю, как его принято писать по-русски. Но очень хочется почтить память маэстро, написав его фамилию так, как, вообще-то, он себя называл.

С текстами удивительного английского поэта, философа, аристократа, бунтаря, повесы и эксцентрика Уилфрида С. Бланта (1840—1922) мы познакомились совершенно случайно — в букинистической лавке в Гетто, в Венеции. Шел дождь, мы тоже шли — но никогда не мимо букинистических, естественно. И там было это прекрасное издание 1938 года, сочинения неведомого нам поэта Протея. Книга стоила дорого, и я заупрямилась. Мы ее не взяли. Мы не знали тогда, что потом перетрясем интернеты в попытке найти его стихи — или хотя бы понять, как его звали на самом деле. Мы не знали, что потом несколько лет будем спрашивать в каждом приличном книжном, нет ли у них Протея. В итоге победа логики над Гуглом все же состоялась, и мы узнали все, что нашли, про викторианского романтика и ренессансный дух Бланта, про его похождения в Испании, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Индии в восхитительном тандеме с женой леди Энн, внучкой Лорда Байрона, с которой они провели в браке 37 лет, достойных отдельной саги, но бесконечные любовницы Бланта (в том числе и Джейн Моррис, художница и любимая натурщица Россетти) и особенно переселение одной из них под семейную крышу в конце концов утомили леди Энн, и она предложила развод. Блант дружил с Эзрой Паундом и Уинстоном Чёрчиллом, сутяжничал, разводил лошадей, воевал с колониализмом, за что даже немножко посидел в ирландской тюрьме, и вообще жил за троих.
Всё это мы узнали потом, когда безнадежно не купили его книгу в Гетто. Да, мы нашли и теперь имеем двухтомник его стихов. Но в электрическом виде. И да, я их прочитала — всю эту восхитительную романтику XIX века, эти десятки сонетов, сплошную любовь и смерть, и про цветы, и про восторг перед Прекрасной Дамой, и тексты эти, непременно рифмованные, всё как встарь, сплавились у меня в голове с этим лицом (и голосом — записи нашлись, и я его послушала). И я опять поняла: мы совсем-совсем не можем соединиться даже с тем, что было всего сто лет назад, оно безнадежно, безнадежно утеряно, остались лишь плоские проекции на бумаге, на пленках — буквы, звуки, картинки. А Протей — и всё его время вместе с ним — кануло.
Таит любовь лицо
Твой рыцарь, как его позвать? Нет, не проси.
Услышит рок тебя, дитя, и жди беды.
Таит любовь лицо. Противных сил
Бежит и бережет утех плоды.
Про Камелот ни слова -- лишний шум,
В плюмаже роза красная горит,
Ни флага, ни герба, "sum qui sum"
Его девиз. Он сдержан, он молчит.
Будь мудрой, милая, и время не дразни.
В урочный час узришь любви черты.
Ах, коль не видела его -- жди, чтоб возник!
Рукою благодати шлем сними,
В колени голову усталую прими,
Он все расскажет, всё узнаешь ты.

Особенное это переживание — сначала нахватать на заданную тему кучу всякого бессистемно, как-то из общей логики распихать по шкафам, стулом дверцы припереть, чтоб не вываливалось, а затем, поняв, что еще кое-что нужно в тот же шкаф запихнуть, но дверь ежели открыть, все прямо фонтаном наружу выпрет, тихонечко эту дверь открыть и начать наводить там хоть какой-то порядок, через щель, одной рукой. Англичанин-библиотекарь Эдвард Джозеф Томас, проживший себе в Индии почти 90 лет с середины XIX века, написал классический труд западной буддологии "История буддийской мысли" (1933 г., многочисленные переиздания происходят до сих пор, я читаю версию 1971 года)*, которую мы откопали в букинистическом магазине в Осло, и я прямо не сходя с места в нее зарылась, и это как раз той самой одной рукой попытка наведения порядка в головном шкафчике.
Да, это сухой, наукообразный, педантичный трактат о том, как буддийское мировоззрение развивалось от его начала, когда никто ничего не записывал, и до VII-X вв н. э., когда письменных источников сильно прибавилось — как неимоверно приросло Учение всевозможной легендарикой, историями и трактовками. Да, каждый третий абзац я читаю по два-три раза, потому что слова из санскрита и пали производят в моем сознании тот же эффект, какой фары автомобиля на лесной дороге — на не выспавшегося лося: парализующий. И, да, я даже не надеюсь, что вся эта махина невероятной, немыслимой красоты логики, жажды наивысшего освобождения, неукротимой мысли, бескомпромиссного стремления эдак изящно и в столбик укладывается мне в голову. Однако представление о том, как, с более-менее аргументированной вероятностью, развивалась и эволюционировала буддийская философия, что такое, с точки зрения классического буддизма, сознание, когда и почему развилось учение Махаяны, я все-таки, кажется, получаю. Хотя давно, давно я не читала нехудожественных книг, где автор никак, никак не стремится упростить читателю жизнь, его цель — корректность, отстраненность и максимальная фактологическая аргументированность.
Об этом труде, который по-прежнему неминуемо цитируют до сих пор, говорят, что, конечно, сейчас у нас гораздо больше всего под рукой, научное сообщество, занятое исследованием восточных философий, насобирало еще кучу всякого первичного, вторичного и иного -ичного материала по теме, и я понимаю, что, пожелай я копать для общего развития западные представления о буддизме дальше, следует методично читать еще хотя бы пару десятков трудов, более современных. Не уверена, что ринусь это делать сейчас же — я глубоко укушена художественной прозой, а расщеплять время пока не умею, эту сиддху еще заработать надо. И все же одно то, что есть четыре вопроса в буддизме, на которые можно и нужно не отвечать, потому что а) любой ответ будет глупостью и б) любой ответ нерелевантен, потому что не приближает ни к истинному знанию, ни к освобождению из самсары, — для меня повод для отдельной медитации. И, конечно, отдельный восторг — удивительная неразрывность буддийского трансцендентного с логикой, чистым разумом, мышлением, выстроенной совершенно математической полемикой, без всякого опия для народа. Без манипуляций. Без устрашения. Без морока, словом.
По-русски, насколько мне известно, выходила только его знаменитая книга "Будда. История и легенды".
У книг обычно нет голоса, книги — штука молчаливая. Исключение — поющие поэты. Леонард Коэн вот. Поэт-утешитель мне, поэт-объятие, даже когда горестный или обличительный. Всамделишный человек, верю ему как себе. Поэт-лакмус: если всплывает изнутри этот голос, это значит, я очень устала и пора принять строфу-другую Коэна.
Его стихи — хлебные крошки в ведьмином лесу времени. Некоторые — мое настоящее 10-летней давности, некоторые, уверена — мое будущее лет через двадцать, есть и такие, которые всегда про сейчас. Коэн-музыкант — это отдельный разговор, однако раз у нас литературное, но при этом радио, где, как не на "Голосе Омара" рекомендовать вам не только слушать Коэна-певца, но и читать Коэна-поэта. Было бы странно и едва ли — по уйме причин — уместно сравнивать его со Щербаковым, однако общее у них (для меня одно): их иногда ценнее не слушать, а именно читать, на время забыв, что они — музыканты.
К счастью, переводы стихов Коэна печатали, хоть и, к печали, совсем не все. Вот почему к этому эфиру прилагается такое вот игрушечное издание* — и вот почему я сейчас положу здесь вот этот кусочек из Коэна, из категории "мое настоящее 10-летней давности", живой и сильный для меня до сих пор.
А когда упал на трассе
и распластан под дождем,
люди спросят, как успехи,
ты ответишь: "Всё путём",
правда, если допытаться,
сам расскажешь все как есть:
что ты время коротаешь
в ожиданье, в ожидании чудес.
*В конце сентября будет свежая книга деды Коэна в переводе, микротиражом, не переключайтесь.
Про свою персональную Ирландию я вам уже докладывала, пришла пора доложить про персональную Индию, ибо есть прекрасный повод — свежевышедшая книга.
Если Ирландию и Норвегию — свои внутренние — я люблю с почтением, но как-то умопостигаемо, то Индия — это такая сила и красота древности и магии, что любовь моя к ней оттенена робостью и смятением. Каждый раз первый вдох в индийском аэропорту по прилету — в слезах: ванде матарам — кланяюсь тебе, мать. Если вы приехали в Индию и она вас не трогает, это повод обратиться к специалистам: Индия любого клинически здорового человека заключает во влажные, остро пахнущие многорукие объятия, что, впрочем, не означает, что это всем нравится. Но к Индии невозможно быть равнодушным. Эта страна — и реальная, которую я видела и ощущала множеством способов, и сферически-конная, в моей голове, болливудская, танцующая, вся в гирляндах, с блестящими во тьме белками глаз и зубами, — сладчайший и жуткий плен, я в нем навсегда, это не лечится. И потому, когда мне выпало переводить книгу про Индию, да еще и смешную местами, я взялась без разговоров и попутно погрузилась в пучину воспоминаний, музыки, фильмов.
"Серьезные мужчины" — это, конечно, прекрасная мольеровщина, друзья: сага об ушлом, остроумном проходимце из простонародья, которому очень хочется богатой жизни для себя и своей семьи. Но еще больше ему хочется, чтобы эта жизнь не стала еще одной крохотной неприметной песчинкой в океане безбрежного пространства-времени, еще одной безымянной ячейкой в тенетах сансары. Драмы и тихого беспробудного ужаса трущоб там вполне хватает, но Джозефу удалось запечатлеть, среди прочего, поразительный феномен человеческого восприятия: так тоже можно жить, так тоже люди живут — и умудряются радоваться. Совершенно без толку рассуждать в фасоне: "Ну коне-е-ечно, вольно говорить тем, кому тепло и сухо, у кого не 2, а 22 квадратных метра на человека в квартире", — как судить о другой жизни вообще? Нам предоставили рассказчика, мы смотрим на его жизнь его же глазами, и ему его расклад не нравится. Это всё, что имеет смысл учитывать.
Это, конечно, прекрасная сага о НИИ. Не "Понедельник начинается в субботу" в смысле чудес, но все-таки он — в смысле рельефности и фельетонности персонажей-ученых, их привычек, забот, устремлений и устройства головы и жизни. Всем, кто когда-либо учился на естественника, этот роман — прелестная ностальгия и узнавание, с большой подлинностью.
Это, конечно, прекрасная социальная сатира и вообще книга об отношениях в обществе — индийском, да, но поправки на культуру, признаться, не колоссальны.
И да: Ману Джозеф — мастер диалогов, остроязыкий слухач, наблюдательный, местами жесткий и крайне откровенный, порожних эпизодов в этом романе нет ни одного, все по делу, все для логики и единства повествования. В этом смысле "Серьезные мужчины" — классическая литературная форма, где все ружья стреляют, а все красоты и кудри нужны автору для достоверности сказа. Если вы любите Индию, как люблю ее я, вы узнаете немало удивительного, чудесного и жуткого об этом пространстве планеты.
Ну и как не завершить сегодняшний эфир песней солнцеликого А. Р. Рахмана, под которую я возилась с этим текстом? Диль се ре, сёрз энд мэдэмз, как это говорят на тамильском, — от всего сердца то есть.
PS. Не исключено, что мы сделаем в честь этой книги индийский вечер в "Додо" и покажем восхитительную комедию, из которой вот этот кусочек вполне показателен:
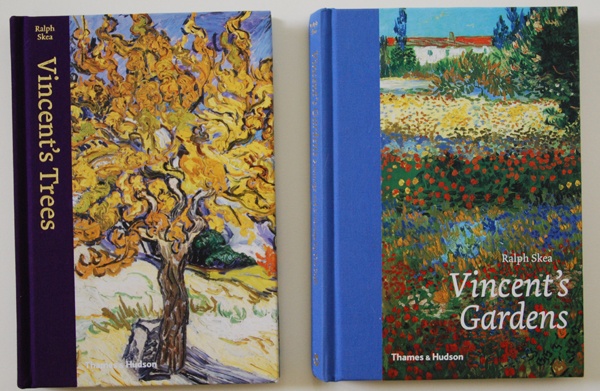
Простите, дорогие омарослушатели, но сегодня у нас эфир про книги, которых (пока) нет на русском. Поводом для подобной вольности с моей стороны стала встреча с подлинниками Винсента Ван Гога, от которой я никак не отойду.
Эти две нетолстые книги составил искусствовед и художник Ралф Ски, и посвящены они, соответственно, темам деревьев и садов в живописи и рисунках Ван Гога. Без высочайшего качества репродукций в таких книгах совершенно не обойтись, и "Тэмз-н-Хадсон", спасибо, не подкачали.
Ски, на мой вкус, — идеальный биограф: его в отношении ключевой персоны повествования не сносит ни в паточный восторг, ни в высокомерную энтомологию. В таком вот идеальном тоне пишет, как мне слышится, Павел Басинский. Ралф Ски скорее склонен к очень английскому недовыражению эмоций, а это оставляет читателю свободу чувствовать, что нравится и хочется. Прекрасно, по-моему, и то, что Ски сам художник, а не только теоретик искусства, и я слышу за его словами подлинное понимание процессов и техники, сдержанный, исполненный почтения оммаж ученика мастеру.
Нравится мне в этих двух книгах и точно отмеренные и строго необходимые слова о жизни Ван Гога, его странствиях, людях, с которыми он дружил и ссорился, — все эти слова тут для того, чтобы создать контекст, в котором возникла и расцвела мистическая связь и любовь Ван Гога с безмолвным миром прекрасных деревьев и трав, утешителей и умиротворителей смятенной души Винсента, всю его недолгую жизнь.
Настоятельно рекомендую всем, кто, как и я, пытается что-то там красить красками и карандашить карандашами, влюбленным в цветы и деревья, а также в синий и золотой. Ну и в Винсента, конечно.
У Сережи Штерна вышел маленький сборник стихов. Сережа — опять тот случай, когда сразу не понимаешь: хорошо это для чтения текстов — знать их автора, или нет. Но в случае Сережиных стихов чуть погодя делается ясно, что нет, не важно: я бы читала их и без знакомства с Сережей так же. У Сережи в этих его стихах зима, все цвета — о каких бы он ни писал буквально — оттенки темно-синего, редкие для Москвы густые туманы и не редкий для нее же сумрак, однако не поймите меня превратно: "Пора вызывать такси", хоть и весь так или иначе о любви и людях, к которым и с которыми она возникает и растворяется, — не плач Ярославны, не тоска и не "вздыханья на скамейке". Да, в этих текстах есть некоторая ехидная усталость и призрачная мужская томность, но все это мне лично нравится — иногда по-человечески, иногда чисто эстетически. Мне нравится негромкая разговорность Сергея Штерна, совмещение снисходительности и открытости тона. Я слышу вычеркнутую из текстов драму, но, вычеркнутая, она оставила по себе затейливую систему пор и лабиринтов за словами, и как раз они-то и берут меня за ворот и говорят мне прямо в ухо — о том, что из стихотворения не вычеркнешь, а сказать впрямую вышло бы, вероятно, либо пошло, либо скучно. Мне кажется, я слышу, что Сергей Штерн не говорит вслух.
Когда человек зряч и красив внутри и у него есть слух, он совершенно точно поэт, пишет он стихи или нет. Верно и обратное: если в стихах виден слух и слышно многое (такое вот смешенье чувств), автор явно красив внутри — и он, да, поэт. Тексты Даны Сидерос я люблю давно, а тут вот чудесно изданный сборник очень кстати.
Мой любимый вид поэзии — сказка. Легенда. Песня. Когда поэту удается включить медиума и притащить на эту сторону что-то очень древнее, беззнаковое, в патине, — сразу мне восторг и гипноз. Чтобы по-настоящему шаманить, поэту, похоже, нужно напрочь забыть о потенциальном читателе, да и вообще обо всем снаружи забыть. Это нисхождение в Аид — ну или восхождение в Вальхаллу, или это вообще такое не-место и не-время, куда лазает поэт за смыслами и словами и несет их обратно так, чтобы они по пути не обросли какой-нибудь пыльной пластмассовой дребеденью и не превратились в глиняные черепки поутру.
Дана, даже когда пишет про переход с Цветного бульвара на Трубную, все равно по крайней мере одним ухом прижимается к цветной слюде мифа. Даже в холодной управляемой ярости на совершенно сейчасное она все равно — шаман многих миров. И именно поэтому ее слышно не как из советской радиоточки, а так, словно голос ее — шар.
Людей, способных на качественный синтез идей, надо срочно заманивать в друзья, а это не всякий раз просто. То ли дело книга: завел у себя на полке и дружи сколько влезет, в любом режиме, который можно устанавливать единолично, не спрашивая у великодушного бумажного друга. С "Дзэном" все в точности так.
Вот как не надо делать, дорогие мои: я прочитала эту книгу за 12 часов, 1 января 2011 года. Курила, ела, пила чай не сходя с места, отбегала пару раз на зов природы. Этот текст нужно читать специально не быстро, непременно с карандашом и пачкой разноцветных закладок ("согласен", "бешено согласен", "не понял", "я бы поспорил", "я бы шумно поспорил", "спасибо громадное", "теперь мне легче", "теперь мне по-новому" и пр.). Для обогащения переживаний дорожной стороны романа полезно попутно ходить в гугл-картинки и смотреть, как выглядят места, по которым едет рассказчик с сыном и друзьями, на мотоциклах, из Миннесоты на север Калифорнии. Не помешает поглядывать в исходные, в т.ч. античные тексты, которые поминает автор. И тогда будет вам полифония читательского труда над этой книгой, поразительное путешествие, на которое в литературном пространстве автор выделил всего 17 дней, а вы за астрономические, скажем, семь переживете, вероятно, несколько лет постижения.
Философская, простите, проза — по ее "формальному" определению — предполагает развернутое изложение больших философских воззрений, облеченных в какой-никакой сказ, историю, сюжет, чтобы они становились от этого понятнее и чуточку предметнее, чем они изложены в нехудожественных философских трудах или учебниках. Пёрсиг — профессиональный философ-эпистемолог, и его профессионально интересует вопрос об истине (мы с вами интересуемся ею в порядке хобби, в свободное от работы время). В "Дзэне" Пёрсиг предпринимает бесконечно дорогую моему сердцу попытку синтеза романтического и рационального, научного и интуитивного, педантизма и спонтанности. Весь его роман — смысловая кольчуга афоризмов, блестящие кольца разного диаметра и сечения, в которых внутреннее око читателя углядывает рисунок закономерностей, а автор справляется с задачей не спрятать этот рисунок — но и не выдать списком, чтобы читатель добыл его сам и от этого понял и присвоил.
Физика борется за единую теорию всего. Максвелл предложил человечеству революционный синтез электричества и магнетизма. Пёрсиг попытался предложить нам единство постепенного и мгновенного. Мне кажется, это успешная попытка.
Вообразите картину: невозможной красоты и силы пейзаж, скажем, горы в умеренных широтах, осень, феерия красок, моросит дождь, из-под прелой листвы прут, как ненормальные, грибы, кругом рябина, и воздух такой, что упиться в лоскуты с одного вдоха, и какие-то горлицы балагурят по кустам, и вся эта стареющая, но еще бодрая жизнь хороша, постоянно изменчива и на своем месте в каждой точке этой картины, в любой миг. Вся эта живопись — кляксы краски на палитре существа с хирургическим зрением, и этой краской он пишет правду как она болит. Пишет людей и то, как они друг с другом обращаются, пишет, как они способны быть неспособными, пишет их глаза изнутри, а там творятся нечеловеческие вещи. И это чуточку Линч — в том смысле, что ни удрать, ни спрятаться, ни даже обмануть себя, что можно удрать или спрятаться.
В этой метафоре пейзаж и всё в нем — русский язык, существо с хирургическим зрением — Линор. Сколько бы ни читала ее текстов, я по-прежнему не знаю, было бы лучше, если бы мы не были знакомы и никакого дополнительного знания к текстам не добавлялось бы, или же все-таки к пользе мне как читателю, что я знакома с автором и это знание не вынимается из моего чтения. Но, думаю, мне было бы менее жутко внутри, если бы только текст у меня и был, а этого я не хочу — хочу, чтоб было вот так, как теперь.
С этим чувством, помнится, я читала в университетские годы Тибетскую книгу мертвых. А главное в бардо, как мы знаем благодаря Эванс-Венцу, — пусть даже страшно, и больно, и горестно, — продолжать всматриваться во всех существ и во все обстоятельства, какие возникают на этом темном пути. "Бардо тодол" — не анестезия. Линорины стихи из этого сборника — путеводитель по той части бардо, где говорят по-русски. Если слушать внимательно, есть шанс переродиться в чистой земле.
Две недели назад помер достопочтенный аксакал Ёитиро Намбу, один из отцов квантовой хромодинамики и теории струн, великой и ужасной. Намбу-сан прожил 94 года, из которых 70 лет постигал и преподавал такую физику, в отношении которой я даже не стану начинать делать вид, что она мне понятна. О нем и плодах его умища в "Евклидовом окне" тоже идет речь, и пусть этот эфир будет моим персональным восхвалением ему и всем Ощупывателям Слона.
Млодинова я напереводила три вагона за последние несколько лет, интервью у него брала и вообще как-то сжилась с ним, но, судя по многочисленным отзывам людей, не имеющих к Млодинову личного отношения, тексты его любимы и (по)читаемы многими. И заслуженно, конечно: Млодинов — превосходный популяризатор, массовик-затейник, болтун и хохотун, но еще и выпускник и профессор Калтеха, д. ф. н., светило и умище. Науке необходимы влюбленные летописцы и историки, и Млодинов историю науки дает с таким же азартом и огнем, как наш химфаковский Петр Маркович Зоркий, ныне почивший, читавший нам курс истории химии (хотя, возможно, Млодинов не такой зануда в части посещаемости и не такой педант на экзаменах).
"Евклидово окно", на мой вкус, — лучшая его книга. Не в смысле, что другие плохие или скучные, а просто потому, что для меня познание устройства пространства ближе всего смыкается с постижением устройства сознания (не спрашивайте). Для меня устройство мира в его сути, космос, порядок — это геометрия (вернее, космометрия, видимо). Смотреть за тем, как люди, начиная с Евклида (и слегка до него) и далее (Декарт, Гаусс, Эйнштейн и куча других визионеров), пытались ощупать поразительного слона, на котором мы обитаем, — удивительное переживание: человечество напрягало свои лучшие, утонченнейшие извилины, чтобы я, неприметный житель XX-XXI веков, напиталась иллюзией понимания, как тут все устроено.
Млодинов щедро делится со своим читателем и всякими байками о жизни носителей лучших, утонченнейших извилин: ни один ученый не жил в вакууме, не питался бабочками и, по всей видимости, не достиг паринирваны. Высокий восторг понимания и тоска безбрежного поля неосвоенной бездны вещей: об этом можно писать по-разному, у Млодинова получается великолепно.
Ну а пока я переводила "Евклидово окно", очень кстати пришлась песня "Хазмат Модина" под названием "Бахамут". Потому что пространство Калаби — Яу (о нем вам тоже расскажут) моему детскому сознанию представляется Бахамутом. Пусть в минуты церебрального ангста, который вас может настигнуть примерно вокруг глав о Пуанкаре, Коши или Клейне, вам вспоминается космогония "Хазмат Модина":
...Вся ведомая нам вселенная
Бултыхается в тонкой серебряной чаше
Что покачивается на спине
Огромной сине-зеленой черепахи
А чешуйчатые лапы черепахи
Твердо уперты в высочайшую
Из семи неприступных гор
Что вздымаются над бескрайней пустыней
Зыбучей, вонючей желтой пыли
А пустыня шатко покоится
На вершине щуплого зеленого деревца акации
Которое растет на рыле
Гигантского багрового быка
У которого полсотни глаз и он изрыгает пламя
Цвета полночного неба
Копыта быка упираются твердо
В единственную песчинку
Что плавает в глазу у Бахамута
Ничтожной пылинкой
Никто никогда не видал Бахамута
Кто-то думает, что это рыба
Кто-то думает, что это тритон
Но нам известно лишь то, что одинокий Бахамут
Вечно плавает во всем времени и всем
пространстве
И все мы и вообще всё
Плаваем в одной-единственной слезе
У него в глазу
Эта книга у нас (в "Додо") уже есть, аж два экземпляра, в понедельник, глядишь, появится в онлайн-доступе. Но я до следующей субботы терпеть не хочу, потому что не думала, пока не прочитала, какой Серхио Бойченко окажется счастливостью, в каждом своем стихотворении, хоть грустное оно, хоть нет.
Он оказался такой: каждое стихотворение — как звонок друга, который говорит тебе, что соскучился и хочет увидеться, после многих лет почему-то невстреч. Как обещание подарка под ёлкой, как перспектива поездки в тайное красивое место, которое раньше никогда не видел и даже не знал, что оно вообще есть на глобусе.
Никакой рисовки, никаких взглядов из-под ресниц. Бойченко не томен, не эпатажен, не выпендрежен, хоть и буянит. Он невыносимо хороший, настоящий, люто живой. И после него хочется какое-то время говорить, как он.
Я то жалею, что знаю, что он недавно взял и зачем-то умер, то наоборот. Жалею, когда читаю его шпанявые стихи про Винни-Пуха, Кристофера Робина, Пятачка и прочих сказочных обалдуев и про то, как они бухают, матерятся и обсуждают Сову и Кенгу — вроде помер человек, надо вздыхать; не жалею, когда читаю его усмешливые и страшно дорогие штуки про прощанья, например.
расставаться не трудно, трудно вернуться назад,
первым шагнуть навстречу, поднять глаза,
трезво смотреть на вещи, если мешает слеза.
расставания суть карман, исполненный черных дыр,
это субстанция, из которой построен мир,
это самый грустный и популярный клавир.
расставаясь, не надо лгать, есть предел и для лжи,
лучше пойти упасть в спелой высокой ржи
и полежать часок. мало — еще лежи.
встречи у нас для сердца, расставания — для души,
и пока моя лодка не скроется за камыши,
не уходи, мой друг, маши мне рукой, маши.
* * *
брат иногда бросит с балкона кусочек хлеба
я посмотрю вверх, чтобы поймать, и увижу небо
увижу небо синее, облачко и засмотрюсь
хлеб потеряю, зато я в тебя влюблюсь
снова, поскольку я вас уже любил
и даже, боюсь соврать, сколько-то с вами жил
и надорвал несколько важных для жизни жил
а небо синее падает падает мне на голову
мне его не хватает для счастья для счастья полного
а облачко легкое голову мне дурманит
я забываю дыру в голове и дыру в кармане
я снова голодный без хлеба зато с тобой
за исключением облачка небосвод голубой
Суббота и 4 июля сошлись в жизни "Голоса Омара" прямо со второго раза, и это, я считаю, судьба.
Oh baby, baby, it's a wild world.
Cat Stevens
Обе сказки про девочку Алису и два диких мира я читала почти ежегодно, начиная лет с шести, когда мне ее прочли родители (то ли мама, то ли папа, сейчас уже не помню, а пластинку с Высоцким после этого я слушать отказывалась, потому что мне она казалась враками против текста). Этот текст бесил меня в детстве как никакой другой, по естественной причине: я его в упор не понимала. Меня гипнотизировали картинки Геннадия Калиновского, но содержание казалось мне "взрослым", то есть невнятным и мудреным, высокомерно не предназначенным для меня-ребенка. Было столько прекрасно понятных книг, а эта сидела на полке с презрительным видом и всем им, видом этим, сообщала мне, что я еще мозгами не вышла в нее врубиться. Но я, одновременно и упрямая, и легко уязвимая, на нее и дулась, и страшно хотела ее раскусить. Седьмое чувство подсказывало, что это почему-то важно. Теперь-то более-менее ясно, почему эта книга мне так уперлась. Но об этом — чуть погодя.
В мою голову параллельно с "Алисой" прибыли "Маугли" и "Пеппи Длинныйчулок". История про мальчика и джунгли подарила мне первый чувственный опыт в теории (об этом я уже докладывала в "Омаре"), из которого потом напрорастала уйма всего, что теперь неотъемлемая часть меня. История про лучшую девочку на свете и ее друзей сформировала во мне первое прото-понимание, из которого потом получились все мои соображения о природе истинного прайда и действия по их созданию, всю мою жизнь до сего момента (если вы понимаете, о чем я). При этом всякие "Васьки Трубачевы", "Тимуры и его команды" и пр. мною, конечно, были с интересом читаны, и прайдовость в них была, но прайды эти были какие-то порченные — потому что были внешние идеологические рамки, упрощавшие героям работу братства. А чувствовать и брататься, как мне казалось еще в начальной школе, — большая настоящая работа, за так не дают, а если где написано, что дают, так это враки и неуважение к разуму ребенка.

Но что за ключ для меня был запрятан в "Алисе", я не сознавала даже после того, как чистая текстология перестала быть проблемой (уже в университете). Однако некое смутное ощущение, что эта книга для меня — история длиною в жизнь, возникло еще в средней школе и не позволило мне пренебречь этим текстом ни на год. И да: я почти с уверенностью могу сказать, что я готовилась к неоднозначным откровениям "Алисы" еще до ее появления в моей жизни; в доказательство привожу фотокарточку, убедитесь сами.
Некоторое "дошло" для меня случилось, когда некий наставник в части всяких духовных, простите, практик поведал мне (и многим другим его слушателям) представление о внешнем, внутреннем и тайном в каждом предмете и явлении. Это самое "дошло" применительно к "Алисе" выглядит для меня так: есть внешняя сторона реальности — внешняя по отношению к моей голове (в "Алисе" это мир, из которого она взялась и в который возвращается из Страны Чудес), есть ее внутренняя сторона — пространство моих представлений и интерпретаций (по "Алисе" — Страна Чудес, мир Алисиного сознания), а есть тайная, на которую в тексте "Алисы" если и есть намеки, то очень призрачные и двусмысленные (иначе никак, в противном случае тайное перестало бы быть тайным).
Очень не с первого раза, а где-то в средней школе я поняла, что Страна Чудес — никакой не Диснейленд, а место холодное, безразличное к тебе персонально и очень перпендикулярное любым обоям в цветочек. И это пространство здорового человеческого сознания, его личный космос. Уютных углов в нем — пяток, и работа по благоустройству его не кончается никогда, а не иметь иллюзий на этот счет — подарок. "Алиса в Стране Чудес" первой начала объяснять мне, что мое сознание полнится персонажами и ситуациями, которые я не понимаю и еще долго не пойму, что цацкаться со мной тут не будут, что никто и ничто не обязаны мне ничем, тем более логичностью, что пространство причинности, последовательности и доброжелательности внутри меня самой — а в этом месте граница между моим сознанием и "внешним миром" размывается — мне предстоит расширять своими силами и исключительно в одиночку. Помощь окружающих косвенна и далеко не всегда осуществима. Ни наружный "разлинованный", ни внутренний "парадоксальный" миры — не предел. Красота игры — в необходимости существования третьего. О том, что это третье нужно добыть, нащупать, открыть, мне сообщил Кэрролл, хотел он того или нет. Поняла я его сообщение благодаря многим не связанным с этим текстом книгам, разговорам и встречам.
Именно неприятный вывод о том, что двух миров мало и с ними трудно, похоже, и создал мои отношения с этой книгой — и он же сделал их обязательными. Если у вас есть дети, и они доросли до возраста, когда им можно, как юному Будде, показывать старых, больных и мертвых, расскажите им, что Страна Чудес — первый поход в свою голову, первое исследование собственного космоса. И что у Кэрролла нет ни одного няшного персонажа. Кроме, пожалуй, Белого Рыцаря. Он — единственный недвусмысленный ключ к третьему миру, который, впрочем, Белыми Рыцарями не населен, насколько мне сейчас известно. Объясните детям, что герои Кэрролла — не пуси и не мерзавцы. Им просто все равно. И это очень честно и порядочно со стороны старика Кэрролла — не морочить малолеткам голову. Скажите детям, что, если они по-настоящему захотят, им откроется третья сторона реальности, по ту сторону скучной квадратности и диковатой парадоксальности/абсурда. А какова она будет — они узнают, когда проживут долго-долго. И много-много чего передумают и повидают. И тогда мы все встретимся на той стороне и хорошенько помолчим.
Дженет Уинтерсон возникла в моей читательской жизни с мини-романом "Бремя. Миф об Атласе и Геракле" в 2005 году. "Бремя" мне понравилось, удалая и придумчивая притча, мне вообще интересно всё что угодно про фантом времени и наши, человеческие, с ним отношения. Но это, исходя из читанного остального у Уинтерсон, не самая показательная Уинтерсон.
"Тайнопись плоти" же, насколько я могу судить, — очень Уинтерсон. Этот английский автор в литературе уже тридцать лет, и роман, о котором речь, 1992 года. Уинтерсон — человек протестный и пылкий, сложного детства ей отсыпали за троих (приемный непростой ребенок в не самой сердечной семье), ей удаются очень разные тексты — от притчи "Бремя" до сказки "Беда-неразбериха"*, а также публицистика, мемуары, рассказы, сценарии. "Тайнопись" — драма для взрослых, вроде как классический любовный треугольник (супружеская пара + внешний по отношению к паре человек, влюбленный в женскую часть супружеской пары), рассказывают нам эту историю от лица этого самого внешнего человека, история это вполне мучительная и горестная, честная и недужная, но мы же видали это все, и в жизни, и, конечно, в литературе, да? Видать-то видали, но "Тайнопись" поразительна одной деталью: мы ничего не знаем про этого внешнего человека, в (главной) частности — мы не знаем, какого этот человек пола.
В английском это узкое место обойти существенно легче, нежели в русском: у наших глаголов и прилагательных есть говорящие окончания, определяющие род. И в переводе, понятно, пришлось изрядно покрутиться, но стараниями переводчика и редактора всё удалось, и мы, русскоязычные читатели, так же не понимаем, дяденька этот внешний человек или тетенька. И вот тут-то, когда непонятно, удивительно интересно наблюдать за своей головой. Она канючит, как дитя в Парке Горького: "Мама-мама, а что это за штука? Ну скажи, что это за штука? Ну скажи-и-и-и-и-и!" Голова, то есть, требует определиться. Ее научили, что это важно. Давно, еще в палеозое где-то. Это самец? Это самка? И вопрос этот становится равен вопросу "Кто это?". А педагогический пафос романа "Тайнопись плоти", как я его себе вижу, — именно в том, что это не имеет значения. Это че-ло-век. Ему плохо, ему больно, он влюбился, он хочет тепла и близости, и нытье палеозойской головы постепенно начинает ощущаться как вульгарное и нелепое: какая, к черту, разница, тетенька это или дяденька, деточка? Че-ло-век. Ясно тебе? Это всё, что тебе нужно знать, чтобы понимать написанное, сочувствовать, грустить и прочее, то есть получать свой читательский и человеческий опыт.
Книга на рус. яз. не переводилась, перевод названия мой.
Мне нравятся самостоятельные реальности в виде книг. Мне нравятся реальности, заплетающиеся вокруг реальностей в виде книг. Мне нравятся реальности, начинающие существовать в реальности, когда прочитаешь книгу, которая самостоятельная реальность. Мураками — абсолютный генератор реальностей. По-моему, это у него у первого — в "Охоте на овец" — я с такой ясностью ощутила, что достаточно накренить наблюдаемое градуса на два-три и в этом положении стойко удерживать, и всё, всё! Оба-на — новая, новехонькая реальность. Хотя, казалось бы, все в ней как у нас, только... не перпендикулярное.
Совершенно без толку — как в случае любой отдельной книжной действительности, упакованной исчерпывающе, чтобы клин было некуда вбить, — пересказывать содержание романа "Охота на овец". Как бы детектив? Эдак авантюра? В некотором смысле драма маленького человека? Да тьфу совсем. Ерунда. Это другая планета — Япония. Это другая планета — язык Мураками. Это другая планета — культура людей, живущих на острове, у которых своя миру равная мифология. И все это — в современном нетолстом романе "Охота на овец".
Совершенно плевать, "большая" это литература или размера "М". Как раз тот случай, когда размер не имеет значения. Это сдвиг точки сборки — элегантный, точный, как в часах, которые пересобрали, а они все равно часы, а не, скажем, счетчик Гейгера, но не время они показывают, ой не время. И лучше я вам про эту книгу расскажу реальность, которая сплелась благодаря ее реальности.
10 лет назад я познакомилась с одним очень молодым человеком. Его привел со мной работать другой молодой человек, взявшийся совершенно из ниоткуда, в свою очередь. Так вот, этот первый очень-молчел сразу сказал мне, что он со школы читает один роман и сильно от него таращится. "Охота на овец" называется. Японский. А в те поры японская литература была фетиш, мода и гул во всех трубах. Показывает убитый экземпляр, выпущенный "Иностранкой", в мягком переплете. На зеленой обложке — молодой человек с мухобойкой (с теннисной ракеткой, на самом деле, но это несущественно). У книги вид, как будто по ней молилось не одно поколение бойскаутов с фонариками под одеялом по ночам в сыром нездоровом климате. Мы, говорит мне молчел, ее по очереди читали, все прогрессивные молчелы в моем окружении. А перевел ее, говорит молчел и благоговейно переходит на шепот, великий Дмитрий Коваленин, вождь и мозг всех прогрессивных молчелов.
Я, конечно, немедленно устыдилась и принялась читать. О! О-о-о! было мне. И дело не в том, что я тоже ощутила себя прогрессивным молчелом, а в том, что такое удивительное литературное переживание перепало мне впервые. [Здесь монтажная склейка и титр "Прошло 6 лет".]
Владивосток. Квартира одного друга моего мужа. Мы навещаем Дмитрия Коваленина, тоже друга моего мужа, который в адской запарке, куря и накачивая себя кофейным чифирем, переводит очередной роман Мураками.
[Митя, этим текстом я желаю передать тебе привет от всех прогрессивных молчелов. Благодаря твоей "Охоте на овец" и у меня тоже сместилась куда надо точка сборки.]
Юноши, если вы не читали Мураками, начинайте с "Охоты". Взрослейшины, если вы не читали "Охоту", я ничего не понимаю.
Генераторы вселенных всегда вызывали у меня завороженный интерес. Есть такая прямо категория читателей — коллекционеры миров. Я аккурат из этой категории. Когда я была детсадовской крошкой, у меня были джунгли Маугли, англия Мэри Поппинс и Пэппи, страна чудес Алисы, потом добавилась африка Даррелла, ну и пошло-поехало, через Толкина и Стругацких, Шефнера и Льюиса, Хайнлайна и Ле Гуин, Сапковского и Желязны, Каттнера и... Отсюда и до обеда. Совсем не обязательно, чтобы мир/миф сильно отличался от реального (назовем его со многими натяжками так, для краткости). Важно, чтобы в нем было "место для шага вперед" (с).
Десять лет назад в Лайвбуке начал выходить мифопоток Лёни Тишкова. Лёня — удивительный московский художник и мифогенератор. Создание мифа одним конкретным автором — это процесс переименовывания. Чтобы что-нибудь переименовать, то есть отодрать от предмета или явления исторически налипшее название и попытаться найти что-то субъективно более точное или хотя бы такое, что просто даст глянуть на предмет или явление заново, отмыть от залапанности и привычности, нужно как минимум пожелать пристально в этот предмет или явление вглядеться и попытаться выволочь наружу его другие сути. Лёня с этой целью любит разглядывать людей.
"Водолазы" — цикл из трех мини-альбомов, в которых Лёня переименовывает человеческую жизнь в приключения водолаза на глубине и на суше. Человек = водолаз, тело = скафандр, у существа в скафандре масса физических неудобств и естественных ограничений. А дальше мир через это (водолазное) стекло начинает смотреться совсем не так, а вернее — очень так.
Даблоиды — это ментальные царьки человеческой неосознанности, властью коих мы плодим энтропию и ведем себя не просто как зверки, а гораздо хуже, в смысле плодим энтропию во все стороны, а это в нашем случае дважды беда, поскольку, будь мы царями своим даблоидам, могли бы эту энтропию уменьшать. Книга "Даблоиды" — сильно иллюстрированная квази-энциклопедия наших даблоидов.
Будь оно всё просто написано, было бы, вероятно, не так интересно. Однако поскольку Леонид Тишков в первую очередь художник, его мифы делаются наглядными, как агитплакаты в поликлинике моего детства. И я до сих пор рада, что мы издали это удивительно всё, а также дорожу этими переименованиями: Лёнины метафоры по-прежнему помогают мне не забывать, что я — водолаз, и что мои даблоиды — мои, а не я — их.
Во-первых, с днем рождения Солнца русской поэзии всех нас.
А во-вторых, говорить мы сегодня будем не об Александре Сергеевиче (too brilliant for introduction, как говорится), а об одной диковине 2008 г. издания. Книга именуется словарем, но это, скорее, из-за ее такого внутреннего устройства, а не потому, что это прям академический словарь. Это дивный документ эпохи, и некоторым из тех, кому сейчас примерно от сорока до семидесяти, от нее — радость узнавания и такой, знаете, встречи со старой компанией приятелей и друзей, а всем остальным, вероятно, — целая отдельная география, со своим населением.
Широко определяемая "эзотерика" в советских понятиях — штука удивительная и очень ни на что в мире не похожая, потому что на официально атеистических территориях заниматься всякой антинаучной духовностью можно было долгое время на свой страх и риск, и это еще если "знать, где брать". Но с 60-х гг. стало чуточку проще, хотя, конечно, все равно в распечатках, переписках от руки и по дружбе промеж собою. Рубеж 80-90-х я худо-бедно застала сама, а уж прямо как следует смотрела на эту громадную, но довольно особую часть жизни в Москве с конца 90-х и далее. Сережа Москалев, дорогой взрослый друг и наставник — как раз из старшего поколения знатоков и причастных и единственный, не поленившийся это всё записать, потому что я, к примеру, не знаю других изданных текстов, увлеченно и в то же время исследовательски рассказывающих о том, как было устроено думание, чтение и разговаривание на темы от адвайты, буддизма и даосизма до Кастанеды, Ошо, Блаватской и Гурджиева.
Знакомство и с этой книгой, и с ее автором в свое время подарили мне понимание, что бешеная активность публики в 90-е в поисках своей духовной, скажем так, ниши сгустилась не в пустоте, а происходит из негромкой и очень неофициальной жизни, которая начала происходить много раньше, и что фундаментальные вопросы, которые, по идее, должны возникать рано или поздно в любой человеческой голове, если она хоть раз за всю жизнь как следует проснулась, продрала смысловые свои глазёнки и вперилась во тьму собственной смертности, даже если политика территорий проживания, мягко говоря, никак не поощряет плюрализм, простите, мнений насчет личной духовности граждан. Это уже сейчас народ более-менее определился, буддист он или гурджиевец, и спокойно занимается себе соответствующими практиками, читает совершенно доступные книги, хоть по-русски (многое, издаваемое сейчас, даже и до магазинов не доходит, а полностью продается прямо заинтересованным людям), хоть нет, ездит на события в нише своей традиции, и в целом массовый духовный шопинг, феномен преимущественно конца 80-х — 90-х, насколько я могу судить, завершен. Что не означает, что люди не открывают для себя необъятный мир поиска смыслов, в самых разных традициях.
Этот "Словарь" можно читать с любого места как путеводитель по поиску трансцендентного в советском и, слегка, постсоветском пространстве, можно применять эту книгу как будильник Гурджиева (напоминалку об осознанности), а можно, как Маугли, возвращаться в эти джунгли и вспоминать, что ты в своем желании искать ответы, грамотно ставить вопросы и хоть что-то делать со своим сознанием не одинок не только в пространстве, но и во времени.
От церебральной усталости я читаю либо сказки, достаточные в толщину, чтобы под ними можно было квасить капусту, ибо какие-нибудь надмирные стихи, снисходительно и умильно взирающие на суетливое человеческое, либо книжки по занимательной астрономии, либо что угодно, чтобы ржать. Если попадается толстая поэтическая сказка про космос со ржачкой — мечта идиотки, но про "Автостопом по Галактике" я вам уже докладывала. Поэтому сегодня в нашей программе езда по ухабам с теплой газировкой без крышечки, сиречь книги почем зря почившего недавно англичанина-правопреемника Вудхауза — Тома Шарпа.
Дед Том Шарп говорил, между прочим, — пока жив был, естественно, — что это он не лысый, это он выше ростом, чем его волосы. Но это я так, даже не к слову.
Необходимый дисклеймер: читать Тома Шарпа не необходимо. Как, впрочем, вообще всё в этой вашей так называемой действительности. Как есть мороженое, ходить в паргорькава и навязчиво складывать из любой бумажки кораблик. Это, словом, дивное английское развлечение смехом и строго и обязательно отдых, и больше ничего.
Том Шарп — это такой Гоголь, Чехов и Салтыков-Щедрин про маленького человека, только смешно и ничему не научает. Шарп — певец обормотов и обалдуев, неимоверно английский, лихой, наблюдательный и дедморозовый, как Вудхауз. А в "Саге о Щупсах" он еще и ухитряется делать очень толстые комплименты дамам, и вообще это роман про гёрл-пауэр. Дамы способны на всё, всё им по плечу и по плечо — любое мужчино в том числе. Закинула на плечо — и в бульбу, применять к делу.
Берите с собой в отпуск, если хотите в нем не умнеть, а с удовольствием и оттягом дуреть — и набираться точных, шипастых остроумностей.
Это вам для ориентировки, откуда пошли Щупсы:
Щупсы из Щупс-холла обретаются в графстве Нортумберленд. Говорят, они могут отследить свою фамильную линию вплоть до некого датского викинга, Авгарда Бледного, которого так укачало на пути через Северное море, что он откололся от своей мародерской банды, покуда та грабила женский монастырь в Элнмуте. Вместо того, чтобы насиловать, как полагается, монашек, он сдался на милость служанки, на которую наткнулся в пекарне; служанка эта пыталась определиться, хочет она быть изнасилованной или нет. Не блиставшая красотой и дважды отвергнутая мародерами Урсула Щупс пришла в восторг от того, что удалой Авгард выбрал ее, увела его с отвратительной оргии в разграбленном монастыре в уединенную долину Моуздейл, в крытую дерном хижину, где родилась. Возвращение дочери, на окончательность исхода коей так надеялся папаша, — да еще и в компании громадного Авгарда Бледного, — настолько ужаснуло означенного папашу, простого свинопаса, что он решил не разбираться в подлинных намерениях викинга, задал стрекача и в последний раз о нем слышали близ Йорка: он торговал жареными каштанами. Уберегши Авгарда от кошмаров обратного пути в Данию, Урсула настояла, чтобы Авгард спас ее честь неизнасилованной монашки и исполнил свой долг. Так, говорят, и возник Дом Щупсов.
 Сегодняшний выпуск "Голоса Омара" посвящается вчерашнему молниеносному решению допечатать чуточку сборника стихов и малой прозы Джима Доджа "Дождь на реке". Эту книгу "Додо" выпустил в 2012 году, 7 июня, через пару недель то есть, у нас заканчивается договор на издание, и мы решили напоследок сделать еще 100 экземпляров этого дорогого нашим сердцам сборника и порадовать всех последней возможностью завести эту книгу себе. Допечатка на следующей неделе будет в "Додо", надеемся, аккурат к встрече секты "Голос Омара Live", посвященной роману Джима Доджа "Трикстер, Гермес, Джокер".
Сегодняшний выпуск "Голоса Омара" посвящается вчерашнему молниеносному решению допечатать чуточку сборника стихов и малой прозы Джима Доджа "Дождь на реке". Эту книгу "Додо" выпустил в 2012 году, 7 июня, через пару недель то есть, у нас заканчивается договор на издание, и мы решили напоследок сделать еще 100 экземпляров этого дорогого нашим сердцам сборника и порадовать всех последней возможностью завести эту книгу себе. Допечатка на следующей неделе будет в "Додо", надеемся, аккурат к встрече секты "Голос Омара Live", посвященной роману Джима Доджа "Трикстер, Гермес, Джокер".
Доджа мы любим за его два романа, одну повесть, один сборник стихов и за него самого, учителя недвойственности, дзэн-мастера ежедневности и дарителя восхитительной таковости вещей.
Этой книжке сто лет в обед (по понятиям нашего книжного рынка) — семь, если совсем точно, а я по-прежнему считаю, что это лучшая злобная и всеобъемлющая пародия на жанр, какие видывала российская развлекательная проза. Ни о каких "50 оттенках розовых соплей" никто еще и слыхом не слыхивал, а "Диана", прерывисто дыша и хлопая ресницами, уже искала своего читателя.
Гений Флэнн О'Брайен собрал свой катехизис клише — журналистско-репортерский, Элла сделала то же самое для "розового" романа. Все, над чем мы хохочем, как гиены, все, что есть упоительно-стертого и залапанного в бульварной дамской прозе, Элла сконденсировала до концентрации клубничного сиропа гуще бустилата. Эта книга — справочное пособие начинающим литераторам: читаем с карандашиком, подчеркиваем обороты, фразы, а то и целые абзацы, и запоминаем, как не надо делать.
Чтобы создать точную, грамотную пародию, необходимо обладать слухом и глазом. Чтобы эта пародия вышла живой и смешной, нужно еще и активное, выпирающее вовне ч/ю. На мой взгляд, всё получилось.
Книга оборудована специальной версткой — с розочками, сердечками и виньетками. И бонус читателю — читающий купидон на горшке — художнику Вове Камаеву, создавшему образы бесконечно талантливой, но грудастой и скромной красавицы Дианы в объятиях всесильного жутко богатого, но такого ведомого и легкомысленного изысканного мачо Джейка Иванова, несомненно, удался.
В конце читателя ждет опросник по усвоенному материалу в стиле ЕГЭ по литературе (книга предвосхитила его появление).
PS. А! Кстати! Среди первых читательниц книги обнаружились такие, которые впитали ее как настоящую, и предъявили автору претензии в клише и нестыковках! Восторг наш, издательский, был неописуем, как вы понимаете.
Вот что хочу я сказать о взаимодействии "Радуги тяготения" с мозгом читателя (например, моим, но рискну распространить свои соображения и на чьи-нибудь еще или даже всехние).
Преамбула: умные старшие товарищи говаривали мне (применительно ко всяким практикам улучшения себя), что начинать проще всего с тела. Тело — самая неспешная и, следовательно, управляемая структура в агрегате "человек". Меняется оно не быстро, путем методичного системного воздействия, требует понятных, хоть и не одноразовых усилий. Шустрее и вертлявее — аппарат чувств и эмоций. Они, как известно, причудливо связаны с телом, и через это самое тело на них можно воздействовать (но можно осознавать их напрямую, тем самым меняя, но это сложнее — именно потому, что эмоции шустрее и изменчивее тела). Ум же — самая бешено осциллирующая штука, проворнейшая из всех, поди поймай этого Брандашмыга. Поэтому осознание мыслей практически во всех практиках самосозерцания требует покоя тела и чувств. Пытаться осознавать мысли, стоя в горящем дурдоме в гамаке в ластах (с), — занятие увлекательное, но для подавляющего большинства нас, простых смертных, тщетное. Поэтому в так называемых постепенных практиках работа производится через тело к эмоциям и далее — к уму и его содержимому.
По существу: телесную часть себя оставим за скобками — книги мы читаем, конечно, при непосредственном участии тела, но как, правило, это самое тело в момент чтения более-менее покоится и с ним ничего внезапного не происходит (если вы любитель чтения на большой скорости в качку под проливным дождем и таким способом можете читать, скажем, Пинчона, — назначьте мне свидание, я хочу увидеть вас воочию и потом рассказывать об этом наследникам). Поэтому интересуют нас чувства и мысли. Практически любой читатель художественной прозы — и, вероятно, не раз и не два — получил за свою жизнь опыт полной эмоциональной синхронизации с текстом/автором. Такие книги мы мгновенно и навсегда полюбляем: в такой синхронии — исчезновение границы между двумя людьми, между автором и читателем, т. е. прекращение одиночества обоих, а не к этому ли все мы втайне или явно стремимся, хоть иногда? Это восхитительное переживание, оно сродни безусловной любви или тем нечастым оказиям подлинного физического соития, в котором исчезают раздельные "я", и возникает единство, дарующее намек на человеческое бессмертие.
Но именно оттого, что эмоции — штука хоть и прыткая, но все же (у клинически здоровых наркологически трезвых людей — с уловимой частотой смены и умопостигаемыми амплитудами) эмоциональная синхронизация хоть и приятна и чудесна, но не то чтобы уникальна. Здоровый человек, как сообщают нам нейробиологи, совершенно естественно склонен к эмпатии, это часть нашей машины выживания (подробнее об этом, к примеру, у Млодинова в "(Нео)сознанном").
Другое дело — синхронизация ментальная. И речь, конечно, не о лобовом (в прямом и фигуральном смысле слова) понимании написанного. Понималка — это лишь малая часть. Под ментальной синхронизацией — в пределах этого моего рассуждения — я понимаю тотальный грок, по Хайнлайну, т.е. соединение с текстом (и, хотелось бы верить, с его автором) вообще всеми синапсами, какие есть в моей голове: не только лобными долями (рациональным относительно современным мыслительным аппаратом мозга), но и всякими подкорковыми структурами, куда более древними и не рационализирующими. Машина ума, как я уже писала выше, — сверхскоростная, трудноуправляемая и устрашающая в своей мощи. Чисто статистически сонастройка одного ума с другим — тем более у незнакомого лично, тем более удаленного во времени и пространстве человека — штука маловероятная.
Именно поэтому у Пинчона, Джойса и некоторых других писателей, вольно приглашающих нас в космос своего мыслящего сознания (без купюр, без скидок на образование и осведомленность, без спрямления и выглаживания — прямо в сырую хмарь мысли), не может быть море читателей. Да, наслаждение такой соединенностью — невероятное переживание, интимность которого не описать словами. Однако рационально разработать метод такой настройки мне представляется невозможным — в той же мере, в какой я не верю в приворотные зелья. И, следовательно, такая вот подлинная встреча с такими текстом и автором — сумма специфического жизненного опыта и чистого везения. Ну и, конечно, абсолютного страстного желания эту встречу пережить.
* * *
Есть и еще одно соображение, и оно тоже, в общем, про работу (моего) ума и Пинчона/"Радугу тяготения". Примерно к середине книги я, кажется, поняла, почему Пинчон для меня настолько физиологичен по ощущениям от чтения. Он в тексте вьет тот же Меандр, что и мой ум (судя по читанным книгам про мозги — не только мой) — из явлений внешнего мира. Голове удобно и естественно, по-плюшкински накапливая и сгребая в себя впечатления, выхватывать из необозримого множества накопленных отпечатков разрозненных феноменов похожие, искать закономерности, вылущивать из составных форм атомарные, базовые, "сущностные", заводить под них каталожные ящики и считать объект, которому предписан уже ящик, познанным, понятым. Пинчон подсовывает (моему) уму громадное множество разнообразных впечатлений (вот парабола, детка, а вот что-то, входящее во что-то, а вот нечто, поглощающее другое нечто, а вот замкнутый круг и пр.) и, подобно научающему папаше или наставнику в детсаду, предлагает мне рассортировать их по принципу подобия, давая разные подсказки, временами — очевидные, но чаще с виду путающие, лукавые, чуть ли не коварные. А голова что? А голове только дай в это играться! Вот только у меня нет иллюзии постижения. Есть лишь радость детсадовской отличницы: вот у меня кучка всяких красных штук, вот кучка овальных, а вот — которые пищат. При этом в красной кучке что-то явственно пищит, а в пищащей есть что-то красноватое и овальное.
В частности, поэтому, как мне видится, в романе столько в нравственном смысле безликого: математики, физики, химии (и Павлова!). Пинчону, кажется, интересно изучать, как на эти абстрактные формы нарастает человеческое и в некоторой точке рождаются нравственные дилеммы, отношения к предметам и явлениям, т.е. возникает жизнь. В биологии и кибернетике вопрос границы живого и неживого открыт до сих пор. Пинчон предлагает свой вариант подхода к этому ментальному снаряду. Ответов не дает, впрочем.
С этой книгой серии "50 идей" вышло больше всего возни по сравнению с предыдущими: среди "Архитектуры", "Будущего", "Математики" и "Мозга" она самая наукообразная и плотная терминологически. Но тем хороша и полезна. Нет, это не развлекательное чтение, это честная ознакомительная экскурсия в нейробиологию. К моей большой радости, популярных книг о мозге выходит немало, однако в основном они феноменологические, рассказывают о мозге плюс-минус как о черном ящике: вот входящий сигнал, вот реакция, а что там происходит в промежутке — это, пожалуйста, читайте в учебниках. Ясное дело, что и эта книга — не для специалистов, а для нас с вами, людей с каким угодно образованием, кроме медицинского или биологического. И все же, на мой взгляд, чтение этого текста сильно обогатит понимание других популярных книг о нейробиологии мозга и покажет некие самые общие векторы, про что интереснее прочего читать дальше.
Всяких развлекательных фактов в книге сколько-то найдется, но в этом отношении, скажем, "Математика" богаче — попросту потому, что математике тыща лет в обед, и мы все ее как-то проходили в школе. Нейробиологию — по крайней мере, моему поколению, — в школе не преподавали, ограничившись парой или тройкой уроков на тему "как правильно разделывать мозги" "из каких частей состоит человеческий мозг". Ну и да — синапсы, нервный импульс, центральная и периферическая нервная система. Костанди освежает школьную базу и добавляет гору того, что простые смертные про свои мозги слыхом не слыхивали, и попутно развенчивает всякие мифы типа "право- и левополушарных" людей.
Местами придется несколько продираться сквозь терминологию, но Костанди аккуратен, без определений не оставит, за локоток поддержит, заблудиться не даст. И, конечно, мы по-прежнему не знаем о мозге столько, чтобы, как та сороконожка, растеряться и забыть, как это — думать.
С удовольствием читала я это первое сочинение Зусака, написанное в 1999-2001 гг., еще до того, как мы все насладились "Книжным вором" — и в письменном, и в киношном варианте. Говорю сразу: Зусак этой трилогией из трех макси-повестей с одними и теми же героями оказал очередную добрую услугу подросткам. Он и сам в те времена не далеко отжил от того возраста, героев своих отлично понимает и любит, и потому читатели "Братьев Волф" без усилий почувствуют и понимание это, и любовь.
Писать для и про подростков, как мне кажется, — дело зверски непростое. Я бы не смогла — вероятно, именно потому, что отчетливо помню, какой несусветный винегрет болтался у меня в голове в мои 14-16 лет, каким сложным и путаным все казалось, и как неудобно и странно было с самой собой в те годы. Зусак же справился с задачей на "отлично", по-моему.
Среднестатистическая сиднейская семья. Четверо детей от 15 до 20+ лет, трое пацанов и девчонка. У каждого свои естественные и ожидаемые трудности и легкости: где взять денег на ерунду, как развлекаться, очаровывать противоположный пол, договариваться с родителями (и иногда морочить им голову и обманывать), как хулиганить и не попадаться, держать марку перед сверстниками и прочее хорошо знакомое. На все это мы смотрим глазами Кэмерона Волфа, младшего из детей — обаятельного, трогательного 15-летнего подростка с большим прекрасным сердцем (по мне — всем бы подросткам быть такими, и никаких бы тогда с ними проблем). Кэмерон, понятно, не святой, но совсем не анфан-террибль. Я бы с таким дружила — и в 15 лет, и сейчас. Три повести книги — если огрублять — про испытание взрослением: 1) ответственностью, 2) преданностью и силой воли, 3) любовью и дерзанием.
Зусак очень пристален и подробен в будничных, простых мелочах, и ему вполне удается создавать ими зачарованность, какая многим из нас нравится в таких вот незатейливых чертах жизни. Это практически Буковски для юношества, только — пока, во всяком случае, — без выпивки, никотина и полчищ женщин. Мне нравится его рубленый стиль — коротко, просто, минимум затей. Лексически прямолинейный, но достоверный и яркий текст написать — это вам не баран чихнул. Переводчик Коля Мезин большой молодец, ему, на мой взгляд, всё удалось очень точно (я читала и оригинал, и перевод, знаю, о чем говорю).
Эту книгу можно отлично применять как повод для разговора с чадом-подростком: там есть о чем потолковать после чтения, и если существуют темы, про которые вам неясно, с какого конца зайти в непраздной беседе с отпрыском, Зусак подсобит.
Вот и первый мой Омар-эфир о жуткой истории. Это страшная сказка, дорогие мои взрослые детишечки, здесь зло почти всё время ходит неприщученным и у него, увы, не иррациональное желание убить все живое (это бы полбеды), а очень даже проникнутое своей адской логикой, ложь развенчивается гораздо позже, чем было бы здорово, добрых волшебников нигде не видать, а милых дураков значительно меньше, чем отпетых мерзавцев. И все это еще и, как ни позорно, — из истории нашего с вами человечества.
"Гретель и тьма", да — очередная книга про войну. И про ее старые, глубокие корни — не десяток лет, не два-три, а еще дальше вглубь времени. Грэнвилл, увлекшись изучением немецкого фольклора и первыми коллекциями сказок, собранных братьями Гримм, создала удивительную и яркую интерпретацию этого наследия человеческого подсознания. Здесь уместно будет сказать пару слов об истории этого всемирно известного теперь собрания. В 1810 году братья отправили рукопись одному своему другу на читку. Друг (тоже мне!) рукопись не вернул, и братья решили срочно публиковать книгу — из опасения, что этот так называемый друг издаст ее первым, под своим именем. В 1812 году увидел свет первый вариант Kinder- und Hausmärchen ("Детские и семейные сказки"), в ней было 86 текстов.
Далее книга прирастала и переиздавалась с поразительной частотой: 1814 г., 1819-й, 1822-й, 1837-й, 1843-й, 1850-й... Однако еще в 1825 году братья Гримм под нажимом критиков отредактировали свою коллекцию, чтобы сделать ее... приемлемой для детского чтения. Немудрено: в исходных, "сырых" текстах, собранных по деревням, содержалось такое, что детям не годилось ни тогда, ни теперь — убийства (в т.ч. и младенцев), уродование человеческого тела, людоедство, инцест и многие другие удивительные наклонности человечества, энциклопедия бессердечия и жестокости нашей расы. Грэнвилл вкопалась в литературоведение и психологию народной сказки и попыталась порассуждать, как из сумрачных недр коллективного бессознательного мог возникнуть нацизм.
Сюжет "Гретели" — двойного плетения, две истории ведут нас в параллельных временных пластах: по кромке веков XIX и ХХ и в толще лет II Мировой войны. Мы до самого конца не знаем, как автор будет эту косу повязывать бантом. Нам покажут Вену и первые еврейские погромы, развитие юной психологической науки ее австрийскими столпами, а параллельно — нервный, капризный, смутный мир маленькой немецкой девочки, дочери врача, занятого в интересном лазарете, в разгар войны. Именно это дитя, ее восприятие — наш проводник в земли немецких сказок без всякой редактуры и причесывания. Ее сознание производит для нас голограммы кошмаров, которые не отличить от всамделишных.
Грэнвилл удалось создать сновидческую реальность и предложить нам вариант устройства психики человека, который, с одной стороны, не владеет всей полнотой информации о происходящем и не может, следовательно, обезопасить себя рационализацией, а с другой стороны — и по той же причине — справляется худо-бедно с наступающим ужасом, веря в волшебство и иные нарушения законов физики, Мёрфи и подлости. Дети и беспамятные у Грэнвилл имеют уникальную возможность побега и спасения: невинность ума, естественная или приобретенная, открывает ему врата, невозможные для взрослого сознания, обремененного опытом и непобедимым "это невозможно" и "так не бывает". Впрочем, это лишь одна небольшая прядь в толстой косе романа.
Книга "Гретель и тьма", на мой взгляд, удобна и полезна читательскому уму, потому что а) предлагает множество понятных и постижимых трактовок, все они — довольно однозначные и традиционные, б) хорошо придумана и красиво написана, в) побуждает заинтересоваться психологией народной сказки и всякими рассуждениями и выводами исследователей в этой области, г) предупреждает и напоминает о больном и важном.
Словом, не боитесь затейливых страшных сказок на ночь — беритесь читать.
Процесс жизни предполагает насилие, что в растительном мире, что в животном.
Но среди животных лишь человек способен насилие концептуализировать.
Лишь человеку может нравиться самая мысль о разрушении.
Пол Боулз
Прекрасная новость для ничего не смыслящих (как я) в историческом контексте Международной зоны в Марокко конца 1940-х — начала 1950-х годов: у вас есть уникальная возможность прогуляться в этот диковинный мир и изрядно дополнить свои представления о том времени-пространстве, полученные от кинопамятника "Касабланка" (1942). Но это, понятно, так, милая мелочь.
Роман, которому в этом году исполняется 63 года, наконец вышел по-русски. С таким холодным жизнеподобием сейчас уже не пишут, насколько я могу судить. О, этот объективизирующий, безучастный тон! Его даже безжалостным или, там, жестоким назвать нельзя — так, должно быть, смотрит на нас далекая звезда по имени Вега. Она не огорчается за людей, не злится на них за их разнообразное не всегда комическое убожество, не восхищается их добродетелями и славными поступками. Ей даже не начхать: начхать — это тоже, знаете ли, позиция. Мне неимоверно интересно, каким надо быть человеком, чтобы мочь так писать. Боулз, по свидетельствам современников, не был ни мерзавцем, ни высокомерным гадом, ни психопатом. Это просто такая способность зрения.
Читать роман "Пусть льет" неуютно и, одновременно, это подлинный трип. Старый Танжер, по всей видимости, — место совершенно колдовское, и это ощущение во всей полноте при чтении можно достичь только с помощью именно такой подачи: безразличной, но педантично пристальной.
У нас вновь приключения маленького человека в странных новых обстоятельствах среди диковинных людей и мест. Автор соблюдает поразительное невмешательство в биографии и судьбы своих персонажей: в этом романе нам сообщают о них ровно столько, сколько мы сами в реальной жизни могли бы понять о человеке, понаблюдав за ним недолго и слегка с ним поговорив, не вдаваясь в подробности и без всякой задушевности. Ко всем персонажам в своем романе автор относится откровенно энтомологически — никаких выводов не делает, никак наше к ним отношение не корректирует, ему вообще не важно донести до читателя, как ему все это вообще. В этом, среди прочего, магическая ценность этого текста: в той же мере, в какой внешняя реальность не сообщает нам, как к ней относиться, так же и роман "Пусть льет". И среди персонажей романа я не нашла ни одного, кто мне бы все время нравился. Точнее будет сказать так: все персонажи романа мне почти все время были умеренно противны. Что само по себе удивительный читательский опыт: некого и некому противопоставлять с нравственной точки зрения. Никто не д'Артаньян, никто не в белом, все в разных немарких оттенках. Взаимный ущерб — любого толка — эти немаркие персонажи наносят друг другу так же походя и совсем не всегда целенаправленно, как по эту сторону бумаги. И его в книге много, этого ущерба.
Любая попытка отжать авторскую мораль из этого романа мгновенно будет тухлым литературоЕдением. Какая мораль у апрельской субботы в районе Южного Бутово? Какая мораль у аудиосцены веселых воплей у меня за окном вот сию секунду? Но при этом, дочитав роман до его вполне не фейерверочного финала, я как читатель осталась с подробнейшим и до крайности красноречивым полотном человеческих судеб и решений, мгновенной и отсроченной кармы и удивительной признательностью, что мне совсем ничего не впарили, ничему не попытались научить, не пустили ни единой пылинки в глаза, а поговорили как с человеком, достойным взрослого разговора. Без всякой ко мне симпатии. Да и без антипатии, впрочем.
Что мы можем сказать — поэтически, литературно — о таком природном явлении как, допустим, сумрачный апрельский день, не примечательный ни глазу, ни уху, ни нюху? Вообще говоря, до черта всего мы можем о нем сказать, но любое наше к нему отношение будет этим самым отношением. Оценкой. Применительно к его полезности и живописности или, наоборот, бездарности и облезлости. Проза Буковски, когда я взялась ее лет десять назад читать, стала для меня литературным глазением в окно на ничем не примечательный день. Но — глядите-ка! — "ничем не примечательный" тоже вполне себе оценка, и поэтому она тут не годится. Тексты Буковски таковы — для меня, по крайней мере, — что читать их можно из такого места в себе, куда не ходят гулять оценки. Это вообще возможно? Кажется, да. Такова предлагаемая медитация. Не на прекрасное, не на безобразное. На никаковское. В самом сверхбуддистском смысле слова.
Так, склонив голову набок, смотрит на мир внутренняя сова человека, свободная от высшего образования и эстетических предпочтений.
И поэтому я не могу сказать, "нравится" мне Буковски или "не нравится". Как не могу я, положив руку на сердце, сказать, предпочитаю ли я боярышник шиповнику или ковыль хвощу. Я смотрю на них. Они дают на себя смотреть. Буковски дает смотреть на себя. Весь какой есть. Определенно нравится мне именно это: полное отсутствие рисовки, полное отсутствие попытки изобразить отсутствие рисовки. Буковски — савант-натурист.
Про что "Почтамт"? Про то, как герой Буковски работает на почте, спит, ест, пьет всякую чепуху, разговаривает о чепухе с чепуховыми чепуханами на своей чепуховой работе. Чепуха, а не сюжет, ну ей-богу.
И, дорогой читатель, проскочив, вероятно, недоумение разных сортов, что, дескать, я тут вообще делаю, вы, быть может, впадете в это самое ничем не примечательное глядение — не интересное, не увлекательное, не поучительное, но совершенное, невероятное, — какое мало кто в литературе способен искренне и полностью на вас наплевательски предложить.
Именно. Именно!
Начнем с того, что я счастливо вступила в возраст открытого радостного признания, что я ни черта не понимаю, какого рожна нужно человечеству для полного удовольствия, которое не убило бы само человечество и планету, ныне человечеством населяемую. С этим веселым затактом в уме я и сочиняю этот эфир на "Омаре".
Что мы имеем: начало нулевых, Уилл Фергюсон позволил себе полет фантазии в лучших традициях томящихся книгоиздателей — вот бы взялась книжка, на которой озолотиться, а пото-о-ом... а тогда-а-а... Далее все зависит от нравственных и художественных запросов издателя: курить до конца жизни бамбук, построить дворец на солнечной стороне Исландии, печатать следом только и исключительно лучшие в мире книги, нужные 104 человекам и раздавать их бесплатно, сдать все деньги на благотворительность и т. д. Любой издатель хоть раз в жизни мечтает забубенить бестселлер. Некоторые издатели мечтают, чтобы бестселлером стала книга, которая спасет человечество от всего (ну или хоть от чего-нибудь). Издатель-фигурант нашей книги желает бабла и всё, время от времени нагревает руки на разной марсианской уринотерапии, но не шибко.
Вся каша заваривается, когда такой бестселлер возникает. И не только приносит издателю стотыщмильонов денег, но и... спасает человечество от всего. Бриллиант селфхелпа, нужный абсолютно всем. Объясняющий и просветляющий по всем вопросам. Фергюсон предлагает нам идиллию тотального планетарного ЩАСТЯ. После чего роман мгновенно приобретает детективно-авантюрный облик и далее развлекает нас во все стороны, наглядно и влобовую подтверждая мой изначальный тезис: ни черта непонятно, какого рожна нужно человечеству... ну и далее по тексту. А, да! Рассказчик у нас тоже страшно ненадежный: главный герой — образцово-показательный обсос, да и в целом в книге симпатичных персонажей не наблюдается. Что, несомненно, добавляет тексту цельности.
Это прекрасное развлекательное чтение для любого, хоть с порога нюхавшего издательскую кухню. Это веселуха для всех, кто так или иначе занимался духовным шопингом. Это мысленный эксперимент (не универсальный, но удовлетворительно наглядный) для тех, кому кажется, что он знает, как осчастливить человечество.
Финал, бесспорно, оптимистичен: ни черта непонятно, какого рожна... ну вы поняли. Человечество не спасаемо, словом, с точки зрения Фергюсона, как ни поверни, чего ему ни подсунь. Фиг нам, а не счастье. Только Счастье™. Но вы не расстраивайтесь, спасенный всё же найдется. Роман, я же говорю, оптимистичен.
Сувенир в буквальном смысле слова — от "вспоминать". Женя пять лет назад сделал такую волшебную дверь — строго для детишек 70-х и начала 80-х гг. производства. Это камерная коллекция хорошо написанных историй из детства — написанных на языке, полностью понятном только нам, поколению двух берегов, заставшему в осмысленном состоянии страну до и после 1991-го.
Этот сборник сделается удивительным документом времени через пару-тройку десятков лет, когда события XXI века окончательно затянут патиной те истории, а мы, их носители, примемся впадать в маразм и болтать о своем детстве всякую чепуху. Вот тогда-то наши младшие родственники и друзья призовут нас к здравому уму и ткнут пальцем в ту или другую байку из книги: "Бабуля, не гони. Дед, смотри, что было писано".
Я до сих пор признательна Жене и всем сверстникам, подарившим этой книге свои истории — эти старые банки с вареньем, еще под жестяными одноразовыми крышками с резиновыми кольцами-прокладками, которые один раз отколупнул открывалкой — и всё, крышку можно выбрасывать. Так и здесь: читаешь сквозняком, и вот оно, наше нелепое промежуточное время, как живое.
В прошлом году я придумала нечто, посвященное моему поколению. Оно, мне кажется, прекрасно ложится постскриптумом к этому эфиру:
До конца Кали Юги
поколение Между,
внуки Бойни, дети Дремоты,
зеваки и игроки в Казино Многозальной Шамбалы,
нашедшие темя выхода, потерявшиеся в брюхах,
свободные для и свободные от,
еще помнящие и утешенные
или оттого безутешные,
на середине стоящие,
чего-то для самих себя стоящие,
с полными карманами роскоши
знать о своем неведении,
свидетели преображения информации,
ныряльщики межстраничные,
теперь владеющие аквариумами,
слыхавшие музыку сфер, дисков,
параллелепипедов, нематериальную,
приземлившиеся и улетевшие,
приноровившиеся и не вернувшиеся,
уже завтрашние и уже вчерашние,
отдельные, ненациональные, предгендерные,
средневозрастные, лучшевозрастные,
с прошлым, снабженным будущим,
слушайте:
до конца Кали-Юги все равно
четыреста тысяч лет.
I fart in your general direction.
Monty Python
Как так вышло, что я в "Омар" про эту книгу пишу почти год спустя после старта "Омара", — понятия не имею. Эта нехудожественная книга — одновременно и любимое детище, и личный фетиш, и меморабилия, и ритуальное подношение кумирам, и прекрасная история, и черта лысого в ступе еще чего.
"Воздушный цирк Монти Питона" — недосягаемый идеал телевизионного шоу, революция моего личного ч/ю и эпоха в истории британского (да и мирового) смешного. А фильмы, которые полный метр! А всякие побочные и смежные проекты до, во время и после собственно "Питонов"! 640 страниц многолетней жизни этой восхитительной компании мужчин (и прибивавшихся иногда и ненадолго женщин), с фотокарточками и веселыми глупостями — вот что такое эта книга. По ее мотивам мы собрали даже отдельный сайт на базе "Додо" — с кучей переводов и всякого другого любимого. Ни одного автора я не переводила с такой религиозной оголтелостью (это я про скетчи, саму книгу переводил Макс Немцов, спасибо ему большое).
Для меня самой "Питоны" начались в 1998 году, когда я в лаборатории у первого мужа играла в компьютерную аркаду по "Святому Граалю". Особенно мне запали в душу тетрис "Bring out your dead!" и игра на внимание "Spank a virgin!". В те времена я лишь начала догадываться, что эти четверо англичан, один валлиец и один американец, сменивший гражданство на британское, будут значить в моей жизни.
Когда мы брались за ее перевод в 2011-м, думали, что вот сейчас вкопаемся и узнаем, как они это делают. Они рассказали, как: собрались, потрепались, поржали, разошлись, что-то там почиркали в блокноты. То есть каком кверху, как говорил мой дедушка. Дерево есть совокупность зазоров между листьями. Не объяснить ничем не ограниченную свободу ума, не разобрать на запчасти вкус и чувство меры, не выйдет никакой вивисекции смелости — вернее даже потрясающей борзоты, с какой эти люди творили, что хотели. И страшно, люто пёрлись в процессе.
Однако хотя бы узнать, в каких условиях и обстоятельствах это у них получалось, всё же можно. И, думаю, лишь поэтому они и согласились эту книгу собрать. Про объяснения, разборы и вивисекции они совершенно отчетливо понимали. Читая истории их жизней порознь и вместе, получается взбодриться и оборзеть — разрешить себе хотя бы короткую вылазку в эту свободу: возьмите да посмотрите пару часов подряд любую нарезку из "Питонов" (лучше, конечно, посмотреть всё, что они понаделали, — нам это примерно за полгода плотного изучения удалось) — и хотя бы какой-то осмос точно произойдет: мозги ваши позволят себе кое-какие творческие финты, каких раньше боялись.
"Питоны" — это психотерапия. От рамок, квадратности, уныния и запрещенных тем. Это полет над гнездом бюльбюля.
PS. Кстати, я хочу себе вот такую чашку:

На "Квартет И" я подписана подсажена с 1993 г., когда они в театре-кабаре "Летучая мышь" показывали свой дипломный спектакль "Это только штампы". Мы с мамой сидели — а потом сразу валялись от смеха — в первых зрительских рядах и уже тогда чуяли, что вырастет из этих ребят (если не переругаются) обалденный театр комедии. Так и вышло — вырос.
А потом прошло 14 лет, в течение которых я прилежно ходила на все новые спектакли "Квартета", — и Миша Козырев, которого мы к тому времени осилили издать, сосватал "Лайвбук" в издатели моим любимцам. И мы издали "День Радио/ День Выборов" — с той же чокнутой версткой, какая была в трилогии у Миши. А следом — полный сборник всех шести пьес: четырех оригинальных и двух переработанных.
Делать эти сборники было отдельным большим счастьем — со всеми верстальными приключениями, какие неизбежно бывают на книгах с макетом сложнее "Повести Белкина" без картинок. На мой взгляд, "Квартет И" — по-прежнему лучший, если не единственный вообще, современный комический театр на русском языке, и никто лучше (т.е. умнее, тоньше, изящнее) них комедийные пьесы не пишет и не ставит. "Квартет" давно разобрали на мемы, "защита детей младшего школьного возраста от детей старшего школьного возраста", "доктор наук профессор Шварценгольд", "дальше не придумали, импровизируй", "будем искать пуговицу", "зачем дорогие часы почем зря переводить" и многие другие — неотъемлемая часть речевого оборота и "Лайвбука" (тех времен уж точно), и нынешнего "Додо".
В 2008 году, после выхода первого издания, квартетчики стали кинозвездами в первый раз, а потом — во второй, третий и четвертый, с известно какими фильмами. Но удовольствие от чтения их пьес в том виде, в каком они жили до кино (и живут сейчас) на сцене ДК Зуева, никак не убавилось. И для меня "Квартет И" был и остается именно театральной и драматургической труппой. Посягну на святое: они — ближайшие идеологические братья обожаемых "Монти Питонов". Хотелось бы мечтать о перевороте кино и телевидения их силами, но российский телевизор отлит из мрамора и высечен в бетоне, его не запросто перевернешь.
Прибыл в "Додо" второй Керуак из новой серии "Азбуки" — и вот пишу прямо "с колес".
Тут нужно бы поговорить про много чего.
Про поиски нуль-родины — места, которое на самом деле твоя личная пристань, а не географические координаты роддома и мест в пешем радиусе от него.
Про способность человека обживать необживаемое и ругать его или хвалить как родное.
Про наши бестолковые приятельства, нежные, как цветы в весенних сумерках, и живучие, как сало на манжетах.
Про прелести и ужасы чужой уже случившейся жизни, которые существуют только в наших головах — головах внешних наблюдателей. А в головах, непосредственно живущих это всё, называться это может как угодно — как у Керуака, например.
Про то, что поэты стыдливо складывают в стихи, а Керуак смело достает в прозе — разговоры об отношениях с Б(б)огом того сорта, какие, см. выше, поэты стыдливо складывают в стихи.
Про то, что жизнь может прекрасно обходиться без плана, системы, прогрессий и прогрессов, без линейности, без логики, без пресловутого толка — бес-тол-ко-ва-я может быть жизнь, а мы будем про нее читать и завидовать легкости, с какой некоторые отрешаются от этого самого толка — и тут же его обретают. Но только для себя самих и больше ни для кого.
Отдельно, еще раз: про изумрудную, аквамариновую прямо зависть — бессмысленную и глупую, потому что мы не Керуак — такому вот мировому владычеству Джека, ничем не владевшего обормота и вольника.
И да: моя любимая байка из "Одинокого странника" — "Один на горе". Я почти попробовала, как это, побыв пару дней в глубоком фьорде за Полярным кругом, но а) всего пару дней, б) в компании, а не в одиночку. А Джек попробовал хорошенько.
И пусть все смертные,
любой и каждый,
Живут непревзойденно долго.
Всегда в довольстве полном пребывая,
Пусть не познают даже имя смерти.
Бодхичарьяватара, 10.33
Житейская методичка в стихах, VIII век. Поразительный философский памятник. Буддийская поэзия. Церебральный эспандер. Упражнение на абстрактное мышление. В общем, я всё сказала.
Книга, с которой возишься, — всегда особенная. Книга, с которой возишься долго, — особенная вдвойне. Я не переводила этот текст, но и редакторская работа сроднила меня с ним почти пугающе. Вас нервирует, что это "религиозный" трактат? Не надо нервничать. Читайте это как "Старшую Эдду". Или как "Махабхарату". Это соображения человека, которому горестно глядеть, как все люди подряд маются, особенно как они маются из-за собственной бестолковости и бесчувственности. "Бодхичарьяватара" — селф-хелп, которому уже двенадцать веков. Ну да, стиль изложения соответствующий. Зато это позволяет заново воспринять навязшие в зубах советы по прояснению головы, сформулированные бойким языком ХХ-ХХI столетий.
Сам Шантидева — большой человек в буддизме Махаяны, бодхисаттва, ученый прославленного университета Наланды. Урожденный принц, понятно, как и полагается, а потом монах. Его работы (счетом две штуки — столько сохранилось до наших дней) страшно любит цитировать Е. С. Далай Лама.
Там 10 глав, 1000 строф. Самая зубодробительная глава — "Мудрость". Самая для меня лично полезная сейчас — "Терпение". Самая упоительная — последняя, "Посвящение заслуг". Если собрать волю в кулак, настроиться на неукоснительную внутреннюю дисциплину и честно поступать, как рекомендует Шантидева, можно выносить за скобки любые прочие приемы бесконфликтной коммуникации, обустройства отношений с людьми и остальное людоведение. Некоторым головам хватит одного этого текста, чтобы ревизовать и перестроить все свое практическое мышление в сторону гораздо меньшей (или вообще нулевой) страдательности.
И да: отдельное приключение — читать этот текст вслух, вместе с заинтересованными друзьями, и попутно разбираться, что тут что означает и из чего вытекает. Попробуйте. Это Гран-тур ума. И большая человеческая нежность.
Ищи Истинy,
Если это необходимо,
Hо не забывай
Выносить мyсоp...
Давным-давно, когда в русском языке все слова в речь годились, на обложке этой книги было написано несколько другое название. Оно отходило в сторону от точности перевода, но действовало безошибочно.
Книге этой в переводе лет двадцать, а так-то четверть века. Рам Цзы (он же Уэйн Ликормен) был первым из пересмешников от эзотерики в моем поле зрения — это такие всерьез занятые хорошими полезными практиками люди, которые совершенно не считают нужным пыжиться и надуваться от этого. Потому что, да, турбодухновность семисотого левела с оторванным глушителем (ТД700/ОГ) — вещь в лучшем случае комичная, если глядеть со стороны, и, судя по всему, ворующая у хозяина время и силы (чтобы пыжиться и изображать ТД700/ОГ, нужно много свободного времени, сил и, главное, внимания), а в худшем вредная для него самого ("буду делать хатха-йогу 8 часов подряд без отрыва на пописать и въеду в просветление юзом", а в итоге растяжения, перегрузки и т.д.) и для окружающих (носители ТД700 частенько люди, с которыми трудно вести дела (и формально, и по-человечески), но которые, тем не менее, по целому списку спиритуальных причин их продолжают активно "вести").
Так вот, Рам Цзы сделал сборник стихов, с виду предназначенный для тусовки "эзотеров", — и в 90-е, когда народ еще не определился, дзогченом он будет заниматься всерьез, или в соседнем спортзале "восточным фитнесом", так оно и было. Но вот смотрю я сейчас на эти тексты, столько лет спустя, и с удовольствием советую их всем — и недодвинутым, и пододвинутым, и совсем отодвинутым напрочь к сеням. Полностью додвинутым никакая сансара, включая веселого Рам Цзы, уже ни к чему, но, подозреваю, они и Голос Омара не слушают.
Рам Цзы предлагает нам книгу облом-поэзии — с виду разочарованных, нигилистических виршей про невозможность какого бы то ни было по-(до-)стижения по части духа, и что нам всем прямо сейчас надо половчее устроиться на багажной полке в нашем общем сансар-вагоне, потому что это кольцевая и ехали бы мы вечно, если б это все нам не снилось. Но подходящие-то читатели этой книги быстро это "с виду" раскусят. И деду Ликормену, может, спасибо скажут — за полезные, хоть и кусачие, намеки с прищуром.
No way for spiritually advanced, словом.
[89]
У тебя ясный, спокойный взгляд
Пpаведника.
Ты yмел.
Ты компетентен.
Ты спокоен.
Ты чист.
Ты безyпpечен.
Мама говоpит, что ты — золотко.
Ты знаешь ответы.
Ты знаешь, как обстоят дела.
Ты независим.
Ты свободен от пpивязанностей.
Ты считаешь себя
Победителем.
Рам Цзы знает...
Ты игpаешь,
Пока
Все пpоисходит по пpавилам.
Ты не любишь пyтаницы.
[87]
Такой одyхотвоpенный.
Ты пpезиpаешь силy политической власти.
Такой стоpонник pавенства.
Ты отвеpгаешь силy экономической власти.
Такой миpолюбивый.
Тебе отвpатительна сила военной власти.
Ты ценишь силy энеpгии ци,
Мощь кyндалини,
Силy молитвы и
Силy позитивного мышления.
Ты полагаешь, есть pазница...
Рам Цзы знает...
Эго нyждается в топливе.
[97]
Тебе пpинадлежит любовь Рам Цзы,
Хотя ты не сделал ничего,
Чтобы ее заслyжить.
Тепеpь ты хочешь
Одобpения Рам Цзы.
Тебе не повезло.
__________________________
P.S. Для адвайтистов выходного дня у нас есть еще две книги старика Ликормена: "Просветление — не то, что ты думаешь" и "Путь бессилия". Про качество переводов ничего сказать не могу, но "Нет пути" сделана практически отлично, на мой слух (и с учетом оригинала).
/внезапная рокировка эфиров/
С этой стройной книгой у меня особые отношения: все ее сорок, что ли, удивительных иллюстраций, собранных из всего на свете Евгением Васильевичем собственноручно, я сканировала у себя в кухне в сумрачном начале 2009 года — да так, чтобы и а) отсканировалось качественно, и б) ничего не помялось и не сплющилось, потому что там же аппликации с кучей предметов, а вот так разглядывать сиюминуты умеют только художники и поэты.
Евгений Васильевич, понятно, учитель. И по профессии сейчас, и вообще, и мой, и еще кучи людей — не одного поколения. И учитель настоящий — потому что он сам хорошенько и с удовольствием помнит, кто научил всему его самого. Эту книгу танцующих, точнейших стихов здорово читать вслух детям любого возраста, потому что от этого у детей любого возраста зеленеет и покрывается цветами два главных чувства здорового человека: чувство красоты и чувство признательности. Остальные пять чувств обслуживают эти два.
Евгений Васильевич, начисто свободный от назидательности, рассказывает нам в рифму о разных удивительных наставниках, которые учат нас — без всяких оценок в дневниках, без экзаменов и выволочек у завуча — всему незаметному и незаменимому в жизни: как рисовать загогулины, оттаивать кружки на стеклах, вынимать занозы, облизывать марки и еще о трех десятках навыков, которые мы принимаем как должное. А зря. Поводы сказать спасибо имеет смысл не упускать. Это не только абразив для кармы, но и самое чистое и бесплатное удовольствие.
И да, не без цитаты. Это финальное стихотворение (простите за спойлер), но я под него сижу с мокрыми глазами, и в сотый раз читая:
Учитель расставания на миг
Джульетта Карауловна Рудник
учила расставанию на миг:
«На дольше – никогда и ни за что!» –
она внушала, кутаясь в пальто,
с которым ни на миг не расставалась.
А мне казалось, миг такая малость,
что я бы мог бы – даже не учась –
на полчаса расстаться или час!
Но, кутаясь в ежовый воротник,
Джульетта Карауловна Рудник
всё повторяла, повторяла,
что целый миг – это немало:
что за один всего лишь миг
устаревают буквы книг,
меняется порядок чисел –
и ты, беспечный ученик,
вдруг сам становишься – учитель.
Дорогие любители семейных саг в пяти поколениях! Рекомендую вам семейную сагу в пяти поколениях. Про летчиц и птиц. И потерянных героических родственников. И про скелеты в шкафу. И про бзиканутых дам в интересных нарядах с интересными привычками.
Я эту книгу переводила, и отношение у меня к ней, понятно, особое. По-моему, это идеальный подарок любой маме на 8 марта. Это текст про все фасоны и разновидности женского, как мы его себе понимаем, с толстым довеском в виде работы с архивами, которую проделала Флэгг, собирая материалы по американским летчицам Второй мировой. По этой книге можно было бы снять идеальное кино про малюток-воительниц. И там есть хорошие шутки.
Флэгг, вообще-то, не столько литератор, сколько сторителлер, а просто качественный рассказ баек древнее литературы, т.е. качественного рассказывания баек с балясинами, фестонами, бубенцами и пиротехникой. Время от времени экологично и отдыхательно просто слушать историю, особенно когда рассказчик, благоухая южными лимонами и фрезиями прямо вам в лицо, страшно увлекается сам, отступает влево-вправо, размахивает руками и вращает глазами. Представлять себе, читая, как автор докладывал бы вам написанное устно, — отдельная приятная гимнастика для воображения.
И да! Книга снабжена моей любимой категорией персонажей — диковинными старушками! Их там целая шайка, и автор щедро знакомит нас с ними, когда они еще были юными красотками, и пролететь над их жизнями на мультяшном биплане, увидеть их оооочень старыми, но не менее (если не более) чудесными, чем в юности — очень утешительно. И вашей маме точно понравится.
Этот эфир будет кратким — практически как джингл. Если вам понравился церебральный луна-парк Леонарда Млодинова "(Нео)сознанное" и вам ее не хватило для правильной концентрации эвристики в организме, догнаться можно этой книгой. Она в два раза толще Млодинова, есть чем поживиться.
Очень в общем это все та же феноменология человеческой головы — ну и чуточку всяких лабораторных зверей, у которых тоже есть голова. Канеман — Нобелевский лауреат по... экономике (2003 г.). Это он начал разрабатывать психологическую экономическую теорию, хотя сам — исключительно психолог и ни разу не экономист по образованию. Что не помешало, а, подозреваю, помогло.
Канеман в этой книге разговаривает почти исключительно про эвристику, т.е. аккурат то, что мы любим: про наши неидеальные, но годные в заданных условиях выборы и решения. Про неидеальные, несовершенные пути решения разных бытовых и не очень бытовых задачек и про то, как люди применяют эвристические методы, понятия не имея, что они их применяют.
Предупрежу: Канеман гораздо дотошнее, детальнее и подробнее Млодинова. Людям со встроенной читательской егозливостью будет непросто. И вооружитесь карандашиком и разноцветными стикерами — очень поможет подчеркивать и обклеивать. Если вы готовы прожить пару недель в близкой обнимке с этим изданием, вашей голове на выходе будет очень по-другому. Мне такая моя голова интересна. Думаю, вам тоже понравится.
И вот еще что: в оригинале книга называется Thinking Fast and Slow, что несколько не то же самое, что в русской версии. Делайте на это поправку.

(Капитан, очевидно, маленький и синий. Птеродактиля на картинке зовут Деус экс Макина, для друзей и коллег — Мак.)
Короче, так. Законы земной физики и логики (избирательно и непредсказуемо) отменяются. Вменяются законы абсолютной, ничем не сдерживаемой вакханалии воображения. Можно всё, запреты запрещены. Это коллективный здоровый сон всех детей этой планеты. Это "Автостопом по Галактике", только очень low-tech. И Вальтеру Мёрсу хватило одного континента, чтобы и самому, и всем своим тысячам читателей перемкнуть напрочь все синапсы, отвечающие за "так не бывает". Вспомните самого странного, красочного и невообразимого персонажа какой-нибудь своей грезы. Получилось? Прекрасно. Тут такой точно водится. Добро пожаловать в Замонию.
Замония — континент, вписанный в земную географию, но местным есть дело до всего остального мира настолько же, насколько жителям южной оконечности южного острова Новой Зеландии. То есть примерно никакого дела им нет. У них на континенте своя невероятно насыщенная жизнь, и мы смотрим на нее глазами синего медведя, который не очень понятно откуда народился, но впервые осознал себя в открытом море в ореховой скорлупке, а имя Капитан Синий Медведь ему дали Минипираты, подобравшие его на краю самой большой на свете сливной дырки мирового океана (который, как потом выяснилось, отверстие в пространстве-времени, что стало понятно по сильному запаху генффа вблизи дна этого отверстия (почти невозможно его описать, этот запах, но когда его чуешь, сразу знаешь — генфф)).
У Капитана Синего Медведя 27 жизней. Он не поленился рассказать нам о 13,5. Я бы с наслаждением прочла и про оставшиеся 13,5, а также о любом количестве следующих и предыдущих инкарнаций. Первую жизнь Кэп провел с Минипиратами в бурных морях, вторую — с Хобгоблинами на их острове, третью — на плотике в открытом море и на спине у морского чудовища Тираномёбиуса, четвертую — на Гурманском острове, пятую — в разъездах (разлетах) на Маке-спасателе (см. фиг.), шестую — в Темных горах в подгорной академии у гения-профессора-ноктюрномата Абдуллы Соловья (у высших ноктюрноматов семь мозгов, не все из них — головные), седьмую — в Великом лесу с Паук-ведьмой, восьмую — в пространственной щели и в 2364-м измерении, девятую — в пустыне Демерара с маггами (которые едят только грибы и все время от этого смеются, но при этом ищут мистический город Анагром Атаф), десятую — Торнадо-сити (город внутри постоянно действующего торнадо), одиннадцатую — внутри головы Мегаболлога, двенадцатую — в Атлантисе, самом великолепном и невозможном городе континента, тринадцатую — на борту адского "Молоха", корабля, на котором с удобством разместилось бы несколько небольших городов, тринадцатую-с-половиной... не, тут не скажу.
Мёрс — сумасшедший ненормальный псих, которому начхать на законы уже помянутых физики и логики, у него все своё. Он пишет книги, рисует, иллюстрирует и вообще живет свою 57-летнюю жизнь, мне кажется, раз в 57 интереснее большинства из нас. Потому что у него, как уже было сказано, всё своё — целый континент всегда при нем: про него Мёрс написал семь книг, я прочитала полторы (следующая — приключения Румо, волпертинга, это такой гибрид оленя с волком), планирую прочесть вообще всё, что есть по-английски, и таким способом надеюсь заслужить вид на замонийское жительство. Хотя бы церебрально.
Фанатам Дагласа Эдамза эта книга к прочтению вообще обязательна. Весь Мёрс обязателен, я бы даже сказала.
Мёрса у нас издавали мало, "Кэпа Синьку" (я бы переводила так) — в 2007 г., тиража не сыщешь, у нас один (!) экземпляр, берите немедленно. Скажу сразу: я читала на английском, и великий и ужасный Джон Браунджон, маэстро перевода с немецкого на английский, подарил мне Мёрса в том виде, от которого я тут уже четыре абзаца умираю от восторга и 800+ страниц которого я вчитала в себя дней за десять при полной прочей занятости. Что происходит в русской версии "Кэпа" — не ведаю. Но, думаю, там годится.
Начнем с вульгарной метафоры. Возьмем ремесло изготовления галош. Некоторые мастера галошетворения создают галоши невероятной красоты и изящества — до того изощренные, что даже не сразу понятно, что это именно галоши, а не, скажем, форма для кекса. Бывают галоши, которые переживут нас с вами и перейдут по наследству нашим отдаленным правнукам, и те успешно осуществят высадку на Плутон в этой обуви, и обувь этого практически не заметит, хотя эстетическая ценность этих галош асимптотически стремится к нулю, но она нам в галошах и не важна, вообще говоря. Нам важно, чтобы галоши не пропускали воду и гнулись везде, где нужно. Вампирская трилогия Кристофера Мура — скорее второе: это практически идеальный сторителлинг, красивости в котором появляются исключительно в порядке обслуживания истории, чтобы нам было еще увлекательнее.
Мур — великий (и плодовитый, спасибо ему большое) мастак изобретательного рассказывания. А изобретательная история — опыт, который моему читательскому уму дарит в изобилии то, ради чего я вообще читаю художественную прозу: свободу и подвижность. Умнее и лучше (тм) я (может быть) делаюсь благодаря нехудожественным книгам — научно-популярной литературе, мемуарам, истории, литературоведению и всякой эссеистике. В прозе же я ищу свободы полета и оцениваю качество прочитанного романа, по сути, по двум шкалам: насколько ловко и влюбленно мне рассказали историю. Ловкий рассказчик — инструктор ментальной аэробики: после слушания или чтения ловкой истории я сама могу больше всякого вообразить, придумать и освоить в реальности. Влюбленный рассказчик — инструктор ментального принятия: после слушания или чтения истории, в которую рассказчик влюблен, я сама могу больше всякого принять в реальности.
Комические — ну, временами трагикомические — вампиры Мура подарены мне и ловко, и влюбленно. Я люблю вампирски-комический Сан-Франциско в красках Мура, мне нравятся все его обалдуи и охламоны, мне нравится, как он делает мне смешно. Вампиры вообще благодатный материал: всякий автор, берясь за эту тему, вытворяет, что хочет и лепит себе вампиров на свой вкус. У Мура, на мой взгляд, подход к этому снаряду оказался крайне удачен — и Мур совершенно не стесняется довести тему до органичного абсурда. Киношникам пора для разнообразия завязать с байронической томностью упырей и снять вампирскую комедию по книгам Мура. Хорошо получилось бы у Джосса Уидона, мне кажется.
"Изверги-кровососы. История любви"
"На подсосе. История любви"
"Выкуси. История любви"
Есть поразительная разновидность людей, которым я одновременно по-хорошему крепко завидую, у кого осторожно учусь и чьей судьбы иногда опасаюсь. Это люди, которым уперлось. Скэтмену Джону (Джону Полу Ларкину) с тяжелым заиканием уперлось петь и чувствовать себя свободно в устной речи — и ого-го как удалось. Дислексику Эдди Иззарду уперлось быть артистом стэндапа — и ой как получилось. Джулии Кэмерон хотелось писать, и теперь это приказ — не только ей самой, но и всем, до кого она может докричаться.
Я к этому автору имею отношение уже 10 лет: в "Лайвбуке" при мне вышло две ее книги, а вот сейчас — и третья. У Кэмерон увлекательная творческая биография, в которой — благодаря ей же самой — по-моему, не осталось ни единого белого пятна. Кэмерон — удивительная тетка. Я видала тексты самых разных наставников по письму, но мало кто сравнится с Джулией нашей Б. Кэмерон в пылкости желания писать. Желание это, судя и по тому, что она пишет, и по тому, сколько и в скольких жанрах, близко к религиозному.
Джулия Кэмерон носится с писательством, как с писаной, простите, торбой. Это может бесить, вызывать недоумение и восхищать — одновременно. Однако упертые люди владеют неким секретом, который вроде как Полишинеля секрет: чтобы добиться, надо долбиться. Нет, это не закон природы, да, есть масса примеров, когда все легко и просто. Но фокус в том, что упертым людям нравится сам процесс — не меньше результата.
Третью книгу, "Право писать", я редактировала в переводе и потому знаю этот текст как облупленный. Упертая Кэмерон пишет для упертых: ее книги без толку просто читать. По ним надо долбиться. А чего вы хотите? Человек делится тем, на чем сам с наслаждением сожрал стаю собак, диких и одомашненных. Кэмерон — это задачники по письму. "Право писать" — не исключение. И сама я, и много кто еще различает разновидности письма, которых следует, что ли, стесняться: терапевтическое письмо, графомания, письменные экзорцизмы и пр. У Кэмерон же к письму отношение антично-бесстыдное: нет и не может быть в письме ничего неприличного, письмо призвано убить всех зайцев — и научить, и вылечить, и развить, и развлечь, и создать коммерческий продукт, и посягнуть на что-то такое, что, быть может, останется в веках. И благодаря священному огню упертости, нагревающему строки Кэмерон, я не готова с ней спорить ни по одному пункту: цельность — шар из инопланетного плексигласа, который можно только потерять, но никак не разбить. Именно поэтому я не готова даже критиковать ее собственный литературный стиль, пусть он, на мой слух, и небезупречен, что совершенно не важно. Это же практически чревовещание. И я обожаю блаженную императивность ее текстов.
Хотите огня и пламенной, чистой поддержки в словесном творчестве — читайте Кэмерон. Любую книгу.
Пересказываешь кому-нибудь Керуака всегда в точности с тем же ощущением, с каким описываешь жизнь и невероятные приключения кого-то из друзей-шалопаев и оболтусов. От этого Керуак, и близко не моего поколения человек, делается практически родственником, хоть и бедовым. Да-да, нам известно, что легкость керуаковского "спонтанного письма", с виду — ну чисто блогерства, — штука обманчивая: Керуак, говорят, чтобы добиться этого эффекта речевого ручья, этой стиховой фонетики, этого журчания, тетешкал слова и так, и эдак, и привольный грохот его телег — тщательно продуманная и исполненная музыка.
Чтение Керуака — разговор с братом, который умиляет, бесит, возмущает, чарует и развлекает одновременно. Он — сама жизнь, безалаберная, очищенная от иллюзий осмысленности и при этом искристая и совершенно достойная разглядывания. "Сатори в Париже" — балаболистый путевой дневник более-менее бесцельных шляний нашего братца Джека по северу Франции, как обычно без всяких усилий примирение буддизма и католицизма в отдельно взятом человеке, мальчишеские национальные обобщения, синусоиды настроений изо дня в день и полное бытовое бесстрашие. "Тристесса" — куда более мучительный и грустный вздох, посвященный нищенской Мексике и женщинам.
Керуак — прекрасный пример того, как автор не хочет нам ничего сказать, он хочет поговорить. Не подстраиваясь под собеседника, не защищаясь, не пытаясь выглядеть неуязвимым, шибко умным или наоборот делано наивным. У Керуака, мне кажется, нет приемов — он сам весь целиком есть литературный прием, вся жизнь — один сплошной прием. Ричард Хьюго в одной своей статье подарил мне восхитительный образ — to live amateurishly, "жить по-любительски". Керуак — профессионал любительской жизни. Для меня это и есть вершина бесшабашности и дарения — живя так и записывая это, он принес этот жизнелитературный метод нам в дар. Хотите — берите, не хотите — как хотите.
Поколебавшись между Блейком и Славой Сэ выбрала сантехника. Потому что сейчас нам необходимо по утрам не только чистить зубы, умываться, заходить в тубзик, но и сразу следом ржать по 1,5 минуты — в целях профилактики умственного и психического здоровья. Далее можно продолжать день традиционно, т.е. жить жизнь, повышать носкость себя-колбасы, ошалело поглощать центнеры попкорна, глядючи на номера в нашем оруэлловском шапито и вдыхать неповторимую смесь газов "цайтгайст", чтобы много позже в разных ситуациях можно было со знанием дела говорить "Тю! Вдыхали мы таки-и-и-ие цайтгайсты, по сравнению с которым этот...".
Так вот. "Сантехник..." вышел летом 2010 года, и вокруг него случилась острая нескольконедельная истерика, памятная старикам "Додо", потому что в таких количествах и с такой скоростью у нас выносили мало что за историю существования. Жанр бумажного ЖЖ лично мне дорог и мил, потому что книгу мне читать не в пример удобнее и слаще, чем монитор, и к тому же добрые редакторы, готовя тексты к публикации, обустраивают их для чтения подряд без всяких отвлекающих панелек, кнопочек, чужих комментариев и прочих неизбежных рюшей блогосферы. "Сантехник..." — житейские записи латышского блогера Славы Сэ. Я уже сообщала, как высоко я ценю смешное, сделанное сразу по-русски, потому что а) его исчезающе мало (и это предмет отдельной развернутой спекулятивной телеги о "загадочной русской душе" (тм), в которую я вас втаскивать не планирую), б) я дорожу тем немногим смешным, что с телеги о "загадочной русской душе" (тм) упало и развлекает меня. В целом, развлекаться об чтение (а не совать голову в ментальную точилку в виде книги, что я склонна делать 90% читательского времени) для меня означает "ржать над текстом".
Слава Сэ — гений, вот что хочу я сказать. Разновидность безупречности по части подачи смешного на современном русском языке и материале. И зрения на смешное. Есть у нас еще Дима Горчев (сейчас уже — только в виде текстов, увы), Лора Белоиван (и в текстуальной, и в телесной фасовке, пусть ей будет сто лет здорового румянца), Рома Воронежский и Андрей Кнышев — и, пожалуй, всё. Но Рома не писатель, говоря строго, Кнышев — тоже. Классику не трогаем (даже МихалМихалыча Жванецкого), с ней и так все понятно. Берем последние лет тридцать. И в этом временном слое Славин гений — другой, чем у Димы или у Лоры — по-прежнему делает мне смешно. А! Есть еще Лео Каганов и Евгений Шестаков, но Лео я читала мало, Шестакова еще меньше — оба раза потому, что это мне не очень смешно.
Цитат не будет — мне придется перетащить сюда все триста с небольшим страниц этой некрупной книги. Но вы все же поприкладывайте ее к голове. Там улучшится.
Изданная-переизданная, трижды англо-индознаменная, учитанная и усмотренная не одним поколением до дыр, моя личная "Книга джунглей" ("Маугли", пер. Нины Леонидовны Дарузес, иллюстрации Владимира Моисеевича Шубова) — 1977 года производства, издательство "Детская литература". Купили ее, когда мне не исполнилось еще и пары лет. Я сейчас объясню, почему все это имеет значение.
С текстом знакомы, думаю, более-менее все читатели "Голоса Омара", но давайте по порядку. Во-первых, посмотрите на обложку:

А теперь посмотрите на картинки:



Когда дорвалась до этой книги, читать я, понятно, не умела вообще, и примерно с год просто разглядывала картинки, а потом мама решила, что комбинация "пластинка+книжка" — то что надо, и принялась мне читать, а когда мамы под рукой не было, я слушала проигрыватель и смотрела иллюстрации.
Надо ли говорить, что помимо теории выживания в экстремальных условиях, возможностей молниеносного взросления и мужания, если вокруг сплошь доброжелательные медведи, томные пантеры и умеренно пакостные приматы, а также двусмысленные пресмыкающиеся, вариантов выходов из сложных жизненных ситуаций, это издание подарило мне здоровое первозданное восприятие биологических тел и их пластики, первого дыхания упоительной надполовой эротики и вообще телесной свободы? Счастье, что дореволюционные "Мужчина и женщина" попались мне несколько позже, и слепок человеческой анатомии в моем сознании — Шубовский, а не вот эта унылая вивисекция, которую нам предлагает медицина. Античное искусство, кстати сказать, живым мне в детстве тоже не казалось — из-за лысых глаз статуй, а в живописи мне не хватало ветра: казалось, людям на фресках и картинках потно и душно, не спрашивайте, почему.
Эта книга — мой первый воображаемый поход в Индию, которому суждено было впервые состояться через 22 года после прикосновения к этому изданию. И она была там со мной, во мне.
Танец, которым я по-всякому увлекалась последние лет 30, состоялся в моем сознании благодаря этим картинкам.
То, как и что я пишу о взаимодействии человеческих тел, пропечатано этими контурами, этими изгибами, этой игрой тьмы и белого.
Я, словом, благодарна до неба духам полиграфии за эту книгу — она в психоаналитически непостижимой степени сделала меня тем, что я есть как человеческий детеныш, женщина и костно-мускульный болид, оборудованный мозгом.

Не очень понятно, что эта книга в русском издании делает в серии "Философия" — поскольку вообще-то это увлекательная возня со всякой интересной современной социальной статистикой в отдельно взятых США, по большей части, — ну да ладно.
У меня такие тексты проходят по любимой категории "Факты, примиряющие с реальностью". Марк Пенн служил в администрации Клинтона по части соц.исследований и вообще занимается этим всю жизнь. Но эта его книга посвящена не всякому такому, что и из общей логики понятно, а интересным, статистически подкрепленным наблюдениям за контр-интуитивными и малозаметными явлениями в обществе, представленными примерно 1% населения. Пенн именует их микротрендами (или микротенденциями, в переводе на наш). По мнению Пенна (и судя по некоторым уже свершившимся событиям) этот самый 1% — не баран чихнул, как может показаться, а нечто, красиво и изящно, как эффект Ребиндера, меняющее картинку действительности. Практический интерес во всем этом деле, понятно, есть политикам и маркетологам, но кто может запретить нам, пытливым донам, совать свой нос в эти поразительные тихие омуты?
Всем известно, что средняя продолжительность жизни гарцует ближе к 80-90, экстерьер сохранять интересным все доступнее, онлайн-общения — залейся, людям совсем необязательно жениться и плодиться, чтобы выжить, стимулировать соображалку можно все большим количеством легальных способов, на работу ездить (и работать на ней всю жизнь, не слезая с табурета) не требуется, а глобус сжимается до размеров брюквы. Да! Но у всего этого есть любопытнейшие — и не всегда очевидные — следствия, которым и посвящена эта книга.
В оригинале она вышла в 2008 году (по-русски — в 2009-м), и в нее можно играться — начиная с сейчас и потом мы еще поглядим, — сравнивая реальность и некоторые прогнозы, предложенные Пенном в части развития этих самых микротрендов.

Майкла Мартоуна на русский язык переведено текстов ровным счетом одна штука: в сборнике авторских фантазий на тему мировых сказочных эвергринов "Папа сожрал меня, мать извела меня". Больше (пока) ничего нету. У Майкла Мартоуна накоплено несколько сборников литературоведческих лекций и рассказов и еще нескольких книг, которые (скучно) можно было бы назвать "романами в рассказах" ну или какой-нибудь "лоскутной прозой". Постмодерном каким-нибудь можно было бы назвать. Это все не важно.
Вот эта его книга — тоже сборник, формально говоря. Сборник пятидесяти справок об авторе, каждая предыдущая — справка об авторе остальных последующих. Все они пятьдесят раз знакомят нас с личной и творческой биографией Майкла Мартоуна, которые, марсиански говоря, — пятьдесят разных людей. Вообще разных. То есть не один, скажем, весельчак все время, а второй — только иногда. А один весельчак, а другой, наоборот, — бейсболист и одновременно писатель. Объединяет всех этих людей только то, что они родились в Форт-Уэйне, Индиана. Все остальное — свернутые в голограмму (которая, как известно, содержит в каждой своей точке всю себя) истории детства, юношества, зрелости и старости совершенно разных людей. Но — не могу вам объяснить как, но уверена, вы это с легкостью предположите по себе, — все они Майкл Мартоун. Или вы лично.
Вы же хотели бы себе пятьдесят разных биографий разом? Ну и вот.
Все пятьдесят биографических справок, как и полагается в этом жанре, — вроде как смесь сентиментального формализма, отчужденности энтомолога (о этот запах энтомологического любопытства биографов, не испытывающих испепеляющей страсти к своим описуемым!) и... мечтательности, с какой медиум вещает волю настоящего или воображаемого привидения. Но Мартоун мечет, как дротики, такие промытые, чистые от залапанности сантименты, такие горестно-прекрасные наблюдения Протея за самим собой, что хочется немедленно разрешить себе иметь не пятьдесят, а даже сто биографий. И решительно и безвозвратно сойти от этого с ума. Пятьюдесятью, нет, сотней разных способов.
 Это дразнилка, друзья: книга выйдет в "Лайвбуке" примерно к Новому Году, ебж.
Это дразнилка, друзья: книга выйдет в "Лайвбуке" примерно к Новому Году, ебж.
Переводила ее я, а полностью отрисовала неимоверная Эя Мордякова. Макет достоин отдельного воспевания, и я могла бы выкатить текст, полностью посвященный этому шедевру макетного зодчества, но вам же надо тогда разворотов навалить, чтобы я не описывала вам вкус апельсина, щелкая пальцами и вращая очами, но издатель уже спит, и спросить разрешения на вываливание мне не у кого.
Поэтому буду докладывать про текст.
Его чуть-чуть — потому что это вдохновительная речь Геймана 2012 г., адресованная студентам Филадельфийского университета. Оригинальный дизайн творил Чип Кидд, но, верьте на слово, русскоязычную версию на порядок проще читать, чем исходник: Чип Кидд удизайнил ее до полного превращения в арт-объект, не предназначенный ни для чего, кроме разглядывания под разными интересными углами. Ну еще можно слушать на "Ю-Тьюбе" Геймана и держаться за книжку — для дополнительного тактильного переживания. А у Эи получилась-таки книга для чтения. Но, хотя прочитать ее можно примерно минут за двадцать, разглядывание этого издания с легкостью растягивается на вдвое дольше — такое оно чарующее.
Что же до текста, то Рафаэль наш Леонардович ибн Нил Гейман, прекрасный и истошно плодовитый во всем до такой степени, что это просто неприлично, подарил нам чудесный маленький талисман на созидательность и придумывание, на смелость и фантазию, на творческий отрыв и угар. Гейман все 184 страницы (книга у нас будет билингва, все по-взрослому) рассказывает кое-что о своих скитаниях по терновым кустам, советует, как ловчее по ним лазать, а также на все голоса дает одну простую рекомендацию, которую многие из нас интуитивно применяют и так, но еще разок прочитать ее глазами на бумаге — сплошь польза: во всех случаях, при любой аварийности, — создавайте что-нибудь.
Эту книжечку я лично положу так, чтобы ее было видно с рабочего места, и стану об нее греться в минуту психологической недоделанности и воображенческой непрухи. Чего и вам — положить книжечку, а не недоделанности и непрухи, — от души желаю.
Ожидайте, в общем, к Новому Году эту полиграфическую шоколадину.
Есть немало людей, которые умеют рекомендовать такие книги другим людям. Я не умею. Это тяжелое, горячечное чтение. От него делается трудно и сумрачно. Любое честное чтение — труд, а такое — прямо пахота. Книга Светланы Алексиевич — блистательная, на мои ухо, глаз и мозг, эссеистика, богатая на стили и формы, на слух и зрение, на способность преданно записывать за живыми людьми, не вмешиваясь, не судя, не оценивая, — давая сказать.
Советские и постсоветские дети читают эту книгу очень по-разному, мне кажется. Да-да, я знаю, что это часть цикла книг, эта — последняя в цикле. И Светлана в послесловии сообщает, что о любви и смерти — т.е. о том, что дальше, — расскажет в следующих книгах. А пока есть оно, время секонд хэнд, то, что досталось нам, обитателям "после 1991-го". Донашивать прежде пошитую жизнь до полной ее физической негодности. А в наших климатах эта одежда уже давно не то что не радует — ни красоты, ни сугреву от нее.
Жутко, страшно, больно это читать. Совершенных откровений я не ожидала (и не получила), скорее набралось сколько-то подтверждений уже читанному и усвоенному: нас, советских людей, родили сюда с целью (по умолчанию) героически умирать, а не жить. Что никакой смысл существования, кроме преодоления и превозмогания, не тянет на смысл. Что "боги мелочей" тянут на богов только в порядке краткой интермедии между трагическими актами. Алексиевич удается воздерживаться от патетики, любого цвета, в любую сторону, и за это я ей как читатель неимоверно признательна. Она — почти "честный свидетель", в белой тоге, по Хайнлайну. Она ухитряется не отнять надежду — но и не подарить ее. От этого все же мне мнится просвет между облаков. И именно поэтому я рискую рекомендовать эту книгу.
С этим человеком прошло все мое детство, и он слился с моим отцом, потому что папа разговаривал его словами, фразами, целыми абзацами. Годам к шести я научилась цитировать Михалмихалыча страницами, почти ничего не понимая в произносимом, но приводя в щенячий восторг компанию родителей, а также праздных отдыхающих на пляжах Сочинского района, где я демонстрировала впитанный материал, стоя на камушке в одних трусах. Уже тогда, понимая только слова, но не их совокупный смысл, я решила, что вот это и есть настоящий русский язык — и настоящий юмор. Пересмотру это решение не подлежит до сих пор.
Я никогда не была в Одессе. Но она, Одесса, у меня есть — в лице чрезвычайного и полномочного посла ее, Михалмихалыча.
Некоторые читавшие что-то — или всё — из этого пятитомника говорят, что читать это неправильно и неудобно, что Жванецкого можно и нужно только слушать. У меня нет никаких проблем с его текстами — я не могу его не слышать за буковками. Даже те миниатюры, которых в моих ушах нет.
В этом жанре не было и нет никого даже близко подошедшего по чистоте и точности высказывания, и в том числе поэтому Жванецкого можно читать с бумаги — думаю, даже тем, кто никогда его не слышал, хотя представить себе такого человека (половозрелого возраста) я в русскоязычном пространстве не очень в силах. Это блестящий русский стенд-ап, двойного действия: Эдди Иззарда, при всем моем обожании, я не представляю в написанном виде, равно как и Дилана Морана. Да даже и Робина Уильямза. Михалмихалыч — цейссовской наблюдательности публицистика и, на мой взгляд, едва ли не идеальный документ эпохи (tm). Потому что в нем — в отличие от громадного пласта русскоязычного людоведческого нонфикшна о второй половине ХХ века, выполненного в жанре горестного вздоха, — есть то, за что все мы, по-честному, любим написанное слово: надежда и смех. И поэзия.
Дар
Это дар тебе от Бога...
Ты себя им можешь поддерживать и защищать.
Он освежает тебя.
Он вылечивает тебя.
Он делает тебя независимым.
Я не знаю, заслужил ли ты его.
Все, что ты приобрел и достиг, не стоит того, что имеешь с детства.
Через тебя говорят с людьми.
Тебе повезло. Ты сам радуешься тому, что говоришь.
Ты понятен почти каждому.
А кто не понимает, тот чувствует, и чувствует, что не понимает.
Перестань переживать и сравнивать себя.
Или переживай и сравнивай.
Ты и сравниваешь, потому что не понимаешь дара.
И не понимай.
Господи! Как ты проклинаешь свою мнительность, впечатлительность, обидчивость, ранимость.
Как ты проклинаешь себя за вечно пылающее нутро. Эту топку, где мгновенно сгорают все хвалы и долго горят плохие слова.
Как ты проклинаешь память, что оставляет плохое.
Как ты проклинаешь свое злопамятство, свой ужас от лжи.
Ты не можешь простить малую фальшь и неправду, а как людям обойтись без нее?
Ты же сам без нее не обходишься...
Как неприятен ты в своих нотациях и поучениях.
И как ты сражен наповал ответным поучением.
Как ты труслив в процессе и неожиданно спокоен у результата.
Как ненавистно тебе то, что ты видишь в зеркале.
Ты все время занят собой.
Ты копаешь внутри и не можешь перекопать.
Существует то, что волнует тебя.
И те, что волнуют тебя.
Ты так занят этим, что потерял весь мир.
Ты видишь себя со стороны.
Ты слышишь себя со стороны.
Ты неприятен окружающим, который достается результат этой борьбы.
Ты внимателен только к тому, что нужно тебе.
Ты вылавливаешь чужую фразу или мысль и не можешь объяснить себе, почему именно ее. Как гончая, как наркоман, как алкаш, ты чуешь запах чьей-то мысли.
И ничего не можешь объяснить.
Ты молчалив и ничтожен за столом.
Все охотятся за тобой, а ты охотишься за каждым.
Но ты профессионал.
Они не подозревают, что твои одежды сшиты из их лоскутов.
К тебе невозможно приспособиться - ты одновременно приспосабливаешься сам. Перевитое вращение червей.
И этого требуешь.
И это ненавидишь.
Ты издеваешься над глупостью, над жадностью.
А кто сказал тебе, что это они?
И кто может существовать без них?
Ты их распознаешь по своему подобию.
Ты передразниваешь собеседника вслух, делая его врагом.
Ты уверен, что разгадываешь обман, от этого обманут и бит сто раз на дню.
Тебе забили рот простым комплиментом и всучили, что хотели.
Не зная, что из всех этих несчастий выгоду извлекаешь ты.
Весь этот ужас дает тебе возможность писать и волновать других.
И весь этот ужас люди называют талантом.
Весь этот ужас переходит в буквы, представляешь!
Просто переходит в буквы, которые передают только то, что могут.
И вызывают ответы.
Хорошие сгорают мгновенно.
Плохие горят долго, сохраняя жар в топке, называемой душой.
PS. Автор - единственный, кто может стать лучше, прочитав это!
— Ты чего за голову держишься, Миллигэн?
— Мигрень.
— Тады близко не подходи, — предостерег Фоггерти. — Не хочу подцепить.
Мне нужны ваши руки! Я не вижу ваших рук! — кричу вам я, ибо эту повесть (мини-роман) я алчу а) видеть на русском, б) дарить друзьям, родственникам, незнакомцам разной степени симпатичности — и даже людям, которых тошнит от одного взгляда на меня.
Потому что эта повесть (мини-роман) а) смешная, б) гипнотизирующе изобретательная по части языка, в) людоведчески гуманистическая, г) про ирландцев, д) злободневная (пардон), е) смахивает на Флэнна О'Брайена, ё) в лучших традициях мировой литературы автор здесь в открытую препирается со своими персонажами, и персонажи его не ценят и не слушают, ж) в ней есть фраза "Up she stood... Down she sat".
Кавалер Ордена Британской империи Спайк Миллигэн известен нашему человеку как а) отец-сооснователь "The Goon Show" — учителей и наставников "Монти Питонов", б) поэт (у нас тут переводили его стихи, и все считают их детскими). На самом же деле у него все гуще и разнообразнее, но это можно и в Вики прочесть.
"Пакун" — его единственный всамделишный мини-роман (повесть), остальное — плюс-минус полевые заметки молодого бойца. Вышеозначенный Пакун — деревня на границе Северной Ирландии и Ирландии-Ирландии, через которую (т.е. прямо через нее) случайно прошла граница между Великобританией и Ирландией, со всеми вытекающими для местных алкоголиков (в смысле жителей). Про то, как фотографировали усопшего, потому что кладбище теперь — за границей, и покойнику требуется долгосрочная виза (с перспективой ее обязательного продления); про концерт в доме престарелых с невольным участием ирландских террористов-контрабандистов; про скаутов в древнеримских костюмах и что из этого вышло; а также про много-много выпитого в самых неподходящих ситуациях.
Это абсолютно киношный фарс (кино сняли, чтоб вы были в курсе), из которого нельзя выкинуть ни одного междометия: они там все — для нашего полного щенячьего восторга.
Я это к чему? А) я хочу это перевести, б) и переведу же! в) эта книга — одна из лучших карикатур на идиотизм власти и бюрократии, любого извода, цвета и нацпринадлежности, г) оборжаться.
Если вы выразите свое радостное желание иметь эту книгу на русском достаточно радостно, я ее переведу, мы изыщем способ ее издать, а потом покажем в "Додо" кино по книге. По-моему, я клево все придумала.
Еще один способ говорить, которым хотелось бы овладеть. Мураками.
Я читала всего три его книги, т.е. совсем не всё и даже не пол-всё. И "Норвежский лес" не имеет по сюжету ничего общего, скажем, с фильмом "Касабланка". Но люблю я эти два события за одно и то же: за наполненную тишину позади произносимого. Не многозначительную, нет. Многозначительность — в моих определениях — это некоторое множество значений. Но их можно перечесть и сформулировать. А полнота — это такая неисчислимая штука. Не имеющая множественного числа. Цельный монокристалл, в котором калейдоскоп и чудеса, все перетекает друг в друга, границ нет, а есть всамделишная нераздельность всего.
"Норвежский лес" не сводится к сумме приемов. Рецепт "берем много ничего по отдельности не значащих мелочей, быта, мелкой моторики, всякой словесной сиюминутности и получаем сложную задумчивость" не работает. Прекрасные тексты — как и люди — всегда больше арифметической суммы своих частей.
С виду "Норвежский лес" — переплетение юношеских влюбленностей, психованностей и самоубийств на фоне студенческих беспорядков и брожения 1960-х. Каждый персонаж так или иначе поцелован смертью. Каждому есть кого оплакивать — каждый день, каждую минуту. И скажи я, что в этом и есть "японская нормальность" — обыденность сознания смертности, мгновенности жизни, и что отсутствие в этом свойственной западной литературе драмы и есть особенность вообще всего японского, — вышло бы дурацкое упрощение и уплощение. С этим ваби-саби надо родиться, и поэтому мы все навсегда, хоть ты тресни, останемся гайдзинами.
Здесь много секса — откровенного, прямо обсказанного, выраженного, прочерченного. И опять — нет тут этого нашего драматического надрыва и горечи околосмертных экстатических судорог. Как нет, впрочем, и ледяной механики. Ветер в соснах и море тут. И никакой ложной многозначительности.
Здесь все страшно хрупкие, как птички-оригами. Они падают и бьются, как хрустальные шары. Не как кубики Рубика — на понятные детали. А на неправильные острые осколки. И про боль здесь не скажешь "страшно", "ужасно", "остро". Она тут как дождь или как ветер. Или как солнцепек. Пришла. Есть.
Здесь мало кто умер своей смертью, в основном все убили себя сами. Нам иногда немножко говорят, почему (может быть). Автор, скажи нам, что ты все знаешь, но не скажешь! Нет, не скажет, что не скажет. Тогда мы сами придумаем, мы много читали западных драм! Ну валяйте, придумывайте. Но лучше б просто прочесть, как слушают музыку. Норвежский лес.
Лет пять назад я взялась перечитывать Воннегута, всё подряд. Поразительное вещество получается при взаимодействии моей памяти с его текстами: оно состоит из "картинок и разговоров" (с), т.е. я совершенно не могу пересказать его романы последовательно, а помню из них только полароидные снимки отдельных сцен и бритвенной заточки воннегутовские афоризмы, интегрирующиеся в мой код понимания окружающей среды невытравимо. Но ценнее и дороже даже этого для меня невыносимая ширь бытия, порождаемая Воннегутом, и в "Сиренах Титана" она какая-то очень специальная. Вообще же у меня есть гипотеза, что невозможность пересказывать воннегутовские романы происходит от того, что Воннегут — церебральный акын, что вижу внутри головы, то и пою. Это, в общем, медиумическое гонево провидца с чувством юмора и даром записывать без всякой оглядки на воображаемого читателя.
В "Сиренах Титана" есть тот феноменальный ультразвуковой звон одиночества, какой милосердный Даглас Эдамз всегда ухитрялся — с эквилибристической английской ловкостью — вправлять в некую утешительную мелодию. Воннегут с веселой, хоть и не ледяной жестокостью отказывает мне в утешении. Я однажды, лет 10 назад, поставила эксперимент: читала "Сирен" под кассету с записью звуков, переданных с "Вояджера" при пролете мимо Сатурна, по-моему. До сих пор, мне кажется, не до конца отошла.
Роман 1959 года, второй у Воннегута, книге 55 лет. О свободе воле (или "свободе воли", или "свободе" "воли") и до этого, и после разговоров в литературе было выше крыши. О смысле человеческой истории — естественном следствии этой самой с.в. — тоже. И все-таки я не знаю другого такого же романа, где столько сгущенки мудрости (а это, думается, для затекстов и недосказанностей — вроде дуста, но нет!) и при этом такие черные дыры совершенно первородного, свистящего уединения/одиночества отдельного сознания в пустоте между звездами. Чтение "Сирен", таким образом, для меня равносильно по терапевтическому эффекту разглядыванию фотокарточек НАСА.
Гуманистический, простите, пафос Воннегута хлещет из всех его текстов. Он горький, едкий и очень цельный. Но вот поди ж ты: в пространстве его межзвездных пустот есть это свободное бестелесное наблюдательство, око этического циклона, неподвижность, безоценочность. И она непрерывно порождает этот самый воннегутовский гуманизм.
Я понятно?
"Холодно" — когда б ни сказала я,
"Холодно" — мне в ответ говорящего
Теплота.
Я люблю бумажную книгу. Я люблю бумажную книгу, сделанную так, будто она у издателя не первая, но последняя. Мне приходилось держать в руках книги, сделанные так, что от них хочется плакать: в них — грустная нежность, хранимая некоторыми вещами, смертными, легко уничтожимыми и гораздо более просторными и многомерными, чем то, что видит глаз.
Как издатель я мечтаю делать только такие книги, пока удалось всего раз-другой, и, надеюсь, посчастливится еще. "Именины салата" Тавары Мати сделана вот так. "Коровакниги", пробыв так недолго, перестали, но уже за одну эту книгу им — и Мите Коваленину — большое намастэ. Японская учительница — которой сейчас уже за 50, но она по-прежнему принцесса, судя по фотокарточкам — однажды взяла и издала сборник танка, запечатлевших много-много мимолетных чудесных вещей: бликов, теней, чашек, птиц, песка, воды, поездов, деревьев, весен, телефонных звонков, коротких слов, дыханий, снов... и все это втиснуто в нелепые наши западные буквы (правая полоса книжного разворота), а слева — оригинальные ресницы этих слов — иероглифы, потому что этот сборник просто обязан быть билингвой. И издатель так и сделал.
В имперские времена ваби-саби всего вокруг делается настолько острым и рельефным, что от него першит в горле. Оно одновременно и утешает, и теребит за рукав, потому что хрупкость всего никогда так не очевидна, как во времена дорогущей дешевизны всего человеческого — достоинства, уважения, уединения, тишины, дыхания. Я опять читаю Тавару Мати, глотаю странные слезы и очень хочу во времена грохота и монохрома, на все стороны света, слышимости этих тихих маленьких слов и необратимостей.
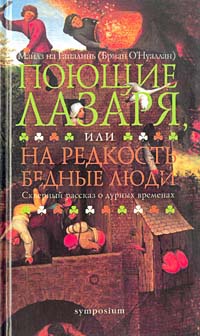
Могу только догадываться, сколько их у вас, дорогие мои неудержимые жители всех миров, а у меня три любимых сферических луна-парка с кучей аттракционов и два — побочно посещаемых и скудно обустроенных. Последние два — это доколумбова Америка и Африка до всякого белого человека в ней. А первые три — это континентальное европейское Средневековье, хипповские США и... Ирландия. Под луна-парком станемте понимать некоторое церебральное пространство, дорогое сердцу, но имеющее крайне мало общего с реальным прототипом (как, впрочем, и любой тематический парк).
Ясное дело, что в моей Ирландии с утра до ночи пляшут рилы, передвигаются исключительно ирландским тэпом, носят только зеленое (туника, рейтузы, колпак, мягкие остроносые туфли с таким, знаете, продольным швом до самого мыса), две трети населения — разнообразные милые нелюди всех размеров и специальных навыков, религиозная власть — у друидов, в реках течет виски, болота пенятся "Гиннессом", любая толстая трава — заготовка для дудки, древние баллады растут на деревьях, уже запечатленные на свитках, на каждом утесе стоит по женщине, поющей тоскливую, но прекрасную песнь об ушедшем в море рыбаке, прерывающуюся лишь когда женщине необходимо поесть тушеной картошки с олениной. Голос за кадром: Джойс читает "Финнеганов", с перерывами на "Дублинцев". Когда он отлучается поесть тушеной картошки с олениной, подключается Беккет. На заднем плане, под неумолчный стук боурана, поет Боно (на гэльском), бэк-вокал — Эния с хором эльфийских дев. Над всем этим непрестанно идет красивый древний дождь всех оттенков серебряного.
Но весь этот фестиваль клише — лишь врата в мою Ирландию, дальше начинается всякое бессловесное. И там, в этой зеленой мгле, отдельным холмом возвышается теперь Корка Дорха — деревня, где живут Очень Бедные Люди, включая главного героя — Бонапарта О'Кунаса, прыщавого, тощего, бессмысленного носителя ирландскости, донесшего до всего мыслящего человечества микро-сагу обо всем подлинно ирландском, сиречь о нескончаемых, бесконечно разнообразных и живописных бедах и напастях.
Майлз на Гапалинь (Флэнн О'Брайен, о котором я докладывала в прошлую субботу) написал на гэльском один-единственный роман — вот этот — и отдельно выделил его "целительное веселье". Ортодоксы, отвернитесь. Оставшимся: вообразите злющую пародию на Книгу Иова, написанную в стиле монти-питоновского скетча "Четыре йоркширца". Ортодоксы, повернитесь обратно.
В точности так же, как Салтыков-Щедрин дарит нам голографическую русскость, на Гапалинь сотворил нам голограмму Ирландии с лимерической геометрией. И да: любой из нас, прочитав эту маленькую книжечку, обнаружит в себе внутреннего ирландца.
***
со стр. 60:
Ирландцы! Мое ирландское сердце радуется при мысли о том, что я сегодня обращаюсь к вам по-ирландски на этом ирландском празднике в самом центре ирландскоговорящей области. Надо сказать, что сам я ирландец. Я ирландец с макушки до пят, ирландец спереди, сзади, сверху и снизу. Все вы здесь истинные ирландцы, как и я. Все мы до единого потомственные ирландские ирландцы. А тот, кто ирландец, будет ирландцем и впредь. [...] И раз мы истинные ирландцы, нам стоит обсуждать друг с другом проблему ирландского языка, равно как и проблему ирландскости. Не будет никакой пользы от нашего знания ирландского, если мы станем беседовать на этом языке о неирландских вещах. [...] Нет ни одной вещи на свете, столь же милой и столь же ирландской, как истинные истинно ирландские ирландцы, беседующие на истинно ирландском языке на тему самого что ни на есть ирландского ирландского языка. [...] Пусть живет и процветает наш ирландский язык!
Лучшее из Майлза: Избранное "Переполненного горшочка", фрагмент (перевод вашей покорной)
Майлз на Гапалинь
— Я вам
расскажу кой-чё путного.
— В самом деле?
— Вам
смешно будет.
— Как прекрасно.
— Брат мой
учит французский. Брат мой всю свою фатеру на уши поставил, что невры у
пол-шоблы евонной в тряпки.
— Как это характерно для вашего родственника.
— Брат мой
спускается к завтраку недели две назад, опоздамши на десять минут. И я вам
скажу кой-чё путного. Что у брата маво — силы небесные — на шее?
— Теряюсь в догадках.
— Галстук-бабочка,
простигосподи.
— Понятно.
— Галстук-бабочка,
и крапинки на ём. Едрень. Я чуть не отошел. Куда смотреть, не знал, как увидел
галстук-бабочку. Тут и сказать-то... нечего, знаете ли. Брату моему не
понравилось бы. Брат мой очень паршивого
мнения, когда на личности переходят. Вы не знали? Канешное дело, это всем известно.
— Я не знал.
— В общем,
шобла старательно делает вид, что отчаянно завтракает и никакого внимания не
обращает на молодца нашего, но ясно что ни одного там не было, кому невры не
скрутило от вида брата маво. Будь здрав атмосфера была – неистовая. А что же
молодец наш? Сел и стал есть?
— Поразительно, если бы так все и было.
— А вот и
нет совсем, господин хороший, пошел он к каминной полке и давай крутить, да
вертеть, да всяко вошкаться с часами, и так прищурится, и так посмотрит, и эдак
поглядит – минут пять, а потом берет спички и давай палить их, чтоб лучше
рассмотреть, и так на них воздействует, и эдак вокруг них пируеты пляшет, и все
не уймется, вот ей-ей будто ищет клеймо на них какое. Стекло открыл...
закрыл... открыл... захлопнул опять – а это прямо невры нужны, как у железного
человека, чтоб сидеть и харчи в себя пхать. Неистово.
— Не сомневаюсь.
— И сидим
мы такие всей шоблой, ждем когда ж грянет, а хозяйка — та вообще цвета меняет, как
что в цирке. Кто не потел, так то я. А опричь меня невры у всей шоблы в
лоскуты.
— Молю, переходите к развязке.
— И вот
будь здрав грянуло. Вообще не поворачиваясь, брат мой говорит очень странным
голосом. Не вижу ЕрДёврей, грит. Не вижу ЕрДёврей.
Едрень. Вы знаете, что это?
— Что же?
— Шобла
чуть не отошла. Бедная хозяйка – прямо слезы на глазах. Что это, грит. Но брат
мой не делает виду, что слышит, усаживается весь с лицом насупленным и начинает
чай глотать, и прямо видно, как бабочка у него елозит, когда молодец наш
глотает полный рот. И за все доброе утро ни слова больше.
— Понятно.
— И следом
наша бедная хозяйка побежала в город, на Мур-стрит, и в каждой лавке на улице
поискала излюбленную брата маво кормежку, но все без толку, она потому что не
знала, ее вразвес продают, или в мешке, или в банке. Ближе всего к французскому,
что ей подвернулось, были французские бобы. И что она делает, когда у нее только
такая еда из французского есть, так наутро она раскладывает перед братом моим на
завтрак . Что это, грит брат мой. Это они и есть, французские садовые овощи,
грит хозяйка. Земля Франции, грит
брат мой, отродясь не видала такова.
— Вот что следует называть «на колу мычало».
— Дале
боле. Брат мой купил теперь себе банку ЕрДёвря прямо в спальню. Завтракать в
постель и пить тэ из стакана! И не
снимает вообще бабочку с шеи ни в жисть.
— Следует полагать, что это лишь начало.
— Брат мой
грит не знает зачем он живет в этой стране вообще. Очень паршивого мнения. А
вот и мой автобус! Привет!
— Привет.
* * *
Нда. Это был эпиграф. Флэнн О'Брайен, он же Бриан О'Нуаллан, он же Майлз на Гапалинь, — короткоживущий (увы) изотоп ирландского прозаика, сатирика и критика.
Что мне вам сказать обобщающего об О'Брайене? Есть такой редкий ментальный ген, за которым я охочусь в литературе последние лет пятнадцать. Это такой особый вид инопланетного абсурда, в котором растворяется привычная черная белизна (белая чернота) хорошего-плохого, умного-глупого и все остальные единицы и нули. Это другая система думательных координат. Так умели уже помянутые Беккет и Джойс, Хармс и обэриуты, умеет Стоппард, немножко Горчев (когда был) и Воронежский. Я бы мечтала так писать. Счастье, что, читая такие тексты, я подключаюсь к этому измерению, к этому вогнутому глобусу с двумя ручками, к этому транзистору на селедке и моржовом киселе.
Эти тексты читают, чтобы углупиться (TM). Это не детство и не мудрость человечества, не новая свобода и не церебральная гимнастика. Это западная версия из-умления.
О'Брайена мало и неровно переводили на русский, а я его на первом по порядку применения языке не читала вообще — оставалась преданным листателем. Но знающие люди говорят, что "Третьего полицейского", к примеру, читать по-русски вполне можно. А "Поющие Лазаря", единственный роман, написанный О'Брайеном на гэльском, говорят, переведен совершенно волшебно. Только книжку теперь фиг найдешь — ее в 2003 году издавали. Но очень советую поискать — ну или нас попросите.
* * *
Собачьи уши, четыре штуки пенс (перевод её же)
Майлз На Гапалинь
Позвольте объяснить, о чем речь. Добрище в книжных магазинах смотрится
совершенно не читанным. С другой стороны, латинский словарь школьника выглядит
зачитанным в клочья. Сразу видно: этот словарь открывали и копались в нем,
вероятно, миллион раз, и, если б мы не знали о том, сколько этот школьник
получает по ушам, решили бы, что мальчик без ума от латыни и не выносит разлуки
со своим словарем. Вот чего желает безлобый: одного взгляда на его библиотеку
должно хватать, чтобы произвести на друзей впечатление высоколобого. Он
покупает громадный том, посвященный русскому балету – желательно, писаный на
языке этой далекой, но прекрасной страны. Наша задача – преобразить эту книгу за сообразно непродолжительное время так, чтобы любой наблюдатель заключил: хозяин
книги практически жил, ел и спал с ней многие месяцы. Можете, конечно, если
хотите, предложить изобретение прибора, приводимого в движение компактным, но
производительным бензиновым мотором, – прибора, который «прочтет» книгу за пять
минут вместо пяти или десяти лет, всего одним движением рубильника. Однако
такой подход – дешев и бездушен, как и время, в котором мы живем. Никакая
машина не проделает эту работу лучше мягких человеческих пальцев. Обученный,
опытный упромысливатель книг – единственное решение этой современной социальной
задачи. Что же он делает? Как он это делает? Сколько это может стоить? Какие
бывают разновидности книжного упромысливания?
На эти и многие другие вопросы я отвечу послезавтра.
 "Есть у пациента корь, если у него сыпь? Будет ли у пациента сыпь, если у него корь?"
"Есть у пациента корь, если у него сыпь? Будет ли у пациента сыпь, если у него корь?"
Иллюстрируя теорию преп. Байеса
Да, эту книгу я сама пекла переводила. Ну и пусть. Даже если б нет, она все равно мне бы а) занадобилась, б) понравилась, потому что Перельмана я читала маленькой, а занимательной математики много не бывает.
Да, это детский сад — читать про науку в фасоне "для чайников" и радоваться, что все слова из нее помнишь (не всегда помнишь, правда, что они означают, но это легко починить).
Да, это все аккумуляция церебральных погремушек (двойной тор — это ориентированная сфера с двумя ручками).
Но чтение простых книг про математику дарует уникальное, ни на что не похожее ощущение экскурсии в мир, где законы не только есть — они действуют, всегда, невзирая на лица, где понимание гарантирует порядок и предсказуемость, где вечный незыблемый мир и запредельная, неземная красота космоса чистых абстракций. Погрузиться на неделю в математический способ думать — как сунуть голову в отдельную реальность, свободную от любых этических дилемм, двусмысленностей и смутной логики. Это такое подразделение рая — для головастиков.
Мне никогда не быть математиком — задача так никогда не ставилась и, думаю, не поставится и далее. Да и большинству из вас, подозреваю, тоже. Но есть книги, которые и в самом конченом моралисте и гуманитарии разбудят тоску и ностальгию по безупречности, непротиворечивости, совершенству форм и образов, в каких живут профессиональные высокие математики.
Если и может быть у вселенной единый язык, он — математика, не физика, не химия и уж точно не литература. Мне кажется, боги, отрясая прах этого мира со своих велюровых штиблетов, случайно выронили математику — единственный поэтический поток, не зависящий от смотрящего в него, от ретранслирующего его. Незамутняемый, неизменный, данный.
"Математика" из серии "50 идей" — перо из хвоста этой невозможной птицы, и я с наслаждением крутила его на солнце, смотрела, как падает сквозь него свет в мое изнуренное дуальностью сознание. Я читала стихи, писанные великими математиками, разглядывала графические проекции фантомов их мыслей, и была мне чистая холодная радость.
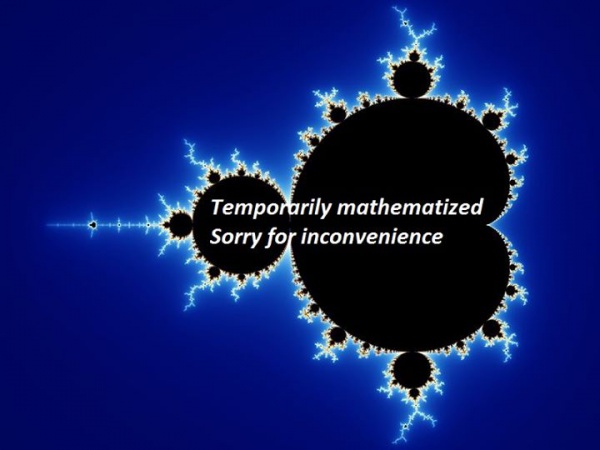
Простые радости земли, такие как кисель и молоко...
"Несчастный случай", 1996
В том же 1996-м Эрленд Лу написал маленький роман, громыхавший по-русски в середине нулевых. Художественная литература, вообще-то, никому никаких лицензий ни на что не выдает, и укрепляться ею по большей части принято, только когда речь заходит о высоких добродетелях. Но Лу дал моему внутреннему идиоту разрешение на существование, и я на него втихаря сама для себя ссылаюсь, когда обстоятельства расслабляются, и я вместе с ними.
Конечно, "Наивно. Супер" — не первый и не последний роман, нацело освобожденный от рефлексий. Не первый и не последний — со странным чудаковатым рассказчиком, имени которого читатель так и не узнает. Но вот этот тихий, аутичный голос мужчины-ребенка, безобидного, бессмысленного для мира вещей и матценностей (невзирая на все списки матблаг, которые составляет герой), меня при первом чтении совершенно купил — безупречной цельностью, шарообразной непротиворечивостью и при этом убедительностью. Я вообще люблю про инопланетян, живущих среди нас. Движение сюжета в книге, технически говоря, есть, найдется и экспозиция, и развитие, и развязка. Но это все, на мой взгляд, не важно. Меня бы вполне устроила и полная посвященность героя в колочение молоточком по колышкам и фигачка мячиком в стенку. "Болеро" Равеля.
Всякие сравнения с Форрестом Гампом и Робертом Портером, на мой глаз, уместны с точки зрения примерной единовременности выхода романа и фильмов про этих двух волшебных ненормальных. На стыке тысячелетий у землян обострился интерес к юродивым. Мне кажется, нам просто завидно. Потому что "по-настоящему умный" — это как? А с "настоящими простаками", по-моему, все понятно. Но впасть в это состояние по собственному изволу невозможно, это такой дар. Зря, что ли, в английском таких называют нэйчуралами?
Короче говоря, если вам иногда хочется — по-тихому, когда никто не смотрит, — побыть самодостаточным изумленным ребенком (или взрослым безвредным идиотом), читаните Эрленда Лу. Он вам всё позволит.
 В общем, так: сегодня у нас опять будет привет книге, которой (пока) нет на русском языке, что, конечно, жутчайшая жалость. Издатели, ку-ку? Ау?
В общем, так: сегодня у нас опять будет привет книге, которой (пока) нет на русском языке, что, конечно, жутчайшая жалость. Издатели, ку-ку? Ау?
У меня на этого автора большие планы — я намереваюсь читать его подчистую, включая все поэтические сборники и некоторую кучу романов (пока насладилась об два).
Гилберт Соррентино (1929–2006) —
американский писатель, с 1960 года выпустивший более 20 книг прозы, поэзии и
эссе. Утверждает, что наибольшее влияние на его творчество оказал Уильям Карлос
Уильямз. В 1950-х Соррентино редактировал литературный журнал «Неон», где
печатал, помимо прочих, того же Уильямза, Хьюберта Селби, Джоэла Оппенгеймера,
Филдинга Доусона и ЛеРоя Джоунза. В начале 1960-х редактировал другой
литературный журнал, Kulchur, где
также печатались битники.
Все произведения Соррентино, без исключения, — виртуозная работа с языком, фонтан лингвистических находок, невероятная наблюдательность и проницательность. Соррентино в каждом своем романе задумчив и элегичен, иногда — даже меланхоличен по отношению к своим героям и, транзитивно, к человечеству вообще, его интонация — глубоко чеховская, разочарованно-очарованная, тронутая печалью и светом осознания бездны человеческих иллюзий, ошибок, нечувствительности, близорукости, но автор со всей очевидностью любит своих героев, понимает их, не пытается оправдывать, но и не судит. Язык Соррентино — оргиастическое переживание для любого читающего мозга, почти чувственное переживание трехмерности, запаха, вкуса и цвета образов.
Гилберт Соррентино имеется по-русски одной книгой — «Изверг Род» (десятилетней давности издания). Я же вам тут докладываю о романе «Crystal Vision» (1981). Ловкий по форме лоскутный роман, действие которого происходит в Бруклине, с парой десятков сквозных персонажей — обитателей одного квартала, людей с самой разной судьбой, образованием, воспитанием, мировоззрением и соответствующей манерой изъясняться. Весь роман — 78 глав-баек — бесконечный разговор между героями, в разных составах и на все мыслимые житейские темы, и каждый такой разговор — притча, мешок метафор, блестящие, хоть и частенько печальные шутки, а герои постепенно, от главы к главе, превращаются в сознании читателя в мифологических персонажей, раскрывая себя, свою жизнь и воззрения на нее через уникальную манеру говорить, через акценты важности-неважности событий. Роман, таким манером, получается фестивалем архетипов, но заново перепридуманных Соррентино, человеческим таро.А вот вам от меня подарочек — один из женских монологов из этого романа, в моем переводе (извините, это единый по смыслу полив, без абзацных отступов, простынею; мужайтесь):
Чего я удивляюсь, спрашивается, если вдуматься в этого мужчину? Мужчину, который носит трусы с надписью «ПРИВЕТ, Я ДЭЙВ»; слушает обучающий курс для взрослых «Эрогенные зоны»; воротит нос от гамбургеров из кулинарии, когда мне лень готовить, а сам лопает бутерброды с кетчупом; считает, что газеты – это образовательно; клянется, что у него от кондиционеров простуда, только потому, что ему мамаша, ведьма крашеная, так сказала; всякий раз пытается меня отделать надравшись; не может толком себе поставить, когда мне хочется, чтоб он меня отделал, хоть последнее время мне и не шибко надо; считает спортсменов «нашей» интеллектуальной элитой; произносит «Марсел Прюст»; не умеет смешать годного мартини – да и негодного тоже; желает, чтоб романы – все полтора, что он за год прочитывает – были ближе к реальности; считает Джека Бенни комическим гением, вместе с Джерри Льюисом, прости господи; обожает волевое лицо Элгера Хисса – так он это называет; распускает нюни над любым зачахшим цветочком; на пляже втягивает живот; считает, что лихо умеет линди, хотя сам сроду не мог линди вообще; носит задрипанную майку «Колледж Упсала», а она уже просто тряпка; собирает горы «Нью-Йоркера», дескать, чтоб однажды добраться до этой шикарной литературы; спрашивает меня – ну или было дело – примерно раз в год, а не купить ли мне настоящий старомодный корсет; покупает пошлые журнальчики и читает их в гараже; любит арахисовое масло и бутерброды с огурцом; убежден, что все сицилийские имена оканчиваются на «и», хоть я ему сто раз говорила про Чича и Роки Джуфредо; каждый раз говорит после вечеринок, что девица с самыми большими сиськами или в самой тугой юбчонке была такая умница, и сразу кидается меня трахать, не успеем до дому добраться; обожает того старого жулика, Шагала; мечтает научиться ораторству; ломает каждую чернильную ручку, любой механический карандаш, за какой ни возьмется, а потом спрашивает, кто сломал; носит штаны, которые ему коротки; души не чает в бадминтоне и каждое лето клянется, что научится в него играть; терпеть не может темного пива, но пьет его, чтоб произвести впечатление на меня – на меня!; говорит «ты глянь, какой у мeня помпадур», когда разглядывает наши свадебные фотокарточки; носит по субботам носки с дырками на пятках; думает, что киношки – это великое искусство, эти вот дурацкие старые киношки; восхищается тем, как помер Лу Гериг, хотя помер он, насколько мне известно, как все остальные; не выносит кошек, потому что они, дескать, ничего не умеют; говорит «у тебя даже белье было все белое», когда разглядывает наши свадебные фотокарточки; всегда находит повод не выгуливать чертову собаку; помнит, как называется по-индейски какая-то там чахлая речушка; даже под страхом смерти не осилит софтбол, но раза два-три за весну все равно играет и каждый раз потом приговаривает, что он «не в форме»; все подбивает меня купить трусы без ластовицы; считает, что Эду повезло с женой, потому что она записывает результаты бейсбольных матчей; говорит, что обожает оленину, а сам ее ни разу в жизни не пробовал; в упор не верит мне и дико злится, когда я ему говорю, что от порнокартинок мне смешно; предлагает сыграть в медсестру и пациента каждый раз как посмотрит наши свадебные фотокарточки; покупает каждую книжку «Орешки» в ту же минуту, как она издана; подсовывает мне на стул подушку-перделку при детях и друзьях; уговаривает меня попробовать – ты только попробуй, говорит! – со свечкой в заду; называет мальчишку, что когда-то пригласил меня на выпускной вечер, «подопытной деткой»; заявляет, что чулочный пояс изобрел гомик, возможно, – Эд; поет слова песни «Осень в Нью-Йорке» на музыку «Месяц в Вермонте»; считает, что китайцы не дураки, но не помнит, почему; разговаривает в кино; раздражается, когда я говорю, что от консервированных равиоли меня мутит – от одной только мысли; тратит сотни долларов на рыбацкие примочки, а сам даже удочку закинуть не может; покупает мне черные чулки в сеточку каждое Рождество, а потом спрашивает, как это я умудрилась их так порвать; рассуждает о «Бруклин Доджерс» и «Эббетс Филд», а самому всегда было начхать на бейсбол; распаляется, когда я надеваю пояс; пьет смородиновый вермут в дорогих ресторанах, куда мы выбираемся раз в четыреста лет; разглагольствует о «постижении водопровода» – так прямо и говорит «постижение», клянусь; уговаривает меня попробовать свечку ему; ревет в финале «Гунги Дин» и приговаривает, что «теперь-то таких фильмов больше не снимают»; каждый год принимается за «США», но всегда бросает; фантазирует о Глории Суонсон – о Глории Суонсон!; мечтает прочесть мои юношеские дневники; не умеет варить яйца без скорлупы; восемь лет искал у меня клитор; точит карандаши зубами; никогда не доводит до конца ни один кроссворд; обожает быстрорастворимый кофе и не выносит хлеб с отрубями, а говорит все наоборот; моет свои три пера каждый чертов день и спрашивает меня, зачем я каждый день мою голову; обожает дурацкие фильмы с Лорелом и Харди; читает мне вслух рецепты из газет и приговаривает «может, нам стоит попробовать?» – нам!; было бы, говорит, здорово научиться кататься на лыжах; утверждает, что влажные салфетки – роскошь, а потом что-то там вякает про «настоящих женщин»; и – и! – зовет меня Берт.
К этому эфиру у меня, как у Флэнна О'Брайена в At Swim-Two-Birds, есть три разных зачина.
Зачин-1: я с тщанием и любовью собираю и читаю всё, что писано и пишется по-русски одновременно смешно, умно и наблюдательно, а что угодно Горчева - такое.
Зачин-2: так вышло, что Дима Горчев умер, а многие любящие его люди остались, и любят они его яростно, а потому я, чтобы не задеть (неисповедимым манером) их чувств, стану выбирать слова. Я давно собиралась написать о Горчеве и все как-то беспокоилась. Но — пора.
Зачин-3: Горчев умудрился быть невероятно артистичным и остервенело искренним во всем, что успел написать и нарисовать (рисунки и иллюстрации Горчева я люблю не меньше его текстов). Читая Горчева, я представляю себе литературного Марселя Марсо (но говорящего, простите за взаимное исключение параграфов), который, алхимизируя из меня истерический хохот и горечь — то разом, то по очереди, — вдруг рушит четвертую стену и хватает меня за лацканы, и принимается орать и ругаться на меня как на представителя нашего идиотского человечества.
Конец каскада зачинов.
Мой любимый сборник — "Дикая жизнь Гондваны". Не видала я в своей читательской практике ни одной другой книги, в которой была бы такая концентрация словесной клоунады и горечи. Никто в русскоязычной литературе последних 20 лет не разговаривал матом круче Горчева. "Круче" = изобретательнее, борзее, уместнее и смешнее. Мне, во всяком случае, такие пишущие неведомы.
В части литературной формы Горчев прост и незатейлив: он записывал то-сё про свою и не свою ежедневность, фантазировал, рассуждал вслух об увиденном, ворчал, сетовал, язвил, восхищался, желал того, чего либо нет сейчас, либо не бывает совсем. Много-много таких вот зарисовок с яви и фантазии, классика жанра "ЖЖ-пост". Но то, что все эти посты теперь изданы книгами, и их можно читать как книги — большое (не только мое, точно) читательское везение. И путь джедая, и невыносимость влюбленных, и настоящее айкидо, и, главное, животное Кухельклопф я буду еще не раз целовать в буквы и читать вслух на кухне — неофитам, которым Горчев еще предстоит.
Цель литературы — создание странного покрытого мехом предмета, который разбивает вам сердце.
Доналд Бартелми, "Возвращайтесь, доктор Калигари"
Бартелми вообще хулиганище и семантический буян, это известно. Его "60 рассказов" я экстатически прочла лет десять назад и неукротимо впечатлилась — об чудодейственную дерзость и дьявольскую фантазию, а еще тем, как он с ловкостью Барнума городит огороды деталей и частностей, плюя с секвойи на "классический нарратив", устраивая фестиваль непоследовательностей и вдругов, а потом бац! — и схлопывается сверхплотное ощущение, единый образ того, что он всем этим сообщает (мне лично).
Потом был "Король" — восхитительное издевательство над историей, политикой, литературой и чем не, "питоновщина" в чистом виде.
А потом — вот эта штучечка, "Немножко не то...", микро-Алиса-в-Стране-чудес, только про девочку Матильду, оборудованная иллюстрациями моей любимой разновидности: старыми гравюрами и газетной рекламой столетней давности. Моя двоюродная племянница ее зачитала до дыр, как сообщает мне кузина, ее мать, что, в свою очередь, гарантирует: с племянницей точно будет о чем разговаривать лет через десять. Наш чувак растет. Абсурдофил.
В "Немножко не том..." девочка Матильда обнаруживает у себя в саду возникший невесть откуда китайский павильон. Как здоровый ребенок, которому везде надо, Матильда живо интересуется содержимым павильона, в результате чего знакомится с кучей внезапных существ разной степени осмысленности, заводит с ними разговоры и разводит их на подарки. Учится ли уму-разуму — непонятно, что само по себе прекрасно, потому что это правда жизни.
Бартелми засунул в эту книгу всё, что нужно нормальному человеку для полного удовольствия: странные механизмы, пиратов, джиннов, канатоходцев, амфоры, бурное море и кисло-сладкое мороженое. Ну и маму с папой, но под занавес, когда все вышеперечисленное уже присвоено и распихано по карманам. Ладно, на пожарном авто пусть, так и быть, катаются по выходным.
Громадные, шире, выше, толще, просторнее, чем жизнь, сериальные драмы смотрят для того же, для чего читают могучие романы — это пилотируемый полет на разнообразной высоте над картой чужой реальности, в которую а) можно поверить, б) нельзя вмешаться и в которой в) все взлеты и паденья церебральны. И они бывают брейгелевее одной отдельной нашей с вами жизни — мы столько народу не успеваем отследить и разглядеть, живя: у нас другие дела. А у писателя работа такая.Волшебство — не уловки с видимостью.
Это изъятие всамделишного.
— Джим Додж
Космос на плоскости. Простите, я щелкаю пальцами и цокаю. Ужасно не хочется строить двухмерные проекции слов о том, что настолько пространственно.
Простите-2: это логическое завершение облака тэгов — стихотворение Хэмилтона о квантернионах, разбившее мое сердце так же (и тем же), как много прежде — Дептфордская трилогия:
THE TETRACTYS
Or high Mathesis, with her charm severe,
Of line and number, was our theme; and we
Sought to behold her unborn progeny,
And thrones reserved in Truth's celestial sphere:
While views, before attained, became more clear;
And how the One of Time, of Space the Three,
Might, in the Chain of Symbol, girdled be:
And when my eager and reverted ear
Caught some faint echoes of an ancient strain,
Some shadowy outlines of old thoughts sublime,
Gently he smiled to see, revived again,
In later age, and occidental clime,
A dimly traced Pythagorean lore,
A westward floating, mystic dream of FOUR.
Когда я была детсадовской крошкой, я владела пятью идеальными мирами: Винни, Пеппи, Алисы, Маугли и леди Мэри. Навещая их поочередно, получалось сберечь здравый смысл в мире этих-ваших-взрослых. У Пеппи я училась свободе, у Алисы — упорству и отваге, у Винни — экологии мышления; навыки Маугли пригождались мне на пленэре (и в драках с мальчиками). Мэри Поппинс маячила как приблизительный идеал того, во что я хотела превратиться "когдавырасту".
Житие Мэри Поппинс было и остается для меня описанием идеальной женщины как я ее себе вижу. С тех пор возникли и другие литературные дамы моего сердца — Галадриэль (Толкиена), тетя Далия (Вудхауза), Анна (Мёрдок). Но их никогда не было с избытком, и все они, как-то так получается, англичанки — и все совершенны, в моих понятиях, однако Мэри Поппинс, не лучшую, но равную, никто не затмит все равно. Есть немало в литературе женщин-воительниц, победительниц, домоуправительниц и повелительниц. Но женщин-волшебниц и будд — раз-два и обчелся.
Набирая очков в марафоне вдоль линии времени, я гляжу на Мэри и всякий раз нахожу в ней еще какую-нибудь маленькую черту, которая утверждает ее на троне. Но среди фейерверка ее достоинств — давно открытых и вновь обнаруженных — вот неизменный мой фаворит: невозмутимость. У меня даже есть эзотерическая теория про Мэри, но ею я вас грузить не буду, она длинная. (Кстати, об эзотерике: Памела Трэверс училась у Гурджиева, зналась с Кришнамурти.)
Девушки, читайте про Мэри и верьте, что природа женщины — поппинсная. Юноши, читайте про Мэри и радуйтесь: они водятся в природе. Вам тоже может достаться. Если вы, конечно, сумеете ее отпускать.
А теперь — праздничный танец (хотя, конечно, это непростительное упрощение и уплощение образа, при всей моей симпатии к тете Наташе Андрейченко):
Один поразительный человек — гениальный рассказчик, балагур и умник, предельно не склонный к патетике — 16 лет назад процитировал некий белый стих и сказал, что это из Халиля Джибрана. Многая была мне радость, когда выяснилось, что процитированный стих — фрагмент из целой поэмы, к которой я за эти самые 16 лет обращалась не раз, не два и не восемь. Поэма называется "Пророк".
Халиль Джибран — американский поэт и художник ливанского происхождения, проживший всего 48 лет, но успевший стать, как сообщает пресса, третьим самым продаваемым поэтом в истории книгопечатания — после Шекспира и Лао-цзы.
"Пророк" — мистическая методичка про всё на свете. Она устроена в жанре, вообще-то, интервью: Альмустафа ("несравненный среди любимых") отправляется в путь за море, и нам, конечно же, сразу понятно, за какое такое море собирается уплыть Альмустафа и почему ему грустно ("Длинными были дни боли, которые я провел в этих стенах, и длинными были ночи одиночества, а разве может кто покинуть свою боль и свое одиночество без сожаления?"). Местные, грустя не меньше Альмустафы, решают напоследок задать ему сразу все мыслимые вопросы и раз и навсегда получить рекомендации, как вообще жить дальше, потому что без этого прекрасного человека всё непонятно и сумрачно.
Местные спросили у Альмустафы про всё, что нас с вами интересует нисколько не меньше, а Альмустафа нам с вами обламывается не в каждой жизни — и не каждому из нас. Они спросили его о любви, о браке, о детях, о дарении, о еде и питье, о радости и печали, о жилищах, об одежде, о проступках и возмездии, о купле и продаже, о законах, о свободе, о рассудке и страсти, о боли, о познании себя, об ученичестве, о дружбе, о разговорах, о времени, о добре и зле, об удовольствиях, о молитве, о красоте, о религии и о смерти. И Альмустафа терпеливо и с невыносимой нежностью втолковал им (нам), балбесам, как со всем этим быть.
Джибран говаривал, что половина его слов бессмысленна — ради того, чтобы вторая половина дошла до получателя. Джон Леннон привинтил парафраз этого высказывания в одну из своих песен. А "Пророк" на несколько десятилетий стал гимном западной контркультуры.
Поразительный человек (рассказчик, балагур, умник) процитировал в моем присутствии вот это:
Потом вновь заговорила Альмитра.
— Что скажешь ты о браке, учитель? —
спросила она.
И он ответил:
— Вы родились вместе и вместе пребудете вечно.
Вы будете вместе, когда белые крылья смерти рассеют ваши дни. Вы будете
вместе даже в безмолвной памяти Божией.
Но пусть близость ваша не будет чрезмерной,
И пусть ветры небесные пляшут меж вами.
Любите друг друга, но не превращайте любовь в цепи.
Пусть лучше она будет волнующим морем между берегами ваших душ.
Наполняйте чаши друг другу, но не пейте из одной чаши.
Давайте друг другу вкусить своего хлеба, но не ешьте от одного куска.
Пойте, пляшите вместе и наслаждайтесь, но пусть каждый из вас будет одинок,
как одиноки струны лютни, хотя от них исходит одна музыка.
Отдавайте ваши сердца, но не во владения друг другу.
Ибо лишь рука Жизни может принять ваши сердца. Стойте вместе, но не слишком
близко друг к другу.
Ибо колонны храма стоят порознь, и дуб и кипарис не растут в тени друг друга.
Вообще-то я жухаю: "Чемоданный роман" я читала в том виде, в каком его опубликовал АлексанНиколаич Житинский в книге Лоры "Маленькая хня", но специалисты утверждают, что в исправленном дополненном отдельно изданном недавнем виде он еще краше. Так что, в общем, всем на радость жухаю. А этот эфир посвящен в основном Лоре Белоиван, потому что она сама и есть ее Главный Роман.
Лора — напалм. В смысле она так пишет, что у меня подскакивает вмонтированный ртутный столбик — и потому что смешно, и потому что потом внутри как в чистом поле: грустно, тихо и очень много хорошего места образуется. И на нем растет фантом города В. и цветы настоящего русского языка.
Лору половина Рунета читала в жэжэ всё свое детство и отрочество, а вторая половина, которая не читала, немножко просрала кое-что очень всамделишное. Но не всё: вот вам книга, можно догнать.
Лора знает до фига жизни — и зверей (домашних и вольноотпущенных), и людей разной степени невменяемости, и иных не сходу определяемых самоходных организмов. Лора живет в деревне — по своей личной врожденной воле. А деревня эта — на краю нашей родимой туши суши, на которой (туше суши) так или иначе говорят по-русски, — под Владивостоком. У Лоры в хозяйстве целый зоопарк, жизнь рядом с ней постигает персонаж по имени Ветеринар, а еще есть персонаж Казимирова и некоторые другие. А еще Лора работала на морских судах и знает всё про борщ в шторм. И спасает тюленей. И пишет в разные газеты и журналы. И рисует рыб.
Ладно, "Чемоданный роман". Эвфемизм-фри, смешной, горестный, щедрый текст про то, что из некоторых городов фиг уедешь, хоть люби их, хоть ненавидь. Про Дальний Восток, про людей и зверей, которые там живут, про город В., который никогда не был похож ни на один другой советский населенный пункт нашей туши суши. Никаких компромиссов, друзья: есть пишущие по-русски люди, в которых жизни напихано больше, чем живого веса. И не то чтобы все налаживается, нет, и не то чтобы все к лучшему. Тоже нет. Просто до чёрта жизни как-то. Огромной.
Лорины тексты — батарейки. Заряжайтесь жизнью.
Книжные и киношные медитации на смертность живого — это отдельная любимая тема, со своими лирическими законами и своими "о!", "мм" и "фу". Как честно обсудить с читателем эту вечную тему и при этом не тискать ему слезный нерв, к примеру, — вполне себе художественная и идеологическая задача. Бойн, как мне кажется, с нею, в частности, справился.
В этой книге Бойн разговаривает со своим юным читателем и про смерть в том числе, хотя история мальчишки Ноя Морсвода — не только об этом. Еще она о том, что значит данное кому-то слово, о видах любви, которая готова ждать вечно, о правильном молчании и о трюках одушевленности. В книге хватает и говорящих зверей, и волшебных игрушек, и несуразных королей и королев. Некоторые говорящие звери даже слегка хамят — в лучших традициях Льюиса "рассказал-девчонкам-сказку-типа" Кэрролла. Есть приветы Пиноккио и Форресту Гампу. И это отличный повод для кухонного заседания семейного читательского клуба: прочитать вместе с отпрыском, а потом потолковать о прочитанном. Прекрасный повод посвятить ребенка (годен ли он для этого по возрасту — решать вам) в нехитрый факт, что придет такое время, когда папа с мамой отчалят из видимой ощупываемой реальности. Дивная возможность поговорить о возможных приоритетах по эту сторону Стикса — на что класть жизнь, а на что, быть может, не стоит. Отличный шанс обсудить с начинающим взрослым, что возвращаться, признавать заблуждения или вообще радикально менять способ жить — не стыдно, совсем не стыдно. И что очень полезно думать, прежде чем обещаешь, а пообещавши — помнить, кому, что и при каких обстоятельствах. А еще о том, что интересно и не без толку приглядывать, что не выдерживает никакого напора жизни и смывается, растворяется сразу, а что — хотя бы в пределах совершенной конечности любого пребывания в этом мире — никуда не девается.
Мне было грустно, занимательно — и радостно: у малышни есть еще одна хорошая история и повод для сочувственного единства со взрослыми.
Но вообще, конечно, было бы здорово и удобно, если бы у всех у нас, взрослых, были очень честные говорящие часы Александр.
Мир — опасное место, тут уйма людей,
которые не доверяют друг другу. Вот поэтому я и сижу тут, на дереве.
Келли Линк
Мне, в общем, нравится, когда писатель меня попугивает, но желательно, чтобы его чудовища, истекая неприятными слюнями или, допустим, топоча недвусмысленно, угрожая всяким симпатичным персонажам кошмарной кончиной при отягчающих обстоятельствах, все-таки имели сложную душевную организацию. Келли Линк пишет довольно леденящие мою душу истории, и там непременно случается что-нибудь затейливо неприглядное, однако разговаривает с нами автор — застенчиво, местами насупленно — совсем не о бессмысленных жестокостях живых и нежити.
Американка Келли Линк, которую формально можно
числить по разряду фэнтезийщиков (и да, я бы сказала, гейманолюбам она показана
с руками и ногами), вообще-то рассказывает вполне европейские по своей сложной
многозеркальной зарефлексированности «сказки», где все было бы пронзительно,
беспросветно грустно, если бы не неукротимый, головокружительный абсурд
ситуаций и подлинно детская невозмутимость по отношению к ним. Моя любимая
история – «Дьявол и танцовщица из группы поддержки». Я, признаться, читая
сперва в оригинале, только к середине врубилась, что автор докладывает мне
происходящее, поменяв местами причину действия и его следствие, т.е. задом
наперед (сначала, скажем, швабра падает, а потом только в нее запускают
фонариком). Этого эксперимента, в общем, было бы уже достаточно, чтоб стало
интересно играть в эти веревочки, но Линк насовала внутрь еще и вложенных —
матрешкой! — новелл, от чего мой читательский вестибулярный аппарат впал в нарративное
опьянение. Внутри этой матрешки обнаружилась история про зеленых женщин,
трансценденцию и глубокое одиночество мужчины.
А есть еще бабушкин ридикюль, в котором живет целая народность со своей сложной мифологией, и адская собака, и телесериал про волшебную библиотеку, в которой герои, кажется, если умирают на экране, то умирают взаправду актеры, которые их играют. И Герда, которая стоптала сто железных башмаков, чтобы сказать Каю, насколько он ей безразличен.
Ну и да — чудовища в неприятных слюнях, но со сложной — чудесной — душевной организацией.
От Ницше вы удовольствия не получите, сэр. Он основательно нездоров.
"Продолжайте, Дживс", П. Г. Вудхауз
Велики скорби человеческие: серьезность зверина, пугливость мультяшна, детство несуразно, старость солипсична, а всё, что в промежутке, наполнено мелкими предметами разной продолговатости и временем на их поиски. Но в утешенье дан нам Пи-Джи Вудхауз.
К черту сериалы — 57 лет Вудхауз "снимал" для нас Дживса и Вустера, параллельно — 75 лет — лепя человечеству массу пейзажей с другими героями. Вудхауз — такая же Англия, как Юнион Джек, красная телефонная будка, почтовый ящик, пробковый шлем и невозмутимость. Вудхауз — бог, потому что он а) неистощим, б) наблюдателен, в) весел, г) светел, д) любящ. ПСС Вудхауза можно слать в космос, и пусть иной разум увидит нас такими. Нас тогда точно пощадят.
Тут я напишу в скобках, что я не стану обсуждать, вот, держите:
(классовые отношения, специфические особенности времени и места
действия, суперанглийскость языка Вудхауза; мода, семейные отношения,
политика, история и кулинарные фанаберии ХХ века в зеркале Вудхауза). Конец скобок. Мне лень — и вы не будете это читать.
Вудхауз учит меня думать смешно. Он утирает мне сопли, вынимает меня из непроходимых ментальных лабиринтов и никогда не перестает меня любить — потому что только от большой любви бывает такая невозможная щедрость. Мне плевать, что его ситуации повторяются и что персонажи предсказуемы — я иду на шум фонтана его словесной изобретательности, этот цирк мне никогда не прискучивает. Я адски завидую дару этого чародея и перебираю в голове свой нехитрый генетический скарб: что б я отдала, чтобы думать, говорить и писать, как он? У меня столько добра-то и нету.
Берите любого Вудхауза (лучше в оригинале, но и по-русски тоже, в общем, годится, хоть его и сравнительно немного) и уходите в эту Внутреннюю Англию, она ваша, в подарок, насовсем, и там часто гораздо лучше, чем. И, может, Вудхауз однажды сохранит вам рассудок.
"Я обнаружил, что в жизни, как правило, всё, что с виду грозит наимерзейшим, оборачивается в итоге не таким уж скверным."
П. Г. Вудхауз
итать тексты о том, как писать тексты, — как приходить на театральные репетиции: это самостоятельное увлекательное приключение и особый читательский опыт. Особенно когда эти тексты чудодейственны сами по себе, независимо от практических интересов читающего.
Ричард Хьюго, современный американский поэт и один из лучших преподавателей искусства слова ХХ века, умер в 1982 году, оставив по себе несколько сборников стихов, а также лекции и очерки по писательству. "Пусковой город" — маленькая книжка сверхнаблюдательных замечаний и соображений, отжатых ото всякой воды, ценных, как мне видится, любому поэту или писателю художественной прозы. Он переводим на русский и ценен может быть любому читателю, склонному получать удовольствие от просветов между листвой слов, а не только от самого фольяжа. Ищущих поэзию в любом художественном тексте, иными словами.
Нет, этой книги нет по-русски*. Это моя персональная наглость — написать о книге, которую негде взять на наиболее широко известном на наших территориях языке. Однако если б нашлось нас достаточно — человек 150-200, например, — кому эта книга нужна, я бы перевела ее для всех нас и мы бы отфигачили ее крохотным тиражом, для остро заинтересованных.
Очерк первый, "Списать предмет". О "коммуникации" в поэзии и писательстве.
Очерк второй, "Пусковой город". О воображении пишущего и его, воображения, пище.
Очерк третий, "Допущения". О необходимых недоговариваниях.
Очерк четвертый, "Брожение мысли о Рётке и преподавании". О разных учителях словесности и их методах.
Очерк пятый, "Что и как". О кухне писательства — буквально: как, чем и в каком режиме писать и править свои тексты.
Очерк шестой, "В защиту преподавания изящной словесности". О том, почему все-таки есть смысл этому учиться.
Очерк седьмой, "Символы веры". Чувство поэта — вера поэта.
Очерк восьмой, "Ci vediamo". Личная история автора — как был написан один его стих времен Второй мировой.
Очерк девятый, "На что живут поэты". Как выживает в человеке человек, вообще-то.
__________________________
Поправка от 30.09.2014: 2-3 недели — и будет-таки! Предзаказ. — Прим. букжокея.
Мне очень симпатичен Париж Кристофера Мура. Я много раз была в этом городе, любви у меня с ним нет, но мы приятельствуем. И вся эта гвардия почти никогда не трезвых сумасшедших с мольбертами, воспетая много кем и до Мура, мне тоже дорога, потому что мне слегка понятен этот тремор, возникающий от масляной краски, от ее пластилиновости, ласковости и капризности. И да, точно так же, как в моей голове существует пряничное Средневековье, есть в ней и пряничный Париж второй половины XIX века, и очень не хочется думать, что со стоматологией все было по-прежнему непросто, что с телами — своими и чужими — народ по большей части обращался как попало, а человеческая жизнь стоила почти так же дешево, как и во всей предыдущей истории человечества.
Хорош этот текст как полетный маршрут — промерен, выхожен, запомнен и отдан мне, читателю, чтобы просто мне было снять мое личное кино про этот Париж, про этих французов, увиденных Муром в парижских сновидческих шастаньях. Я совершенно не против его мифа о синей краске, об алхимии превращения жизни в искусство и обратно, не против цены, которую, по версии Мура, выставляют за выкручивание рук атлантам мировых законов термодинамики. Я за грязь и дрянь Парижа — да, этот пряник валяли в конском навозе, в поту и секрециях любовей разной высоты. Он, Париж, делается от этого чуть более настоящим (чего, в общем, не очень требовалось, см. выше, но так интереснее).
Хорош Муров шерше-ля-фам — он у него особенный, свой, и, замешенный с охрой и сажей и свинцовыми белилами, получается выпуклый и трехмерный. Верю тебе, Крис, Святая Синь — ни черта не святая. И отлично, что она старше, чем думается (дальше молчу, сейчас попрут спойлеры).
Спасибо, Крис, благодаря твоей сказке эти невозможные люди — Тулуз-Лотрек, Ренуар, Ван Гог, Моне, Сезанн, Лепик, Моризо, Писарро, Мане и много кто еще — ожили и задвигались, заговорили. Допустим, твоим голосом, но он мне годится. Я теперь смотрю на их полотна как на фотокарточки навсегда ушедших друзей, я не знаю теперь их мыслей и чувств, но мне кажется, я могу их вычитать в складках их платьев, в обманчивой приблизительности масляных красок, в тенях, что уже никогда не сместятся по солнцу. Смотрите и вы — мы собрали арт-гид по этой книге, это и подарок, и замануха вам всем.
И да, я теперь знаю Монмартр без Сакре Кёр. Просто холм, с буераками, коровами и мельницами. Я даже слышу запах конских яблок и сдобы. Могла бы сказать много больше, но вы лучше езжайте как-нибудь с этой книгой в Париж и живите по ней, пока читаете. И будет вам город-миф, новый до слез. Отвратительно и чарующе прекрасный.
Миранда Джулай — из категории странных дюймовочек, которых боишься дважды: один раз — прибить неловким словом, второй — прибиться ею. Она возмутительно непонимабельная, как оранжерейное дерево с латинским названием. Свой сайт она полностью сделала на полароидных снимках плиты, на которой последовательно писала фломастером и стирала всякие данные своей биографии. Постепенно плита изгадилась, и Миранда продолжила на холодильнике. It's a difficult horse (с), словом.
Вообще-то она киношник и художник перфоманса, выдумывает и снимает фестивальное кино, короткие и длинные фильмы, и все время что-нибудь эдакое отмачивает в интернете. Но в середине нулевых у нее вышел сборник рассказов, от которых остается ощущение, как от держания в ладони редкой саблезубой бабочки: красивое, хрупкое, диковинное и с виду невероятно, запредельно простое, но с каждой следующей страницей ждешь, что сейчас она тебя тяпнет. Довольно бестолковый вопрос, и тогда, и сейчас болтающийся у меня в читательской голове: это правда так пронзительно или она придуривается? Но это примерно то же самое, что спрашивать себя, мучает ли меня запах сирени, или это куст в окне что-то такое из себя строит?
Миранда неприятна в своей адской уязвимости, в мучительной нелепости своих персонажей, они все сломанные — и при этом целые в том смысле, что не вынуть из них лопнувшее колесико, оно там в них куда-то закатывается за тонкий кишечник и царапает, царапает и их, и меня. И вот скажешь — это рассказ про несостоявшуюся любовь и лесбиянок, а это про старость, немощь и плавание на линолеуме, а это про бесприютность, ненужность и дурацкие подушки, и все эти "про" получаются какая-то киянка. Эти тексты — упражнение на соучастие, специальная такая лупа, в которую видны великолепные руины внутри людей, и ни материалов кладки, ни времени постройки не опознать, а только паутину трещин и всякую зелень, что торчит во все стороны.
"Нет никого своее" — это такое ваби-саби, простая затейливость смертности всего. Это очень простые тексты. Очень-очень. Как детские истории, которые взрослые потом несут к психотерапевтам, а дети просто сказывают шепотом, вращая глазами и ничего-ничего не оценивая. Жуткие истории. Страшно простые. А вы уж сами решайте, придуривается она или нет. Если это имеет значение.
Предуведомление:
Книга вышла на русском языке в 2003 году. Издатель слегка промахнулся по трем пунктам:
1. автора зовут Гордон Хотон
2. фото на четвертой стороне обложке — другого Хотона; на самом деле автор — сумрачный худощавый человек в очках, не старше 50 лет (в те времена — к сорока).
3. книга в оригинале называется одним словом — "Подручный", а довесок в виде "смерти" продает соль анекдота; но это, конечно, совсем не беда, поскольку с первого же абзаца делается ясно, о чьем подручном пойдет речь.
А перевод вообще годный, на мой глаз. Хотя оригинал, разумеется, показан всем и всегда.
Конец предуведомления.
Разговаривая между собой мы, официально живые, с регулярностью ловим себя на мысли: "Во жизнь у человека!", что может означать всё что угодно в диапазоне от "Эх, живут же люди!" до "Ну угораздило!" Чтение об официально мертвых, но действующих среди нас, — в исполнении Хотона — схлопывает этот диапазон до "Фуф, пока пронесло". Хочется оттянуть воротник и галстук, даже если их не надето: смерть, оказывается, душная тесная штука. Хотя жанрово этот роман — как-бы-детектив, авантюра, экзистенциальное размышление, апокалиптическая притча, квест за правдой и сардоническая байка с любовной линией.
"Подручный" меня совершенно заворожил. Казалось бы, ну зомбачьё, ну красавец с косой, ну человек-не-просто-смертен-а-внезапно-смертен. Видали, читали. А Хотон возьми да и создай безупречное, междусловное пространство очень специфической яростной беспросветности, в котором мгновенно кристаллизуется версия ответа на вопрос "Чем живой отличается от мертвого?" Брошенностью солнечным призраком, что все еще можно исправить, доделать, догнать, долюбить, допростить. Живой человек — биомасса, у которой еще есть шансы и страсть ими воспользоваться, мертвый — все то же самое, но без. Мир ходячих мертвецов, по Хотону, — феноменально забюрократизированное пространство (привет легендарному британскому крючкотворству, круче которого только наше, а разница в том, что там властители бумажек вежливые зомби, а у нас — зомби кусачие), где нечем дышать. Впрочем, и нет необходимости, а одно лишь острое, танталово желание это делать. А, и еще одна разница: живому доступна роскошь агностики, мертвому — нет, ибо Хотон наградил своих разлагающихся страдальцев единственным острым ощущением: ответ может быть найден. Но только если вернуться к живым.
Смерть, Глад, Мор и Война — четыре мушкетера Хотона, они обаятельны и отвратительны, они вызывают нездоровое желание их разглядывать. Они не зло и не благо, они действуют по поручению Шефа, хотя, как любые конторские сотрудники, ленятся, саботируют, делают ошибки разной степени чудовищности, которые потом придется исправлять массе министерских инстанций. Всем работы хватает, словом. А еще есть бестолковые подручные — зомби с нарушенной координацией движений, капризные, скучающие. Набрали болванов, а старшим менеджерам расхлебывай. Шефа, впрочем, никто не видел и не слышал. Все директивы поступают в одностороннем порядке. В Агентстве любят шутить, что-де не уверены, существует ли он вообще.
Бытование самих покойников, по Хотону, — это такая зыбь бессильной безотчетной тревоги, просматриваемой, как в замедленной съемке. Главный герой, навещая могилу папы с мамой, ложится на нее ничком и пытается плакать, чтобы как-то избыть этот тянущее почти-чувство. У них всё почти-. И этим тоже они отличаются от нас. Всё говорящее и движущееся Хотон делит на пять категорий: живые живые, мертвые мертвые, мертвые ходячие, мертвые лежачие и начальство. Автор подробен и отчетлив, он надежный рассказчик, ему сразу веришь, что и так тоже всё и есть. Про Шефа, как уже было сказано, ничего в этом плане не известно.
Хотон явно что-то знает о мертвых помимо того, что можно прочесть в учебниках по цитологии и анатомии. Он попытался объяснить, из чего состоит клей жизни, который сцепляет наши утлые органические тряпки, каковы свойства топлива, на котором мы вечно ломимся куда-то, постоянно забывая, зачем именно нам налили полный бак. Хотон язвителен и саркастичен (да, я слышу в нем Джона Клиза, извините, у меня в голове разговаривают "Питоны"), однако никогда не циничен. И это такая душераздирающая штука, которую непонятно как именовать, — не жалость, не любовь, не симпатия. Это "не всё равно".
Из типового контракта на воскрешение:
...Если результат стажировки будет признан неудовлетворительным, покойник должен выбрать один из предложенных семи видов смерти, свидетелем которых он станет за время стажировки, и та будет приведена в исполнение вечером, как только покойник примет решение. Все документы и досье, проходящие по этому делу, должны быть возвращены Шефу не позднее следующего понедельника.
Ну что, прокомментировать вам, как люди осуществляют коитус(тм)? Потому что примерно этому равносильно обсуждение текстов из книги Р. А. Воронежского. Ибо смех и, извините, пожалуйста, ебля суть бытовые переживания эзотерики (о которой я уже докладывала пару раз и еще, видимо, неоднократно доложу), доступные абсолютно всем без специального образования предварительного посвящения и ритритов.
Засланец из соседней галактики Рома Воронежский, классик современных мне интернетов, делал много кого счастливым, еще когда ЖЖ был юн и колосился, теперь время от времени, насколько мне известно, осчастливливает пользователей Твиттера. Воронежский владеет навыком бесшовного шитья юмора из слов и располагает даром абсурдирующего взгляда, какой я, признаться, не видала практически ни у кого из дышащих пишущих. Впрочем, я представляю себе людей, которым Рома — это не смешно. Давайте проверим, а то вдруг вам другое что-нибудь смешно:
— Привет. Я — маленькая компания, располагаюсь в Иллинойсе.
— Привет, а я — новая функциональная возможность почтового клиента the Bat. Давай дружить.
— Давай.
(Прошло пятьсот лет.)
— Привет. Я — разумный искусственный носорог с присосками. Меня зовут А467.
— А я — наместник Императора, генетически модифицированный пучок зеленого лука.
И так — 240 страниц с картинками, тексты от пары слов до пары страниц протяженностью. Если нужно объяснять, почему тут смешно, я бы не стала, ни на своем месте (объяснять), ни на вашем (считать эту книгу ценной к пристальному, сладострастному прочтению). Бросьте, ну ее. Fa. Картинки, кстати сказать, Владимира Камаева, что само по себе тоже. Тексты набраны под всеми углами к воображаемой линии горизонта, с разрядкой и без, кегль в ассортименте.
Однострочное "Смотри, какой лифт! Это я его вызвал" разобрано на цитаты, лирическое стихотворение "Спам" — тоже:
отчего же ты не пишешь ты не пишешь ничего, может кончились чернила вдоль стеклянных берегов, может оператор связи неожиданно истек или почтальонский газик сбился с рук и сбился с ног
не, не кончились чернила, шарик в ручке как живой, бьет копытами мой милый оператор мой связной, почтальон бежит веселый с бодрой пачкой телеграмм, и исправно прибывает спам и спам, а также спам
"Уроками кофе" я замордовала и ближнего своего, и дальнего. Хотите понимать, что смотреть, читать и как оттопыриваться с каким-нибудь условным Бонифацием или Ириной — суньте ему/ей Воронежского: заржет — смело берите их с собой на последнюю экранизацию Рабле, на авангардную выставку расписных тостеров или в байдарочный поход в Алтуфьево. Не заржет — беритесь поговорить об этом. А уж потом в байдарочный поход, в крайнем случае.
Осторожно: чтение Воронежского переформатирует жесткий диск. На пятнадцатой странице ваши извилины сплетутся в такую же французскую косичку, как читаемые тексты, а окружающие с тревогой примутся прислушиваться к звукоряду из вашего угла. И говорить, кстати, вы тоже, вероятно, станете, как он пишет. Взять меня, к примеру.
"Леонардо да Винчи не только изобрел парашют и велосипед, но и явился во сне Менделееву переодетый таблицей."
Я понятно?
Печаль моя светла. Эдамза уже 13 лет как нету, и некому таскать меня — и других библиофильских солдат удачи обормотов по безбрежным своясям Вселенной. И киношечка, и сериал "Би-би-си" — это всё, конечно, страшно мило, но ничто не заменит сиятельного кирпича Эдамза, пятикнижия о похождениях (полетаниях?) Артура Дента, англичанина-в-банном-халате, по закоулкам Млечного Пути, а также Форда Префекта, полуплемянника главного прохиндея Галактики Зафода Библброкса и многих-многих других людей и предметов.
С переводами на русский всё непросто — сейчас есть не всё. Но хоть что-то перепало и не читающим по-английски. Что не отменяет моей рекомендации — если вы в силах — добыть исходник и упиться им.
В принципе, я могла бы расщеплять инфинитивы(тм) по поводу преимуществ Эдамза-мифотворца страницах на 15-20 мелким кеглем, но мало кто станет их одолевать, а поэтому получите списком, за что любить тексты этого сверхценного усопшего землянина, убористо, сухо, немногословно — мы все любим списки:
1. Жизнеподобие. Вы будете смеяться, но невзирая на фонтаны веселой фантасмагорической дребедени изощренных вымышленных мелочей быта далеких планет, Эдамз предан сути жизни: это всё запросто может быть.
2. Щедрость. Остроты — золотые дублоны прозаика. Или же чистые белила на бликах у живописца. Обыкновенно их раскладывают скупо, выдают в обмен на внимание к долгим абзацам драматической серьезности или же предлагают выкопать в тексте совочком, который надобно добыть в предпредыдущей главе. Эдамз складывает из них повествование. Эта дорога целиком из желтого металла. Эдамз-цитатогенератор. Его вербальный цирк — трюки высшего пилотажа.
3. Смехотворчество. Эдамз делает с моим органом смеха невообразимое: он смешной от первого до последнего слова и верен в этом себе. Он — эдакая гейша хохота: он знает, как это делается, он целеустремлен в том, чтобы каждый раз, когда в голове у читателя от смеха раскрывается некая щель постижения, запихнуть туда что-то очень дорогое, всегда с виду грустноватое, но очень, очень настоящее.
4. Пространство за словами. Создатель настоящего мифа знает всё про то самое синее солнце и достоверность мира под ним. Мир Эдамза рельефен, выверен и имеет дыры ровно в тех местах, где они запросто могут быть — более того, должны быть, чтобы этот мир стал всамделишным, пусть и сколь угодно абсурдным. В этот мир хочется, даже если нашу планету добрый автор вычеркивает из бытия на первых же страницах первого романа.
5. Как, как он это делает?!
Индия, Пуна, Корегаон-парк, Будда-холл, 11 августа 1974 года
"Монахиня Чийоно училась много лет, но никак не могла достичь просветления.
Однажды ночью она несла старое ведро, наполненное водой. Пока шла, смотрела на отражение полной луны в ведре с водой. Вдруг бамбуковые обручи, что стягивали ведро, лопнули, и ведро распалось. Вода выплеснулась. Отражение луны исчезло. Монахиня Чийоно обрела просветление. Она записала стих:
И так, и эдак старалась я удержать ведро целым, все надеялась, что хилый бамбук никогда не сломается.
Вдруг отпало дно. Ни воды, ни луны — пустота у меня в руке."
У меня дед был слесарь-реставратор. И поэтому я знаю, с какого конца браться за стамеску и отличаю надфиль от рашпиля. Монтировку тоже в руках держала, еще в садовском возрасте. И при помощи каких слов эти приборы заклинают, слыхала из первых уст, с выражением. Что, однако, не отменяет яркости переживаний при чтении Буковски и вот Магнуса Миллза. Ибо "Загон скота", с виду, — подробный, нет, скрупулезный отчет о простом, бодрящем труде на свежем воздухе, требующем минимального участия головного мозга. Но только с виду — и поначалу.
Первые 190 с чем-то страниц "Загона скота" — это счастливая встреча "Монти Питонов" со стариком Буком. Минимум эпитетов, море пива и премногие мили высоконатяжных заборов(тм). Герои Миллза — человекоподобные комбайны по выполнению физического труда за некоторые деньги. Сравнение с Веничкой Ерофеевым, приводимое в аннотации, чрезмерно: у Венички все гораздо, гораздо кудрявее и живописнее. Никому из читанных мною экзистенциалистов не удавалось с такой хрустальной немногословной точностью обрисовать прозрачную глубину бессмысленности человеческой деятельности в частности и жизни вообще. В визуально-говорильном искусстве такого удавалось достигать лишь "Воздушному цирку Монти Питона". И, как у "Питонов", это невозможно смешно. Жуть, да. И смешно до жути же. А вот под занавес, то есть последние страниц десять, начинается Ионеско. И Беккет. И очень внезапно становится не смешно. Ни "Питоны", ни Буковски не перешагивают грань антиматерии, а Миллз прогулочным шагом топает во тьму не оборачиваясь — и тащит читателя за собой.
Короткие предложения, обилие односложных диалогов, раскуроченная логика, нуль каких бы то ни было уловок и изощрений — заверните все это в серую колбасную бумагу, промочите под английским дождиком и получите "о-боже-какой-идиотизм-мы-люди-так-живем". Ключевая педагогическая точка этого романа, по моему мнению, — превращение обыденности нелепой в обыденность не-человеческую. Дочитав, я принялась листать заново где-то с середины: где именно, в каком абзаце меня спихнули за черту? Где именно герои романа окончательно растеряли права на человечность? Нашла, как кажется, штук пять таких мест, но все они мнимые: жуть не дискретна, способ спасения — избегать ее целиком. Герои с самого начала влезли в/под этот адский бульдозер. А теперь можно начинать параноить.
Вот такая индустриально-производственная притча, ребяты.
У меня есть трое, к которым я бегаю поговорить: Хайнлайн, Додж, Пинчон. Ну, по крайней мере, к ним первым.
Додж написал два романа, одну повесть и некоторую — невеликую — кучу стихов. Стихи он пишет белые, без рифмы, и если вас это нервирует, простите нас с дедом Джимом. Они у него горно-лесные, насупленные и редко-редко фонтанные. В них пахнет водой и осенью, они из-под кустистых бровей и немногословны, как Джон Уэйн. Чересседельные стихи такие. Перемётные. Стихи короля дорог. Он просто живет давно, видал многое, умеет всякое, а трепаться — это не к нему. Спасибо, что хоть что-то говорит. А так бы я б рядом просто посидела, можно и молча. Но он на той стороне глобуса живет, не запросто добраться. Да и как-то неловко напрашиваться.
Вам, может, романы его роднее. Я их тоже люблю как мало кто. Но сегодня — про дождь на реке.
У Доджа есть ответник на мой вопросник. Смотрите:
— Деда Джим, я что-то измучилась думать, — говорю. — Какие у меня перспективы?
Он отвечает:
— В
пятнадцать
воображение
изводит;
в
пятьдесят —
утешает.
Еще
одно превращение,
которое
ничего не меняет.
Иду к нему, когда всё никуда не годится, а завтра наступит, и надо с этим что-то делать.
— Нихера
не важно
Когда,
где
Или
как
Умрешь.
Важно
одно:
Не
прими это на свой счет.
Я, конечно же, хочу к нему в горы — и забрать с собой туда всех, кто захочет про всё это знать не только головой ("Так
вот, к чему вся моя жизнь свелась:
лютая сладость речного
света"). Но пока почти хватает и Доджева: "Волшебство
— не уловки с видимостью. Это
изъятие всамделишного".

Любую книгу ажурных стихов я читаю как гадательную на сущности: открываю от фонаря на любой странице, еще, еще, пока всю вот так не пооткрываю, привет Кортасару в некотором смысле. Нарушая таким манером авторский замысел: автор же выстроил свои тексты именно в этом порядке не просто так. Но мне всегда кажется, что поэт на меня не обидится.
Евгений Васильевич Клюев — поэт давно любимый, и стихи его ажурны до паутинности. Я по временам читаю его сторожко — а ну как улетит эта шапка с одуванчика, хоть и набрана она шрифтом, на бумаге, типографски. Зонтик Оле-Лукойе, _чидакаша_, планетарий у меня в голове — такова во мне "Музыка на Титанике", таков же был предыдущий сборник, "Зеленая земля".
Ну или как писать о стихах, над которыми ревешь, от которых ладошки потеют, простите, и непролазный восторг, будто я без всякого шкафа увидела Нарнию? Вивисекция — анализ там всякий, разбор на запчасти — это не ко мне: я и в детстве майским жукам ножки не обрывала, а теперь уж поздно начинать. Что тогда? Немое экстатическое бульканье?
Давайте так: стихи Клюева подвижны, щедры на игру — на Лилу, — богаты словами, какие в написанном виде встречаешь так редко, что каждый раз — как исчезающую бабочку. Стихи Клюева — книга волшебных заклинаний красоты и хрупкости этого мира и всех остальных. Они — угадываемые звон и сверканье подгорного народца, невидимого в холмах, но автор совершенно убеждает нас, что он, народец, там есть. Или они птицы в прогалах ветвей какого-нибудь поразительного дерева, и на рассвете сливаются с листьями — но они там! Или всё, что вообще может быть, — оно правда есть, вот прямо сейчас, левее второй строки сверху.
Евгений Васильевич — мой личный Гэндальф. Мне кажется, он здесь, на этой планете, так давно, и при этом ему удается счислять местное время не убийствами людей (войнами), а тем, чем оно должно, вообще-то, счисляться — сменами сезонов красоты. Красоты сугубо "гуманитарной" — внезаконной, внетеоремной, и красоты высшей математической: нет в вихре, в аваланше его слов ни одного лишнего. Лично мне, по крайней мере, нужны они все.
И цитировать не стану: часть силы этих заклинаний в том, что они вместе, рядом, разделены перегородками бумаги — и только.
Красавец наш, боевой павлин ХХ века и заслуженный деятель абсолютно всех искусств написал роман — в декорациях предвоенной Европы и военной Америки. Поскольку я же его и переводила, рискну предположить, что так же с лупой, как я, его читатели вряд ли будут изучать, потому и мои два сантима на заданную тему.
*С серьезным выражением лица*. Хотите романной классики? Пожалте. Дали написал нам хрестоматийный куртуазный роман, который даже для своего времени смотрится довольно архаично: весь в брошках, мизинец наотлет, господа благородны и увлечены политикой, бюсты прелестниц вздымаются, а сами прелестницы непрерывно бледнеют и падают в обмороки разной глубины и выразительности. Однако за всеми книксенами, очами, перчатками, фамильным серебром, именьями, “не смейте” и “ах, ну что вы” без мучительных усилий видна Европа конца 30-х, сбрасывающая с мясом шкуру, смешенье каст и отчаянные попытки рационализировать мировые политические корчи, а также во что превращаются “блаародные” господа под гипнозом неумолимо близящейся войны. Дали, кроме того, щедро предложит нам и оккультного, и впрямую демонического, и наркотического, и физиологического — в ритуалах многих мастей, ибо что ни сцена у Дали, то, честно говоря и вглядываясь, ритуал. Мистерия, более того.
*С несерьезным выражением лица*. Знакомьтесь с героями — и имейте в виду: Дали удалось создать веер персонажей один другого противнее. Всякий раз, слушая их диалоги, узнавая об их решениях и поступках, хочется цитировать Госпожу Белладонну из известного мультика: “Какие очаровательные ангелочки, какие кривые у них ножки”. Нет-нет, есть в романе и парочка героев-героев, но Сальвадор “позаботится” о них, не сомневайтесь. И, тем не менее, специфическая избирательная наблюдательность Дали вполне завораживает, и потому судьбы его людей-крокодилов и интересны, и поучительны, и в процессе чтения отрастает некая особая разновидность сострадания (подлинной эмпатии быть не может: мы здесь, а они — там, давно).