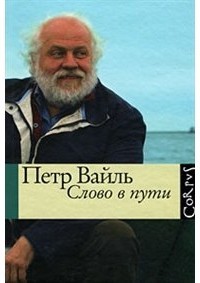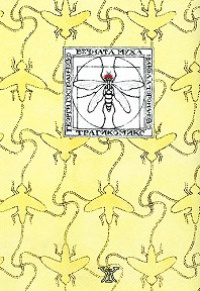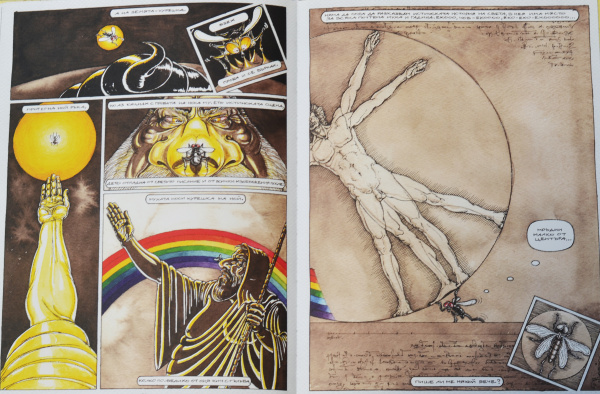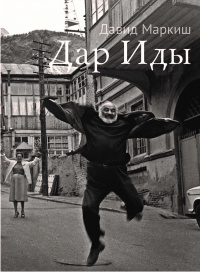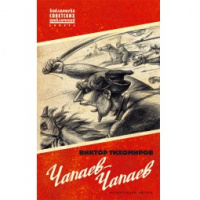«Белый гром зимы. Владимир Стерлигов, Ирина Потапова. 1939-1943»

В 1940 году Владимир Стерлигов нарисовал танцующую женщину,
в поднятой левой руке – букет полевых цветов. И приписал внизу: «Целый день мы
пляшем, пляшем / И букетиком мы машем, / Все роскошно, все чудесно, / Жить без
танца очень пресно!» За два года до этого, в 1938-м, он был освобожден из
Карлага, куда попал после ареста в 1934-м, обвинения в антисоветской
деятельности и осуждения на пять лет. Когда его освободили, он некоторое время
оставался в Караганде, потом, в 1939-м, получил «минус 6» (запрет на проживание
в шести крупнейших городах страны), прописался в Петушках, но почти весь 1940
год провел в Ленинграде и Москве, где нелегально работал, пытаясь выжить – пока
22 июля 1941 года не был призван в армию. «Мне так органически потребно воевать
за радость, которая ведет и людей и самого постоянно вверх, она такая
необойдимо чистая и светлая и такая постоянно сильная, что, конечно, кажешься
многим глупым бараном и, очевидно – смущаешь. Все на свете бывает. А в грусть и
уныние все-таки идти не хочу, пусть лучше буду бараном. А чем же брать ужас,
горе и бесконечные страдания? Они только тогда в смысле, когда побеждены
радостью. Это Творчество Жизни…» – написал он в письме своей возлюбленной,
Ирине Потаповой, где-то в феврале-марте 1940 года.
Я пишу про книгу, которой еще нет – она, дай Бог, появится к
концу августа в уникальном, рукотворном издательстве «Барбарис», а я держу в руках
сигнальный экземпляр и в буквальном смысле боюсь выпустить его из рук. Потому
что книга «Белый гром зимы» – настоящее, всамделишнее сокровище. Хотя о том,
кто такой Владимир Стерлигов, сегодня едва ли знают люди, не погруженные в
историю советского искусства ХХ века.
Наверное, надо начать вот с чего. Стерлигов был учеником
Казимира Малевича, под его руководством изучал супрематизм и кубизм, был знаком
с Филоновым, Матюшиным, Харджиевым, вместе с Суетиным и другими вошел в
образованную в 1929 году «группу живописно-пластического реализма», с 1926-го
был близок к ОБЭРИУ (некоторые исследователи называют его одним из обэриутов),
в 1929-м начал заниматься книжной иллюстрацией, в том числе в «Еже» и «Чиже»,
писал стихи и прозу. Потом был арест, о котором – см. выше, служба в армии,
контузия в самом начале 1942-го, известие о смерти Хармса (на которое Стерлигов
отозвался текстом «На смерть Даниила Ивановича»), женитьба на Татьяне Глебовой,
медаль «За оборону Ленинграда», жизнь в Алма-Ате, возвращение в Ленинград и
дальше – работа и «долгая счастливая жизнь». Не очень, на самом деле, долгая –
Стерлигов умер в 1973-м в возрасте 69 лет. И не очень счастливая – хотя, как
посмотреть.
Примерно в 1939 году Стерлигов, только что вернувшийся из
Карлага и живущий на нелегальном положении, познакомился с Ириной Потаповой –
невероятно красивой потомственной аристократкой, скрывающей свою «неблагонадежную»
родословную. Их роман в письмах – в основном, в письмах самого Стерлигова,
недавно обнаруженных, случайно уцелевших, – и составляет центральную часть этой
книги. «Дуда, нежнушка, милая, ну как Вы так говорите, что сердитесь на себя?
Духа, невозможная радость, которую вытерпеть трудно, вот что эта жизнь! Жизнь
светлая. И как ее надо беречь! Ведь душенька совсем любимая должна быть, ведь
это как дыхание, ведь это никак и ничем назвать нельзя. Как же вы сердитесь на
себя? Это очень, очень грустно и плохо и больно. Тогда что же мне делать? А я
люблю, люблю, люблю милушку, Вас, всю Вашу жизнь, все, что Вы есть…» – писал он
ей в феврале 1940 года. Господи, душа разрывается.
Возможно, эта любовь спасла его. Мне нужно повторить
несколько вещей – он только что вернулся после Карлага, ему нельзя было жить в
Москве и Ленинграде, вокруг арестовывали и расстреливали дорогих его сердцу
людей, и просто людей вокруг тоже все время арестовывали, расстреливали или
сажали, и весь его архив, все его тексты и рисунки – все, что он успел сделать
до ареста, – были уничтожены после ареста – или пропали в бездонных архивах
НКВД. Оставалось жить. «Знаете еще что, ведь человек безумно красив своей
жизнью…» – это из его письма, датированного февралем 1940-го.
Его обэриутских текстов не сохранилось. Хотя и в редких
сохранившихся стихах (которые тоже есть в книге), и в тех самых письмах язык
обэриутов оживает, как будто он – язык, созданный для жизни, как будто нет ничего
более естественного, чем этот самый пресловутый язык, убитый и растоптанный. «Хо!
Хо! Хо! А Хармс сражен. Веселился от души. Он сказал, что мои стихи сильнее
Заболоцкого и что я, Ваш покорный слуга, бродяга непутевый, большой поэт. Во!
Во! Во! И что им всем стыд за 7 лет, а что я сделал больше их всех вместе и что
они все развалины, а передо мной преклоняться можно, во! во! во! На колени!..» – с восторгом пишет Стерлигов в июне (?) 1941 года.
«Поражены. Молчали как расшибленные…» – вот так пишет он о том, как
читал Введенскому и компании то, что «написал сегодня много» из поэмы «Пир
королей», от которой сохранились лишь фрагменты. Крошечные фрагменты. «Пир
королей» - картина, созданная Павлом Филоновым в 1913 году, одна из самых
страшных его работ, – послужила отправной точкой поэмы Стерлигова: «И день, и
ночь, сестра и брат, / Тучна походка суток. / У смутных неоткрытых врат /
Проходит каждая минута. / Но мы с бокалами в руках / Подходим к ним, стовечным,
/ С венками ржи на головах / И с откровенной речью. / Громкоголосый бодрый хор,
/ Гортани золотом обиты. / Таким идет державный двор / И в мир, и в поле битвы…»
Да, а потом еще была война. Во время войны Стерлигов зашел в
оставленную школьную библиотеку, где книги лежали высокой кучей, а с края –
харджиевский томик Хлебникова. Положил во внутренний карман шинели, так всю
войну и проходил – вспоминал Андрей Шишкин, профессор Университета в Солерно и
директор римского Центра Вячеслава Иванова – один из тех, благодаря которым
была найдена переписка, которая легла в основу книги. А вот из письма
Стерлигова с Карельского фронта (осень 1941-го): «Столько уже прожито и какого,
столько отложилось в душе каждого человека, и потом – эти дни, недели, месяцы,
что любое произнесенное слово – как богохульство. Все молчит и все боится
смерти и мучается от лишения жизни…» Любое произнесенное слово – как богохульство.
Книга «Белый гром зимы» очень хочет казаться книгой о любви.
«Милый душный голосок слышал – все хорошо! Как же Вы мне не святенькая?!» – это
из письма апреля (?) 1940-го. И очень хочется представить это все историей любви,
иначе совсем страшно. Но – не получается. «Ночью под одеяло забирались крысы,
которые тоже мерзли, а если я подкладывала под подушку маленький кусочек сухаря
из этого хлеба земляного, то они забирались туда и все съедали, – вспоминает Ирина
Потапова блокаду, в которой ей удалось выжить. – Я никогда не забуду ощущения
чего-то живого, прислоненного к моей ноге. При первом движении они уходили, и
слышно было, как спрыгивают с кровати. Крысы были везде, ели все – ремни,
корешки книг. Борьба с ними была невозможна, да и не под силу. Они жили с нами
и весь 1943-й, и очень трудно было прятать еду. Это
очень умные животные. Раз я вечером подвесила сумку к люстре, чтобы в 6 часов
утра идти на дежурство, но в сумке хлеба уже почти не было. По потолку, по
цепям люстры, по крюку крыса подобралась к сумке, прогрызла ее и почти все
съела. Я говорю о крысах потому, что они составляли часть жизни в блокадном
городе…» Да, еще была блокада, а потом снова оставалось жить.
Нет, не получается читать эту
книгу как историю любви. «И вот эта катастрофа разразилась и… оказалась сильнее
любви и веры, т.е. нас разбросало в разные стороны. Но, как и говорил Вам,
писал: я шел к Вам. У меня было не так. Я все это знал и знаю и делом пытался
спасти свое «неверие» в Вас, т.е. характер Вашей веры. Иначе и просто: нашу
любовь. Еще раз говорю, что у меня была одна цель – Вы. И чего она стоила,
сказать трудновато. Если только увидимся…» – написал Стерлигов весной 1943
года, уже из Алма-Аты, в последнем письме Потаповой, которая почти до конца
своей жизни молчала об этой любви. А Стерлигов после разрыва с ней навсегда перестал
писать стихи.
«А дома очень уютно, спокойно и хорошо. Если будет
благополучно, и будет работа, то не хотелось бы никуда уходить…» (Из письма
Владимира Стерлигова Ирине Потаповой, март, 1941 год.)






 Эту книгу мне дала моя 83х-летняя бабушка. Говорит "на обложке внизу написано "для тех, кто еще не полюбил себя", и я решила, что мне уже пора".
Эту книгу мне дала моя 83х-летняя бабушка. Говорит "на обложке внизу написано "для тех, кто еще не полюбил себя", и я решила, что мне уже пора".