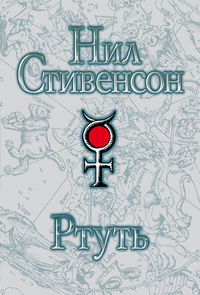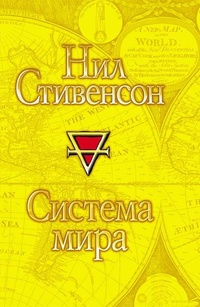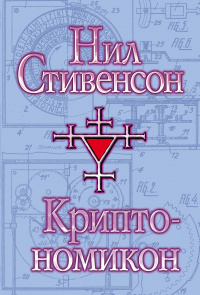Голос Омара
Летние танцы с литературными героями
Наш книжный концерт
Сегодня все будет весело и по-летнему. Например, французы «Индокитай» празднуют лето с графом Монте-Кристо:
А вот у «Аэроплана Джефферсона» была песенка, в которой танцуем сам Леопольд Блум:
У Роджера же Уотерза Польди, можно сказать, танцует с Молли Мэлоун:
Это мы отметили грядущий Блумздей. А старый коллектив под названием «Злопастный Брандашмыг» мы уже показывали. Но теперь они танцуют с самим Чеширским Котом:
Зато Донован танцевал с самим Жилбылволком:
Этим танцем мы отметили выход в свет нового перевода «Алисы» Евгением Васильевичем Клюевым. Еще один прекрасный персонаж, с которым отлично танцевать летом, — Том Бомбадил. Вот как, например, это делает очень литературный датский оркестр «Ансамбль Толкина» (они даже записали целую пластинку на стихи Профессора, называется «Вечер в Ривенделле»):
В доме у Тома Бомбадила, как легко догадаться, тоже отлично танцевать:
«Верблюд» некогда танцевал со «Снежным гусем» Пола Гэллико (вполне кэрролловская парочка) — они целую концептуальную пластинку записали:
А появление на наших экранах долгожданного фильма Терри Гилллиама мы отпразднуем веселым танцем про Дона Кихота в исполнении задорного братского коллектива «Семейство Неотон»:
Незаслуженно забытая группа «Смит-Перкинз-Смит» (далеко не все меломаны ее знают) когда-то станцевала с Холденом Колфилдом:
А «Клаксоны» некогда сплясали с… ладно, не с, а под самой Радугой Тяготения:
Примерно там же происходили зажигательные танцы коллектива, чье название кроме как «Промежду прочим» и не переведешь:
А количество литературных персонажей, с которыми в своей песне танцует великий каталонский певец Жауме Сиса, даже затруднительно сосчитать по пальцам:
Вернувшись на родину и окинув взглядом не очень известные широкой публике имена, отметим Игоря «Матвея» Матвеева из комсомольско-на-амурско-владивостокского подразделения «Не ваше дело». Он уже давно пустился плыть соло и танцует с не самым очевидным героем Осипа Мандельштама — Фаэтонщиком:
И еще один привет с литературного Дальнего Востока — от очень литературного блюзового коллектива «Breaking Band», которые в одной своей песне умудрились станцевать с Ланселотами и Гроздьями Гнева:
Этим мы отметили будущее открытие Литературного музея во Владивостоке. Ну и в конце нашей программы — коллектив с литературным названием «Божественная комедия» и программной песней о тех и для тех, кто любит книгу:
Да, это были танцы уже с писателями, а не с их персонажами. С вами вновь был Голос Омара. Приятного чтения.
Что написано в пейзаже
"Writing Across the Landscape: Travel Journals 1960-2013", Лоренс Ферлингетти

Этот том — куски путевых дневников ЛФ разных лет, хотя сам он, насколько я понимаю, регулярно дневников не вел. Скажу сразу — это проза высочайшей марки сама по себе, не говоря о том, что у ЛФ — примерно идеальный способ и стиль записи дорожных впечатлений. В такой сиюминутности — поистине великая литература. А ездил ЛФ активно всю свою жизнь, можно даже сказать — одержимо ездил. Т.е. по сути он тоже вечно стоял на дороге, был в пути, куда-то двигался. Если его младший коллега Керуак сделал довольно громкую литературу из своего, по сути, стремления к спокойной жизни (потому что именно оно срывало его с места и куда-то швыряло), то Ферлингетти, напротив, делал литературу спокойную и незаметную, но не менее точную, тонкую и пронзительную из своего как раз нежелания сидеть на месте, но от этого не был меньше «битником» (а то был им и гораздо больше). Вот такая разнонаправленная перипатетика лежала в основе «движения» и стиля.
Но для нас самое занимательное, конечно, — его знакомство с советскими поэтами «официальной диссиды» и заезд в Советский Союз. Началось все в июне 1965-го на поэтическом фестивале в Сполето, Италия, куда поначалу отказался ехать Евтушенко: там должен был выступать Эзра Паунд, а Евтух по-прежнему считал Паунда «фашистом» (ну или его так научили). Однако все-таки приехал — на дипломатическом лимузине. Быстренько выступил, пока не появился Паунд, и уехал. Ферлингетти после этого выступления окрестил его «дискоболом из Московии», а то, что Евтух ни с кем на фестивале не стал общаться, Лоренса слегка ошарашило: ведь зачем еще нужны такие фестивали, считал он, если не для того, чтобы интеллектуалы разных стран могли свободно общаться друг с другом. Наивный идеалист…
Потом они довольно часто общались, ибо Евтух был выездной и умел говорить немного по-английски, по-испански и по-итальянски. Бухали преимущественно. Евтух чморил в разговорах Вознесенского за то, что тот предпочитает «темные стаканы» (чтобы не было видно, сколько и чего у него налито; Вознесенский, говорил он, не пьет, а он не любит тех, кто не пьет), а осенью 1966 года в Сан-Франциско ходил в «бары с сиськами» специально посмотреть на «капиталистический декаданс».
Вершиной общения ЛФ с АВ же был, понятно, 1966 год, когда Ферлингетти выступил соустроителем поэтических читок АВ в «Филлморе» — по просьбе самого Воза (так его называет ЛФ), гостившего в Беркли у какой-то профессуры). Это тот самый гиг, афиши которого мы знаем: там выступали «Джефферсон Эйрплейн». Только вечер едва оказался не сорван: Воз не знал, что такое «Дж. Э.», и зассал — звонил ЛФ и говорил, что никаких музыкантов, «только ты и я, Лоренс». Тому пришлось бедного успокаивать, говоря, что бэнд будет рубиться вторым отделением. Воз смилостивился и «Джефферсонов» разрешил. Читка прошла успешно, пишет ЛФ, собралось где-то 1500 человек (хоть половина и пришла только музыку послушать), и Воз с психоделическим роком как-то примирился (хотя все не сорвалось еще раз, когда перед началом показывали слайд-шоу, которое закончилось большим изображением Будды; тут-то наш дерзкий поэт опять зассал и сказал ЛФ буквально то же самое: «только ты и я, Лоренс, никакого Будды»; Будду перед их выходом на сцену погасили). Примирился-то примирился (они как раз разогревались в соседней с ним гримерке), да только из всего выступления с танцами оценил только световое шоу — до того, что даже пошел разговаривать с оператором этой светомузыки на балкон. И вот прикиньте, 66-й год, Самолет Джефферсона взлетает со страшной силой, «Филлмор» уже стал культовым местом, а Воз пырится на светомузыку и потом говорит Ферлингетти, что «воссоздаст эту сцену в одном московском театре». На что Ферл недоуменно отреагировал: интересно, где он в Москве добудет рок?
В общем, Вознесенский вел себя как образцовый советский гражданин за границей, соответствовал правилам, и его, в общем, можно понять. Его американские издатели очень боялись отпускать его одного в Сан-Франциско: думали, он там спутается с битниками и начнет принимать с ними наркотики. Ферлингетти это очень веселило: 66-й год на дворе, все битники, которые выжили, давно переехали в Нью-Йорк, а кушать наркотики им уже здоровье не позволяет. Вознесенскому за ту читку в «Филлморе» заплатили 300 долларов (Ферлингетти — 100).
Ферлингетти хотя пишет об их общении, конечно, без всякого снобизма насчет таких «встреч двух миров»: все он отлично понимал про положение такой «официальной диссиды» в Совке. Но оценивает обоих откровенно и очень трезво, вплоть до нелицеприятности. Вознесенского, к примеру, он не считал гениальным поэтом, а поэзия обоих — «не революционна», в его понимании, разве что «Бабий Яр» у Евтушенко, а академична и популярна в СССР лишь из-за общей застойности литературы и мышления, эдакий буквально «глоток свежего воздуха» (да, он сам использует этот оборот). ЛФ никого, понятно, не судит, но все подмечает.
Вот, например, сидят и разговаривают они об издании поэзии: «Красные кошаки», антология трех советских поэтов, Евтуха, Воза и Семена Кирсанова, вышла в «Городских огнях» тиражом 500 экз., что, как мы сейчас понимаем, нормально для поэзии хуй знает кого в переводе (первых переводчиков, кстати, упрекали за то, что они советских поэтов «обитнили»; поэтам денег не заплатили, потому что «не нашли», кому — СССР не подписал тогда еще Конвенцию, и самих битников переводили и издавали кое-где за железным занавесом невозбранно и бог знает как). «Вой» Гинзбёрга — 100 тысяч, это был понятно почему хит и бестселлер. ЛФ все это ему излагает, Воз выдержал паузу, после чего сказал: «А у моей следующей книги тираж 300 тысяч». И для наглядности нарисовал цифру. Ферлингетти на это ответил только: «Но тебя же государство издает».
Отмечает он и разницу в восприятии и презентации поэзии: традиции декламировать стихи в Штатах не было — со сцены их только читали. А Воз и Евтух свои декламировали героически. У битников устная традиция была, конечно, выражена, ярче, чем у поэтов академических, но битники не принимали при этом никаких героических поз. И наконец главное: советские поэты, как справедливо замечает Ферлингетти, не посылают свое правительство недвусмысленно нахуй. Так что какая уж тут, к псам, революционность. И это его замечание до сих пор дорогого стоит.
Ну и вишенка: февраль 1967 года, путешествие Ферлингетти по Транссибу. Из Находки он должен был плыть на «Байкале» в Ёкохаму, но оказалось, что у него нет японской визы: в западногерманском «Интуристе», откуда они с приятелем бронировали все путешествие, не сказали, что она нужна, типично. Поэтому, проехав неделю по зимней Сибири, ЛФ застрял не где-нибудь, а в Находке, где заболел так, что даже боялся, что его в Находке и похоронят. Оказалось — грипп, и американского поэта покатали ночью по находкинским больницам. В больничке он пролежал трое суток, потом пытался попасть на японский сухогруз, потому что советским судам японские власти запретили ввозить американцев без виз (почему — хз, американцы тогда и контингент-то свой до конца из Японии еще не вывели). В общем, февраль в Находке, как мы знаем, не подарок: городок уныл и депрессивен, везде пользуются счетами и стоят в очередях. Счастья нет. Пока ЛФ ждал оказии, которую ему пытался спроворить некий переводчик-кореец, — познакомился с администратором ресторана гостиницы «Интурист» Анной Гордеевной, она ему вербу на столик поставила (умерла уже поди, ей и тогда-то было на вид лет 55). Кабак гостиницы он вообще описывает препотешно, особенно — оркестр и танцы публики. АГ его даже в кино сводила, судя по описанию, они посмотрели нетленный фильм «Их знали только в лицо».
Но в Находке, в общем, японского консульства тогда еще не было, поэтому ЛФ пришлось ехать поездом в Хабару, а оттуда самолетом обратно в Москву. Изматерился страшно: «10 дней, которые потрясли Ферлингетти», как он это называл. Зато обратно в город на букву Х он ехал дневным поездом со всеми остановками и оценил красоты Приморья в начале марта: говорит на Калифорнию похоже. По ходу очень недоумевал привычке русских, не говорящих по-английски, повторять фразу громче, чтобы американец понял, а потом ее же записывать. В находкинской больнице читал единственную книгу на английском, которая была в городе, — роман Толстого «Воскресение», а в поезде читал «Сказки об Италии» Горького и счел их сентиментальной байдой; вообще пришел к выводу, что русские живут в другом мире, отстающем на 35 лет. В итоге — вывод о пустоте и бессмысленности обычной советской жизни. В Москву он летел на странном четырехмоторном пассажирском самолете с купе (были такие? кто знает?) А из Западного Берлина в Москву у него был обычный самолет, но без всего, как он говорит, даже без кислородных масок, и напоминал собой самолеты в Штатах в начале 50-х. Зато кормили икрой и белым вином.
Среди прочего прекрасного выяснилось, что город на букву Х он-таки воспел, как и положено поэту. Его русское стихотворение «Москва в глуши — Сеговия в снегу»-то все знают, наверное, (вот тут кусок в странном переводе Петра Вегина), а тут вот оно что:
РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ В ХАБАРОВСКЕ ИЛИ ГДЕ УГОДНО
Один роскошный бульвар с деревьями
с одним роскошным кафе на солнышке
с крепким черным кофе в очень маленьких чашках
Один не обязательно очень красивый
мужчина или женщина кто тебя любит
Один прекрасный день
Кстати сказать, ипохондрия его все ему подпортила: он потом думал также, что его похоронят в Хабаровске, который на обратном пути уже не показался ему таким счастливым местом.
Наш дом имен
Продолжение литературного концерта о неочевидных именах
Сегодня мы вспомним еще кое-кого поименно. Вот этот чудесный британский коллектив назван в честь романа Уилларда Мануса о цирковом уродце — их продюсер, отбывая срок за наркотики, прочел его и решил, что лучшего названия для рок-н-ролльного цирка нельзя и пожелать (а теперь и вы это знаете):
Вот эти черти из Чикаго некогда назвались в честь любимого писателя (и несколько раз видоизменяли свое название, но в начале там даже инициалы были, чтобы уж наверняка все понимали, о чем речь):
Лавкрафт, понятно, возбуждал воображение многих, и вот вам еще один пример, поновее:
Еще один прекрасный пример именования: парочка музыкантов из Висконсина назвались в честь Рильке (почему??) и в нашем концерте выступают с песенкой с приветом Кёрту Воннегуту:
Вот вам заодно «Любовная песнь» самого Рильке, сразу в нескольких вариантах:
А эти милые шотландцы, не мудрствуя лукаво, назвались в честь самого известного персонажа Кафки:
Но не только имена автором и их персонажей могут стать названиями читающих коллективов. Здесь например, названием стала цитата из К. С. Льюиса, поди пойми этих творческих личностей:
Вернемся к романам — и к Воннегуту: вот вам «Малый не промах»:
С этими французами все понятно — что может быть лучше названием для коллектива, чем «Бармаглот»:
А другие испанцы назвались в честь писателя, который плохо кончил (о чем они только думали?):
Но совсем уж загадочны вот эти люди — их излюбленный персонаж кончил совсем уж классически плохо (каторгой, если кто не помнит):
Ну а эту песенку, которой мы закончим наш сегодняшний концерт, нам приятнее считать названной в честь персонажа М. Ю. Лермонтова — купца Калашникова:
Согласитесь, так прыгать под нее гораздо приятнее. С вами был Голос Омара, не отключайтесь.
Вспомнить все по именам
Литературный концерт про названия
Давно обещали, но вот настало время возобновить. Попробуем припомнить не самые очевидные коллективы — и не самые очевидные литературные произведения, давшие им имена. Но первым в нашей программе будет известный воришка из романа Чарлза Дикенза «Оливер Туист» — с треком из их тематического второго альбома:
А эти австралийцы назвались в честь романа Сола Беллоу — «Оги Марч»:
В честь персонажа «Бойни номер пять» Кёрта Воннегута назвались целых два коллектива. Вот первый:
А вот второй. Они, как легко заметить, отличаются.
А есть и такой вот персонаж, совершенно не похожий на двух предыдущих, но тоже Билли Пилигрим:
В честь персонажа Сакса Ромера назвались эти черти — и поют песенку про другого героя литературы:
Вот эти электрические люди вдохновлялись «Машиной времени» Херберта Уэллза — и в нашей программе они выступают с кавером песенки про очень литературный город:
А вот еще один прекрасный источник вдохновения — роман Тони Моррисон «Песнь Соломона». Там был персонаж Мейсон Мёртв 3-й по кличке «Молочник». Его имя заимствовали вот эти веселые панки и назвались «Мертвыми молочниками»:
Вот эти симпатичные люди назвались в честь второстепенного персонажа «Джейн Эйр» известно кого:
Симона Шмидт решила назвать свой проект в честь главного кролика из «Уотершипских холмов» Ричарда Эдамза:
Продолжим мы в следующий раз, у нас еще есть что вам показать, а пока по традиции — песенка о литературе вообще:
До новых встреч на наших страницах, с вами был Голос Омара.
Концерт конца времен
Мировая литература в русских звуках и Толстой как зеркало рок-н-ролла
Перво-наперво, отметим сразу несколько печальных дат насквозь литературоцентричным альбомом Егора Летова:
У Янки Дягилевой, кстати, тоже была песенка, вдохновленная известным романом Габриэля Гарсия Маркеса:
А вот детская классика Николая Носова в интерпретации Петра Мамонова:
Если уж говорить о детской классике, то кто только не пользовался Корнеем Чуковским. Например, вот:
Наши музыканты не только детские книжки читают, но и античную литературу — Анна Ворфоломеева со своим «Одиссеем»:
И советскую классику — «Маркус и Топонимика», например, поминает «Россию молодую» Юрия Германа:
А вот эти люди, будем надеяться, и читали Джорджа Мартина, а не только кино смотрели:
И Толкина заодно:
А другое модное московское подразделение ссылается на Дагласа Эдамза:
Но следует признать — несмотря на пресловутую литературоцентричность русских, начитанных музыкантов в России не так уж и много. То ли дело во всем остальном мире. Возьмем, к примеру… ну, я не знаю, Толстого. Какого-нибудь из нескольких. И посмотрим, кто им вдохновлялся (ради чистоты эксперимента не будем брать тех певцов ртом, кто реально носит эту фамилию). Вот, например, словацкая группа «Толсты́е» (фамилия солистки, правда, Толстова, но это, согласитесь, не одно и то же):
А это коллектив из Джорджии (штатовской), который назвался той же фамилий, отчего — бог весть:
Более того, существует даже группа, назвавшаяся в честь Софьи Андреевны — «Мадам Толстая» (в ней играет один мальчик, и он точно не Толстой):
Ну и, конечно, кто-то из Толстых вдохновляет музыкантов на разное:
А вот человек вдохновился на трагическую русскую историю. Кто у нас маркеры? Натюрлих, Толстой и Эдип:
Ну и просто про Льва Николаича (и великую литературу) спел Боб Хиллмен из Сан-Франциско:
Это была песня из компиляции прекрасного проекта «Артисты за грамотность» (2002-2003) «Песни, вдохновленные литературой», но о нем мы поговорим в следующий раз. А пока — приятного чтения.
Пэтчен, Пинчон и прочие
Наш маленький концерт об американской литературе
Давно мы с вами не копались в архивах и не выискивали в них разного интересного. Здравствуйте. О литературно-музыкальных экспериментах Кеннета Пэтчена, родоначальника «джазовой поэзии» мы уже упоминали, но вот следующий виток воздействия его литературы на музыку — несколько произведений, вдохновленных его великим романом «Дневник Альбиона Лунносвета»:
Есть и коллектив, взявший себе такое имя (а произведение у них явно по мотивам «Моби-Дика»):
Да и псевдоним этот тоже в ходу, оказывается:
Нельзя при этом сказать, что герой романа Пэтчена был романтичнее. А вот целая литературно-музыкальная композиция «Зримого племени медиумов» на стихи Пэтчена под маркой «Пиратской утопии» в пяти частях (третью заблокировали правообладатели, но представление у вас уже будет):
Ладно, теперь немного про Пинчона. Вот новая группа с прекрасным и очень знаковым для всех читателей «Радуги тяготения» названием:
А вот другой коллектив, назвавшийся именем персонажа его другого романа (негодяя, между прочим):
Его же имя увековечено в песне и другого музыкального коллектива:
А еще одна героиня «Радуги тяготения» вдохновила коллектив «Столовое серебро» вот на это произведение:
Сам же Томас Пинчон стал персонажем вот этой песенки:
Вот это произведение Сары Немцов (нет, мы не родственники) посвящено э. э. каммингзу:
А вот эту песенку «Кардиганам» явно навеяло Стайнбеком, хотя действует здесь отнюдь не песик:
Трагическая жена Ф. С. Фицджералда вдохновила в свое время Ива Симона:
А это — дань Терри Ли Хейла великому писателю Реймонду Карверу:
Вот этот культовый коллектив внимательно прочел первый (юношеский) роман Джона Кеннеди Тула и сочинил такую прекрасную песню:
Ладно, если вы устали от нашего фейерверка американской литературы, можно послушать, какими операми вдохновлялся Уолт Уитмен:
Американская джазовая саксофонистка Джейн Айра Блум, уже отдавшая дань «Ранним американцам» в своем предыдущем альбоме:
…записала следующий в продолжение, где главным источником вдохновения для нее стала Эмили Дикинсон:
И вот на этой, как говорится, оптимистической ноте мы и завершим нашу сегодняшнюю музыкальную программу. У вас в ушах звучал Голос Омара.
...Как ниточка, тянется
"Великая Сибирская железная дорога. Что я увидел во время поездки", Фрэнсис Эдвард Кларк

Сказать правду, я ожидал немногого от этой книжки, но она оказалась на диво хороша. Известный американский евангелист, основатель Общества христианского стремления молодых людей (ну или типа того, биографию см. тут), решил с женой в 1900 году проехать из Бостона в Лондон не как все люди (через Атлантику или даже Америку, Тихий и Индийский океаны), а напрямик - по еще не вполне открытому и даже достроенному Транссибу. Логика была такова, что многие не переносят морских путешествий, да и вообще надоело - так, типа, все ездят, толпами, а тут можно объехать вокруг света исключительно силой пара. Представляете? Нас повезет современный Пар (даже там, где дороги еще нет - от Хабаровска до Сретенска - это будут речные пароходы)... Сказано - сделано. Дополнительной остроты придавало ограниченное время - в общем и целом на путешествие от Владивостока до Лондона Кларк положил себе 44 дня.
Получилось эдакая жюльверновщина, написанная изысканно-банальным слогом того времени и по необходимости поверхностная (мы же Филеас Фогг или кто) и забавная (например, американец сталкивается с совершенно невскрываемой системой кодировки - русским языком - и рассматривает его исключительно с точки зрения его декоративности), но вместе с тем документально точная (сколько что стоит, как что устроено) и полная живых картин, колоритных деталей и вполне проницательных замечаний и рассуждений о геополитике, общественном устройстве России и ее нравах. Ни грана христианского проповедничества, но много уважения и интереса к новой для автора культуре ("сибирской"; автор, заметим, судя даже по его библиографии, путешествовал изрядно), а бонусом - появление наших старых знакомых, консула США Гринера и - та-дамм - Сары Прей.
Рассказывать можно долго, но лучше читать самим - книжка издана по-русски, при желании добываема и в ней много картинок.
Что у них внутри?
"Осмотр склепов", Эрик Маккормак

Некоторые рассказы из этого сборника — первой его книги, которая долго меня бежала, — потом вошли в романы (и не только «Грустные рассказы в Патагонии», вшитые потом в «Мотель Парадиз», есть и еще мотивы). Маккормак — великий мрачный фантазер, продолжатель долгой традиции страшных рассказчиков от По, Бирса и Ирвинга до Борхеса и Кортасара. Дело даже не в сверхъестественном и/или готически-ужасном, оно-то как раз относительно незначимо, не в саспенсе, хотя его местами хватает, а в причудливых извивах и спиралях литературной фантазии. Для Маккормака нет запретных сюжетов — как в рассказах его нет нравоучений, нет выводов или ответов на вопросы, почему, зачем и как. Чистая гениальная фантазия, ничем не сдерживаемые ее налеты и порывы. Если бы Александр Грин был писателем получше, он бы мог стать Эриком Маккормаком.
Неприукрашенные отходы
"Плотницкая готика", Уильям Гэддис
 Этот спуск в ад в вихре мусорных синтагм требует такого же неистового темпа чтения — «Плотницкую готику» лучше всего читать в реальном времени, не отрываясь на сон, еду и прочие занятия. Потому что иначе воздействие как-то стушевывается. Но вряд ли сейчас кто на такое способен.
Этот спуск в ад в вихре мусорных синтагм требует такого же неистового темпа чтения — «Плотницкую готику» лучше всего читать в реальном времени, не отрываясь на сон, еду и прочие занятия. Потому что иначе воздействие как-то стушевывается. Но вряд ли сейчас кто на такое способен.
По сравнению с «Джей-Ар», третий роман Гэддиса — вещь практически камерная, эдакий музыкальный нуар (упс, мне кажется, получился спойлер), прозрачная и гораздо более доступная для понимания. Однако пристальное внимание Гэддиса к мелкому мусору неинтересных американских жизней — то же самое, что у Дона Делилло в «Белом шуме», — конечно, создает определенный комический эффект, но в этом и перчатка, бросаемая читателю. Он вообще пишет не для слабонервных или брезгливых и полностью отчуждает свои тексты от нашего сострадания. Но, по сравнению с Делилло, все это звучит гораздо убедительнее, потому что у Гэддиса гораздо меньше литературных фильтров — он не «пишет» линейно, он конструирует из detritus unadorned.
Интересно еще и другое. Особенность текущего момента на этих территориях такова, что практически все читаемое из нормальной литературы, воспринимается как актуальный комментарий к этому самому моменту, вне зависимости от того, когда было написано. Так и тут. Наступление темных веков, клерикализация сознания, мракобесие под видом образования. Штаты это пережили полвека назад (переживают и сейчас, но не с такой остротой явно), а .рф из этого состояния не выберется, видимо, никогда. Влияние жупела, будь то марксизм или православие, на массовое сознание соотечественников по-прежнему огромно. Это для любой власти очень выгодно, конечно, — такая манипуляция сознанием в массовом масштабе. Об этом, в частности, нам рассказывает и «Плотницкая готика».
Африка ХХ века в романе — довольно точный образ того, что происходит сейчас между .рф и Украиной: полностью оболваненное население пытается выжить под натиском обезьян с ракетными комплексами с обеих сторон. Гэддис отчеканил по этому поводу прекрасную формулировку: «Глупость — сознательно культивированное невежество». Невежество лечится, глупость — нет. Ко всему относится, между прочим, хоть это знание и не утешает.
Я к вам пишу, чего же боле...
"Письма Томасу Пинчону и другие рассказы", Крис Итон

Книжка рассказов канадского нео-фолк-рокера нулевых — как внятная музыка этого поколения художников. Вроде бы ничего нового, но все очень хорошо сделано: антураж на месте (включая экзотическую науку и обскурную историю), двойное дно есть, острота и некоторая душа присутствуют (в смысле «написано с душой»), расставлены правильные метки (Пинчон, например), есть ирония и самоирония. Нет только искры священного безумия, wild abandon, но и почти вся музыка сейчас такая — у нас постмодернизм на дворе или как? Также несколько смущает некоторая доля излишнего самолюбования, но, по правде говоря, это не очень раздражает — у нас еще и культурная экономика внимания, в конце концов. Самый большой минус — нет обалдения перед страницей, не хочется влезть между строк и понять, в чем же волшебство текста. Но волшебства сейчас, наверное, нигде не сыщешь…
Да, Томас Пинчон там — эдакий «макгаффин», в контексте смешной, но особой роли не играет. Больше всего Крис Итон все же — верный наследник Доналда Бартелми.
Бит не стихает
Наш литературный концерт о битниках, с ними и не только
Сегодня немного вернемся к корням — и вспомним т. н. «неизвестную таинственную группу 60-х годов». Историю ее рассказывает вот здесь Артем Липатов, а дорога нам она, в частности, своей песней «Барроуз в Мексике»:
Продолжает тему Эрик Андерсен — прекрасной композицией «Бит-авеню»:
Пока мы смотрели в другую сторону, «Экспериментальная фабрика Вишала» создала прекрасный трек «Единственная правда — музыка», на текст Джека Керуака:
Пока мы ждем продолжения ПСС Керуака, недурно вспомнить, что английская группа «Felt» в 1988 году выпустила пластинку, названную в честь его не самой очевидной повести. Вот она:
А вот название группы «Тонкая белая веревка» Гаю Кайзеру продиктовал Барроуз — у него в «Нагом обеде» так называется вообще-то сперма:
Ну и вот еще литературно-музыкальная композиция от «Les vagues rochers» — Барроуз читает из «Торчка»:
А это дань Жени Любич протобитнику Херманну Хессе и его Степному Волку:
В России вообще, как известно, были и остаются свои битники:
…поэтому вот вам еще один образчик — Раскольников, как известно, тоже слышал музыку революции:
О соответствиях американских битников каким бы то ни было другим вообще можно долго разговаривать и ни к какому единому мнению не прийти, но не провести совсем уж никаких параллелей между той компанией трагических разгильдяев и Силвией Плат, мне кажется, нельзя:
И еще один трогательный трибьют ей заодно:
Ну и раз мы окончательно сдвинулись к поэзии вообще — вот Роберт Данкен, поэт «сан-францисской школы», читает на концерте «The Band» в 1976 году:
А за ним — почти совсем уже пост-битник, Неприостановленный Фрэнк Рейнолдз (напоминаю, действие происходит на рок-концерте):
А продолжает эту поэтическую врезку великий Лоренс Ферлингетти:
Ну а вот этот человек, Кеннет Пэтчен, никогда, в общем, не считал себя битником, но именно он начал читать блюзовые стихи под музыку, сотрудничал с Чарлзом Мингусом и Джоном Кейджем, и без его безумного разнообразного творчества бы не было нескольких последующих поколений поэтов и прозаиков на всем земном шаре:
Вот он же с Джоном Кейджем:
А вот так, напомним, со Стивом Алленом читал Джек Керуак:
И по традиции мы заканчивает широколитературной песенкой — на сей раз о священной глоссолалии. Сегодня у нас все о ней, так уж вышло:
Немного о кирпичах
"Страна возможностей необычайных", Александр Клягин

“Если бы кирпичи делать было выгодно, евреи из Египта не ушли бы”.
Вот еще один раритет от прекрасного н-ского издательства (и опять тираж всего 500 экз.). Записки туриста Приамурского края, по сути, с незначительными экскурсами в Приморье, но все равно крайне занимательно и рекомендуется. Бог весть почему обласкал Клягина Бунин (и немаловажный вопрос, на чем Клягин разбогател - не приамурское ли тут золото приберег он на покупку отеля "Наполеон"? и не финансировал ли классика русской литературы в его преклонные годы?), но книжка написана хорошо. Умилительны даже недовспомненные фамилии владивостокских предпринимателей ("Альбертс", "Сидельский"... кстати, тайна крепости и жизненной силы Скидельского разгадана - женьшень дядя трескал как подорванный до старости). В общем, прекрасная маргиналия для любого краеведа долин и взгорий. Ну и весьма забавны его этнографические, экономические и геополитические рассуждения. Сецессионизм свойственен Сибири и Дальнему Востоку испокон веку.
Записки авантюриста
"Судьба авантюриста. Записки корнета Савина"

Книжка очень рекомендуется всем, хоть и раритет (тираж 500 экз., издана в Новосибирске), потому что это круче любого Казановы и Калиостро. "Сын турецкоподданного" тоже от корнета Савина пошел - первый редактор "12 стульев" Регинин был с ним хорошо знаком. Мне, конечно, интереснее всего было читать про его похождения на ДВ, о которых я знал, из каковых соображений и купил книжку, и там они есть - в изложении Крымова (в Японии) и Юрия Галича (собственно во Владивостоке). Вот только не помню, писал ли кто из владивостокских историков о Савине. А ведь тема преинтереснейшая: баллотируясь на пост министра финансов правительства братьев Меркуловых, он, к примеру, предлагал сделать разменной монетой медные пуговицы с солдатских мундиров. Свои планы захвата Индии тоже во Владивостоке разрабатывал. И читал порнографические лекции о своей жизни. Это не говоря уже про 10 тысяч страниц литературных трудов, которые вполне могли остаться где-то там - Владивосток в начале 1920-х годов был последней крупной остановкой Савина перед Шанхаем и смертью в Гонконге. Так что имейте в виду, искатели литературных сокровищ.
Продолжение саги
"Суета Дулуоза", Джек Керуак

Это роман «про футбол и войну». Понятно, преувеличение и кокетство автора, потому что он еще и про знаменитое убийство Каммерера, и про начала «битников», и про много что другое. Но первая треть — действительно почти исключительно про футбол и стоны о том, как нашего героя недооценивали на поле. Более нелепого идиотизма мне читать, наверное, не доводилось, это действительно, видимо, худшее из им написанного. Но стоит продраться сквозь эту первую треть — и дальше все будет хорошо, а под конец и вовсе прекрасно.
И трогает здесь (ок, даже в первой трети) в первую очередь то, что Керуак (о чем как-то не очень много говорят даже специалисты), и был, и навсегда остался писателем иммигрантским. Его восторг перед Америкой — это восторг чужака, аутсайдера, пришельца. И спорт в его жизни — в значительной мере от того, что «так принято» в чужой стране, что у спортсмена больше шансов выбиться из низов «в люди», срастить себе образование и уважение окружающих, старших и преуспевающих, стать «как все». Так было всегда. И в регистрации этого нехитрого факта — большая ценность этого литературно-исторического документа.
Взгляд из-за грани
"Космологический глаз", Хенри Миллер

Сборник пламенной публицистики — чем пламенней она, тем лучше. Единственный недостаток — понадергано из разных мест. Но запальчивая риторика Хенри Миллера очень увлекает, и не могу сказать, что не разделяю его взгляда на многое даже теперь, спустя 80 лет. Он в своих текстах об Америке, в частности, — как дон Артуро с его «намерением оскорбить». Иногда Миллер — брюзга и зануда, но даже grumpy old man-ом он искренен, и это отнюдь не поза.
А вот небольшим открытием для меня стал здесь Миллер-кинозритель, -критик и -писатель. Он убежден, что все лучшее снято до 30-х годов, дальше было только хуже (за редкими исключениями, например — Бунюэль). Опять же, хорошо, что он не дожил до многих образцов кинематографа нынешнего времени, которым лучше бы и на свет не рождаться. А кинематографичность его зрения — от сюрреалистов и того же Бунюэля. После же — становится ясно, кому обязан своими текстами Барроуз (среди прочего).
Ну и очень любопытный текст про Х.Д. Лоренса, в котором речь идет только о Прусте и Джойсе. По нему, как раз, очень хорошо видно, насколько сам ХМ принадлежит XIX веку, насколько он традиционен и квадратен. Джойса он замеряет лекалами прошлого — и оттого не понимает, что Джойс весь про будущее, не видит, насколько Джойс опережает свое время (а речь идет о 30-х годах, когда "Финнеганы" еще не дописаны и называются «Работой в работе»). Это не глупость, как у многих критиков Джойса того времени, — это тотальное биологическое несхождение видов. Джойс, писавший общечеловеские романы ("Улисс" — для ХХ века, "Финнеганов" — для далекого будущего), не виден из прошлого, ни в деталях, ни в целом — его следует читать по прошествии времени, даже XXI век еще не вполне готов к Финнеганам. А тут какие-то традиционные ветхие замеры: Пруст-то им соответствует идеально, но Пруст не писал романов в ноосферу. Вот и Миллер, несмотря на всю свою «революционность», иконоборчество, подрыв викторианской этики и прочего (и несомненную свою честность в этом) попался в эту ловушку. Его оценка Джойса читается как хмыканье питекантропа с «айфоном» в руке.
Вообще тема общечеловеческих и вневременных писателей и их проверки временем вполне занимательна, но об этом как-нибудь в следующий раз.
Концерт из чужих окон
Отголоски литературы
Сегодня у нас будет перипатетический концерт. Вот представляете себе то время, когда модно было выставлять в окно колонки и включать любимую музыку — погромче, чтобы весь квартал тоже насладился. Тогда можно было ходить по меломанским районам и слушать, не запариваясь составлять свои плейлисты и микстейпы (правда, тогда и слов таких-то не было). Так поступим и мы сегодня. Не потому что нам лень, а исключительно разнообразия для. Итак:
Вот Лев Ганкин слушает литературного Дэвида Боуи.
А в другом окне у него же играет литературная Кейт Буш.
В окне у Марии Нестеренко все очень серьезно — там играет классика.
В окне у Егора Михайлова — практически сплошной Толкин.
У Александра Беляева — свой литературный концерт, крайне занимательный. Все эти люди не ленятся также рассказывать истории о песнях и других произведениях.

Но самый любимый и продолжительный играет из окон Кристиана Хэнгги — он собрал плейлист по всем романам Томаса Пинчона, там шесть страниц, наслаждайтесь.

Такой же плейлист существует и по романам Харуки Мураками. Это не говоря о музыке из его личной джазовой коллекции.
И вот в этом оживленном жилом районе, где из каждого дома и окна играет литературная музыка, мы натыкаемся на книжный магазин — он, конечно, тоже особенный, потому что в нем играет свой собственный оркестр. Мы уже с ним встречались — это «The Bookshop Band», у них все песни о литературе. Авторы с ними тоже выступают - например, сам Луи де Берньер играет на мандолине капитана Корелли, ну где вы еще такое увидите:
И по традиции закончим нашу прогулку одной из самых литературных групп на свете — конечно, «Авторами». С песней про… нет, не китайскую булочную — про книжный магазин, разумеется. Хоть и государственный:
По-моему, неплохо погуляли — попинали опавшую листву. А теперь — за чтение! С вами бродил Голос Омара.
Об эпистемологии и марионетках
"Лабиринт мечтающих книг", Вальтер Мёрс
«Эпистемология и марионетки несовместимы». Ха! Еще как совместимы.
Продолжение незамутненного библиофильского восторга — сказка о книгах, писателях, издателях, читателях, особо всем книжном и околокнижном, а заодно вполне ехидная пародия на литературный, художественный и книгоиздательский мир. Бесценно, потому что фантазия Мёрса поистине безгранична, и многие прочие авторы-рассказчики из нынешних в сравнении — просто школьники, ковыряющие в коллективном носу.
Единственный облом — это первая книга дилогии, а то и многологии. Весь экшн будет явно дальше, а «Лабиринт» заканчивается клиффхэнгером и на самом интересном месте. Эту книжку автор, похоже, еще даже не написал. Разыгрывает гамбит Клайва Баркера, не иначе.
Да, ну и не забываем, что на англо не переведена еще вторая книга Замонийского цикла. На русском три жалкие книжки (из них только две из цикла) существуют в версиях, сделанных какими-то равнодушными ремесленниками, рекомендовать не могу. Читайте лучше оригинал или английские переводы гениального Джона Браунджона. С выходом этой я не уверен, что подход изменился, см. в очередной раз искаженную фамилию автора.
Пистолет у виска читателя
"Джей-Ар", Уильям Гэддис

Легко понять, что после прощания с ХIХ веком в «Узнаваниях/Распознаваниях» методами модернистского романа, разборкам с веком ХХ-м придется подобрать какую-то другую методику. Оттуда сложно было двигаться куда-то дальше экспоненциально, необходимо что-то иное. Но Гэддис пошел по пути еще большего дробления и членения смыслов, к фрагментации и фрактализации. Поэтому «Джей-Ар» — это уже не Босх, как рисовал нам автор в первом романе, не многофигурное полотно, перерастающее в комикс, но остающееся в одном пространстве холста, а огромный коллаж Раушенберга, склеенный в стрип, который местами закручивается лентой Мёбиуса… Я понятно? Мне кажется, да, ключ к Гэддису — в живописи, не знаю, исследовал кто-то эту тему или нет. Но неистовый и лихорадочный темп диалогов — не для всякого читателя, это правда. Автор часто бредит в горячке, как и его персонажи, как их прототипы и само время, с которым Гэддис разбирается. Все это излагается неаттрибутированными диалогами.
А второй такой же пистолет у читательского виска - его роман "A Frolic of His Own".
О единстве формы и содержания
"'А' упало, 'Б' пропало... Занимательная история опечаток", Дмитрий Шерих

Книжка пустяковая, компилятивная, небрежная и развлекательная — собрание анекдотов про опечатки, не претендующее на глубину и рассчитанное на «широкого читателя». В случае с Джойсом не упомянута даже его судьбоносная опечатка в названии "Finnegans Wake", а уж куда анекдотичнее, трагичнее и показательнее, казалось бы. И, в том же случае Джойса – да, автор сделал это! – черным по белому в книжке написано «выдающийся шотландец Джеймс Джойс». Есть и другие опечатки, куда ж без них. В общем, сплошное верхоглядство. Зато изобильно представлены советские опечатки во всяких многотиражках и детальная полемика марксистских графоманов Аксельрод и Богданова. Это вот зачем, я вас спрашиваю? Но занятно и местами весело, это правда, так что не будем судить автора слишком сильно. Он попугай на жердочке, предназначен для нашего увеселия.
А особенно душеполезна книжка теперь, когда верифицируемой реальности попросту не существует. Особенно политической. Страницы о подтасовке результатов голосования в «Правде» при борьбе сталинистов и троцкистов, которые автор числит по классу «намеренных опечаток», читаются как сводка с нынешних выборных полей — только сто лет назад марксисты делали это изящнее. Нынешней сволочи до них далековато.
И, наконец, утешительнее всего была приведенная цитата из Дмитрия Писарева: «Иные критики придираются к шрифту и опечаткам по неспособности к более серьезной умственной деятельности». Актуально как никогда.
А не то, что вы подумали
"Американский хипстер", Хилэри Холадей

Очень бережная и даже трепетная биография человека, без которого бы не случилось битников. И это не преувеличение, потому что значение Херберта Ханке, больше известного под именами десятка персонажей у Керуака, Барроуза и Джона Клеллона Хоумза, переоценить трудно. У битников, как известно был битый ангел — Нил Кэссади, — но был и битый призрак: вор, жулик, полинаркоман-рецидивист, бисексуал и великий артист разговорного жанра. Ну и писатель, конечно. Это и был Ханке, который ввел молодежь (Гинзберга, Керуака и Барроуза) в мир альтернативной низовой культуры. Не было в ХХ века другого человека, который вдохновил бы собой целую литературу в одно рыло.
Пить, курить, ебаться и пользоваться наркотиками наш герой начал примерно одновременно — лет в восемь. Разговаривать — гораздо раньше. Дожил до 81. Убили его не наркотики — он просто устал, судя по всему. Достоинства при этом не потерял. Один из плюсов этой биографии — она и не пытается лишить Ханке достоинства, хотя сделать это довольно просто, учитывая количество неоднозначных фактов в его жизни.
А другие плюсы вот: зарождение битого поколения показано в контексте — до и после. Поначалу это увлекательное путешествие по неизвестным или малохоженным районам американской перпендикулярной культуры — например, художественно-анархистская тусовка Чикаго в конце 20-х годов, связь позднейшего андерграунда не только с маргинально-уголовной, но и с карнавально-фриковой субкультурой. Клочки паззла собираются в цельную картинку. Ханке был истинным битником и эпитомальным хипстером (да, нам объясняют, что это такое — известные ныне писатели к этому отношения не имеют, они тогда если не пешком под стол ходили, то гуляли по 42-й улице, как на экскурсии, а не жили там; про нынешнюю молодежь даже говорить не стоит. Норман Мейлер понятие хипстерства проституировал) — и было это в конце 20-х — 30-х годах, а не тогда, когда мы все привыкли думать.
Напомню, что действие практически всех главных бит-романов происходит сразу после 2-й мировой — в середине и второй половине 1940-х. Подлинный расцвет битничества пришелся на 30-е, времена Великой депрессии, и большинство тех городских бродяг, сезонников, уличных бомжей, воров и грабителей, кто имеет полное право называться битниками и хипстерами, остались невоспетыми и неупомянутыми — Ханке тут исключение. Удивительная параллель здесь в том, что единственным подлинным битником в русской литературе, наверное, может считаться Веничка Ерофеев. Потому что его определяет то же самое - он живет за краем квадратного мира из тяги к внутренней свободе. Пьет из стремления к трансцендентности. Далее может последовать монолог произвольной длины на тему "Жить недолго, но ярко и оставить по себе симпатичный труп", но не станем - к тому же Ханке этот тезис своею жизнью опроверг.
Потому что после череды исторических встреч насельника улиц Ханке и творческой молодежи в 40-х годах нам рассказывают, о том, как умерло «движение», как его пытались оживить, как из этого, конечно же, ничего не получилось, невзирая на шум вокруг и не выходящие из печати книжки. И это самая грустная часть истории — жизнь после. А дело просто в том, что молодость прошла, только и всего.
Ловкий автор
Две книги Романа Шмаракова

"Овидий в изгнании" - восхитительный филологический капустник, многослойная карнавальная матрешка и нескончаемые американские горки с фейерверками и кордебалетом. Читательская реакция - от хохота в голос, от которого в зобу дыханье спирает, до испанского стыда за шуточки автора, от которых весело примерно только ему. Но очень развлекает - даже не столько как угадайка культурных кодов и реалий, сколько извивами сожетов и монтажом приемов, флэнн-о-брайеновским абсурдом и архетипической авторской невозмутимостью. Особенно при дефиците подлинного смешного на русском языке "Овидий" совершенно бесценен.

"Под буковым кровом" - коллекция виньеток вполне декоративных, упражнение автора в стиле. Хотя эпохи и страны показаны нам разные, написано все несколько монотонно в этой кучерявости, как мне показалось. Но автор умеет много чего со словом. Отчасти напоминает чудесные рассказы Гая Давенпорта - но не так глубоко - и короткую прозу Рикки Дюкорне - но не так скандалезно. Развлекательно и рекомендуемо.
Немного нуль-родины в песнях и танцах
Литературный концерт об Ирландии
Это, понятно, не исчерпывающий обзор, потому что другой настолько литературоцентричной страны еще надо поискать. Здесь у нас будет то, чего не было раньше, и чего не будет потом (а потом еще будет).
Ну а начнем мы с маленькой экранизации «Поющих Лазаря» Флэнна О’Брайена, созданной в городке Страбане:
Название этого маленького романа — вообще тема плодотворная, и русская версия его все-таки — нежданный подарок судьбы для музыкантов. Вот паб-группа «Поющие Лазаря»:
Есть и такая песня — и не одна. Вот радикальная:
Вот не такая радикальная — но все о том же, о «бедном рте»:
Это кавер на классическую и любимую песню Берта Янша — вот и она:
Бессмертный роман ирландского писателя Брэма Стокера о бессмертном персонаже тоже обрел свое воплощение в музыке:
А Карла Бруни спела Йейтса — и она была не одна такая:
Этот шотландско-ирландский коллектив (из любимых) тоже пел Йейтса, и не раз:
Лорина Маккеннит тоже пела это стихотворение:
Есть и хоровое исполнение, академическая версия Эрика Уитэйкера:
А вот камерное исполнение того же стихотворения:
Но мы отвелклись и вернемся к «Водоносам» — вот еще одно стихотворение Йейтса, «Любовь и смерть» (которые всегда вдвоем, как известно):
Майк Скотт 20 лет трудился над концептуальным альбомом «Свидание с мистером Йейтсом», в котором положил на музыку сколько-то его стихов. Пластинка вышла в 2011 году. Вот он целиком, наслаждайтесь:
А вот в этой их знаменитой песне спрятаны цитаты как из Йейтса, так и из Джойса:
Но продолжать можно примерно бесконечно, а наш сегодняшний концерт мы завершим песню о писателях вообще — вернее о техниках писательского мастерства:
Нам, впрочем, это заболевание не грозит — по крайней мере, еще очень долго. Не отключайтесь от Голоса Омара.
Русские идут
"Наши за границей", Николай Лейкин



Из всей серии я читал эти три, чего и вам желаю. Пара отвратительных идиотов ездит по Европе. Само по себе это совершенно не смешно, потому что за минувшие сто с лишним лет европейская цивилизация и Бэдекёр-ленд почти не изменились, русские туристы про сути и в массе своей - тоже. Лейкина надо переводить на всем мыслимые языки и продавать в странах, куда ездят русские, ради образования и просвещения местного населения.
Во второй книжке наших героев опять двое и едут они в другую сторону. Это по-прежнему те же тупые и недалекие ксенофобы и антисемиты, муж к тому же - мизогинист, жена - глупая овца. Их интересует лишь то, что можно сожрать и выпить, предпочтительно - русского происхождения и в больших количествах. Поскольку это не карикатура, а типически выведенные русские, по-прежнему совершенно не смешно. Забавнее те, кто встречается им в пути, вроде болгарского прокурора или американско-еврейского турка-фиксера, но этого недостаточно, чтобы считать книженцию юмором. А педагогический пафос автора пропал втуне, потому что и через сто с лишним лет русские туристы, как говорилось выше, остались точно такими же в массе своей. Стоит оказаться в местах их массового скопления, и вы убедитесь сами.
Третья книжка. Три отвратительных идиота... все прочее см. выше. На дворе 21-й век, а за окном все то же.
Что там за личиной?
"Сокрытые лица", Сальвадор Дали

Очень традиционный, куртуазно-мовистский, буквально по канону написанный "истинный роман" середины прошлого века - уже тогда стилистический устаревший, ибо слишком уж живописен и курчав от кружев. Но если к нему подойти беспристрастно и присмотреться, обнаружится второе дно (и не одно) - вполне согласно названию. Чтобы избежать спойлеров, скажу только, что в нем есть и евгеника, и алхимия, и конспирология, и криптоистория, и паранойя. То, что от нас скрыл Хемингуэй, происходит в закулисье Пинчона. Так что это вполне честная попытка создания "энциклопедического романа", отталкиваясь от традиции романописания XVIII-XIX веков - а насколько она удалась, вопрос отдельный. Сам же по себе текст настолько архетипичен, что хоть в средней школе изучай.
Совсем иные глаза
"Иными глазами (Очерки шанхайской жизни)", Наталия Ильина

Крайне любопытный осколок маньчжурской литературной атлантиды - того, собственно, что уже происходило практически на излете эмиграции. Чемоданное настроение автора чувствуется: без "родины", сколь угодно превратно понимаемой, никуда, а тут все обрыдло. Через год после выхода этой книжки Ильина "репатриируется". Здесь очень хорошо чувствуются две вещи: вполне изгойский кураж, я бы решил, свойственный многим художникам "дальневосточной ветви" (все равно как и куда, главное - поперек главного русла, вопреки традиции и канону); и непреходящая трагедия продажного пера.
Дополнительное чтение - интервью сестры.
Фантазии какого-то Фарятьева
"Человек, который убил Гитлера", Рут Ландсхоф-Йорк, Дин С. Дженнингз, Дэвид Малколмсон
 Образец параноидальной прозы первой половины прошлого века. Сама история книжки крайне занимательна - особенно тем, что практически неизвестна, а про историю этого перевода известно еще меньше, т.е. практически ничего. Он интуитивен и в силу этого обаятелен, как многие работы того периода, но прелесть его, разумеется, не в этом, а в красоте самого деянья.
Образец параноидальной прозы первой половины прошлого века. Сама история книжки крайне занимательна - особенно тем, что практически неизвестна, а про историю этого перевода известно еще меньше, т.е. практически ничего. Он интуитивен и в силу этого обаятелен, как многие работы того периода, но прелесть его, разумеется, не в этом, а в красоте самого деянья.
История вопроса вкратце излагалась в "Букнике", за мелким вычетом - основной автор, Дин Дженнингз, вполне известен. Малколмсон был литературным критиком из Санта-Моники, который и придумал написать эту повесть на материале личных впечатлений Рут Ландсхофф, бывшей графини Йорк. Анонимность, как мы видим, долго не продержалась, чего не скажешь об истории "шанхайского" перевода. Наталия Ильина? Она уже тогда была настроена вполне просоветски, ну уж во всяком случае - антифашистски, у нее была прикормленная типография, и она подвизалась в литературе. В общем, еще одна книжка ХХ века, которая вызывает больше вопросов, чем предлагаент ответов.
Крупные формы
Литературный концерт о, собственно, крупных формах
И начнем мы его с замечательного проекта английского блюзового гитариста Майка Купера, который называется «Песни духа»:
Если не очень понятно, то вот что он делает: вдохновившись Уильямом Барроузом и Брайоном Гайсиным, он насобирал слов (разных) из «Радуги тяготения» и «V.» Томаса Пинчона — и вот что у него получилось. Чем не песни духа?
А вот это — проект композитора Гийома Кошар-Лемуана, вдохновленный «Сагой о живых кораблях» Робин Хобб, практически звуковая дорожка к еще не снятому фильму:
Другая крупная форма — понятно, концептуальный альбом сиречь сюита. «Tangerine Dream», «Ангел Западного окна» по Майринку:
«Лайбах» не так давно выпустил еще одну концептуальную работу — «Так говорил Заратустра», известно, кто автор. Вот как это выглядит:
Вот еще один амбициозный проект — лос-анжелесская «опера на колесах» «Игра в классики», тоже известно чем вдохновленная. Из этой нарезки, в общем, можно понять, как у них там все устроено:
Еще один композитор, работающий в крупных форматах, — Кристофер Черроне, он написал оперу «Невидимые города» по Итало Кальвино:
А другая его работа тоже насквозь литературна — она создана по мотивам «Лота 49» Томаса Пинчона — ее можно найти здесь, вместе с другими безумными работами.
Еще одна новинка сезона — опера «На маяк» по Вирджинии Вулф. Она не первая — лет десять назад была и другая опера по этому роману, но, судя по всему, неудачная. Как бы то ни было, никаких осязаемых следов обеих нам отыскать не удалось, поэтому можно насладиться вот таким трибьютом этому роману, созданным композитором Нилуфаром Нурбахшем:
Но самое любимое масштабное произведение сегодня у нас — опера известного Дэймона Олбарна по мотивам «Алисы в Стране чудес»:
Ну и вот примечательное: Билли Коргэн (тоже известный) вдохновился «Сиддхартхой» Херманна Хессе на 8-часовой джем. Выглядело это так:
Ну и в заключение, по традиции, — общелитературная песенка. О глоссолалии:
Не забывайте читать книжки и говорить на языках. С вами был Голос Омара.
О настоящей жизни
"Дни в Романовке", ред. Нина Керчелаева

Бесценный альбом (с адским, правда, макетом), выпущенный в программе "Первая публикация": здесь уникальный изобразительный ряд дополняется сотканным из разных голосов повествованием о "народной" и ненасильственной колонизации Маньчжурии еще в середине ХХ века. Староверы - это такая капсула времени, и легко понять музейных работников, которые истово собирают все, с ними связанное. Сама история этих фотоматериалов - довольно показательный случай возможности сосуществования "колонизуемых" с "колонизаторами" (колонизуемым китайцам слова, правда не дали, но вторая волна колонизации - японцы - училась у первой - староверов). Впрочем, вся эта идиллия закончилась с приходом советской власти и рассветом красного Китая, которому все было похуй. Дополнительный бонус - необработанные цитаты из воспоминаний, изложенных таким языком, что ни одному столичному писателю этот диалект не эмулировать.
Шпионские страсти
"Россия на Тихом океане и Сибирская железная дорога", Зеноне Вольпичелли

Вольпичелли, он же "Владимир" - очень хороший популяризатор и талантливый компилятор, а кроме того, предполагается, - английский шпион. Начинается его отчет с довольно краткого и вполне в силу этой краткости бестолкового очерка истории государства Российского, продолжается более подробной историей освоения/колонизации Сибири и Дальнего Востока, в котором, по традиции, особо отмечается и роли отдельных личностей (среди которых первое место занимает, конечно, Муравьев-Амурский) и приводятся разные забавности и технические подробности: например, что в конце XIX века в Сибири особого устройста речные паромы называли "самолетами"; или история о проекте 1857 года проложить линию конки от Москвы до Тихого океана (ну а что - угля в Сибири добывается мало, а лошадей - 40 000). Заканчивается книга экономическим очерком, обосновывающим необходимость Транссиба (еще не достроенного в момент написания этого сочинения) и политологическим трактатом, обрисовывающим ситуацию на ДВ перед грядущей Русско-японской войной. Рекомендуется как внятный исторический артефакт.
В погоне за миражом
"Катаев. Погоня за вечной весной", Сергей Шаргунов

Решил побыть со своим народом (тм) и прочесть. Сразу скажу — не пожалел. Кто такой Шаргунов, я не очень знаю, и ничего у него больше не читал, но Катаева он любит, это видно — и в этом один из плюсов книги. Написано все с тем градусом повествовательного раздрызга, который, видимо, призван эмулировать «мовизм» самого Катаева. Поэтому в результате получился отнюдь не «гомогенный плоский нарратив» (опять же, тм), что отдельно приятно, а некая мозаика мнений, голосов, опять мнений, отрывков, фактов, фактоидов и прочего набрызга, из которого фигура собственно Катаева то ли проступает, то ли нет. Сам голос биографа в книге сведен к минимуму необходимых обобщений (их немного, и потому они бросаются в глаза), но, в общем, не толкований, что тоже вполне достойно само по себе, а привычного нам с детства связного повествования не монтируется. И это тоже хорошо — читателю остается пространство для дыхания и мозгового маневра.
Исходно понятно, что в таких биографиях, написанных потомками сильно после рассматриваемой эпохи, неизбежно происходит некоторая пересборка культурного кода. С одной стороны Шаргунову поэтому следует отдать должное: по кромке времен он прошел вполне изящно, старался быть объективным, а сам не выпячивался. Но сам материал тут таков, что удержаться в рамках приличий довольно затруднительно, это я тоже понимаю. История жизни талантливого советского приспособленца от литературы, написанная по зову, что называется, сердца, — это смесь, которую в неожиданных местах может рвать на части. Любой современный взгляд на былую эпоху, тем паче такую непростую, — он, в силу необходимости, будет бросаться через стекло, а вот видны ли на этом стекле мазки жирных пальцев — вопрос отдельный.
Тут их немного, но они видны. С Вирабовым и его био Вознесенского несколько лет назад случай был вообще шизофренический. Шаргунов же только скатывается до легких набросов на «украинский национализм». С одной стороны понятно — «одесская школа» стала заметным явлением советской литературы, без своих социо-национально-культурных свар там дело не могло обойтись, но в нынешнем контексте они видны как вполне конъюнктурные. В другое время — нет, а сейчас — да. И автор, вместо того, чтобы до конца держаться хотя бы линии «пролетарского интернационализма», выдвигать на первый план «единую многонациональную общность» и т.д., «принимает стороны» и как-то «не одобряет», это видно. Чем только поддерживает отвратительную имперскую доминанту подлинно сталинского мышления, которая у нас, как видно, сейчас в тренде. Иначе, чем услужливым вилянием позвоночника в угоду текущей доктрине, выглядеть такое поведение не может. Повторю, такого — немного, но оно — есть.
Другой оттеночек «социального заказа» (ведь «жить в обществе и быть свободным» и т.д., как мы отлично усвоили, «нельзя»): Катаев явно оправдывается автором как «центрист» и «государственник» (ну и «патриот», понятно… вылезла сейчас у меня фройдова описка — «парториот»). Тем самым блядство и подлость, приспособленчество и двурушничество фигуры как-то уравниваются в правах с тем ценным и хорошим, что эта фигура внесла в хронотоп (пусть этого хорошего и немало). Автор, похоже, удобно забывает другой хрестоматийный тезис: настоящий честный художник — он всегда против власти. Он «сам по себе», да — с этим у Катаева явно было все в порядке, — но еще и противостоит силе, которая на него давит просто потому, что может, потому что, будучи силой, вынуждена укреплять себя и силами другого порядка, творческими. Лично Катаева, верно служившему режиму, допустим, даже вопреки собственным «белогвардейским» убеждениям, оправдывать, конечно, не нужно, как не стоит его и осуждать, но вот оправдывать альянс художника и власти вообще — это конъюнктура и блядство, сколь бы при этом талантлив или субъективно любим художник не был. Как раз такое, по-моему, и невозможно простить.
Несомненно и то, что Катаев во всей своей противоречивости — лучший символ той отвратительной государственно-художественной помойки, которая у нас известна под названием «советская литература». Уж точно — один из самых наглядных (как тот же Вознесенский). А вопросы языка, стиля, его заходы на модернизм, «европейскость» антуража и реквизита (недоступных, как мы помним, подавляющему большинству его верных читателей и преданных поклонников) — это все так, вишенка на тортике. Чтобы при чтении так не тошнило.
постскриптум: vladivostok connection
Сам одесский хронотоп в гражданскую войну имеет немало общего с владивостокским (только культурная жизнь была богаче и разнообразнее – в силу большей близости к столицам империи, легче было драпать от красных), Но этим – и дружбой с Мандельштамом – не исчерпывается связь Катаева с родным городом. Был еще “красный поп” и звезда оперы Василий Островидов, который с конца XIX века по 1914 год служил в Кафедральном соборе Владивостока и был председателем местного отделения Союза Михаила Архангела (это черносотенцы, мои маленькие друзья; сам Катаев, кстати, в детстве был и черносотенцем, и юдофобом, если вы не заметили), но впоследствии, как и наш герой, перекрасился. Вместе с “красным попом” впоследствии Катаева чуть не шлепнули зеленые (т.е. попа-то они шлепнули, а Катаев удрал). Так что вот еще одна тема для местных краеведов и патриотов малой родины. Но меня разве кто слушает?
Изгойские хроники 3
"Поэзия и мистика", Колин Уилсон

По завершении последней книжки в этом заходе отчего стало понятно, до чего вообще философия и художественное высказывание «сердитых молодых людей» устарели и провинциальны. Казалось-то это всегда, еще с университетского курса по зарубежной литературе, но тогда мнение мое было скорее интуитивным, а тут — конкретное подтверждение. Автор всеми своими ластами, правда, отпихивается от принадлежности к «течению», но ничего не поделаешь — оно его все равно уже утащило с собой. Поиски «сильной личности», «нового героя» — до чего они сейчас выглядят наивными и напыщенными. Даже стремление к свободе, личностному росту и совершенству — те же битники, английским изводом которых вроде как были СМЛ, те же Барроуз или Буковски, которые уж точно ни к какому «движению» не примыкали, — насколько у них этот вектор обозначен убедительнее и художественно целостнее, не говоря про достоверность. Да, мы делаем поправку на время, но не может сделать ее на географию: Англия в середине ХХ века была далеким клочком суши на этой карте, которого ветра эпохи не коснулись. Либо тщательно обогнули. Нет в СМЛ подлинной свободы и простора — некуда им податься со своего острова.
Потому-то этот очерк, написанный по заказу Ферлингетти для его издательства «Городские огни», и выглядит диковинным экспонатом в издательском портфеле. О поэзии и мистике в нем, на самом деле, тоже не очень много сказано.
А вокруг — имена, имена…
Наш традиционный литературный концерт
Самое время вернуться к литературным именам — давно мы не обращали на них внимания. Вот некоторые не самые очевидные. Например, прекрасная ванкуверская команда «альтернативного кантри» своим названием взяла роман Кормака Маккарти «Кровавый меридиан» (1985):
В «альтернативном кантри» вообще ребята начитанные. Эти черти из Нью-Орлинза перечитали Стивена Кинга (роман 1987 года):
«Томминокеры», кстати, вообще популярная концепция у хард-рокеров, что не удивительно. Вот еще два примера проникновения их в музыку:
А вот и первоисточник:
Но мы отвлеклись, как это с нами обычно случается. В такой удивительной разновидности музыкальной продукции, как «христианский рок», люди, оказываются, читают массовую литературу (а не только библию). Вот группа «Дьявол носит “Прада”» (по роману Лорен Уайзбергер 2003 года):
Но вернемся к нетленному (нет, мы сами не поклонники «христо-рока», как легко догадаться). Ска и панк нам гораздо ближе — особенно если они читают Джозефа Хеллера:
А вот и маловероятное сочетание — поэма Хенри Уодсуорта Лонгфеллоу «Крушение “Вечерней звезды»” стала названием симпатичной ирландской команды, играющей дум-дрон-метал:
И эта идея, опять же прижилась и не нова: в честь этой поэмы свои песни называли и Джордж Харрисон, и «Проукэл Харум»:
(Тут хотелось бы поставить сноску о наличии во вселенной коллектива под названием «Харе Джорджесон», которую ее тоже поют:)
Конец сноски. Да, я узнал об этом недавно и считаю своим долгом поделиться этим знанием с миром. А вот этот коллектив знают все, потому что в нем пела великая Дженис. С их названием все просто, хотя не все фиксируют в нем присутствие Джорджа Оруэлла (а он там есть!):
Еще один след Оруэлла — в «Министерстве любви», само собой:
Оно же присутствует у «Эвритмики» в их насквозь литературном трибьюте Оруэллу:
А вот эти очень литературоцентричные люди взяли своим названием фамилию крайне маловероятную для музыки:
И еще одно невероятное сочетание, возможное только в век постмодернизма. «Подразделение радости» взято из романа Ка-Цетника «Дом кукол», а вот откуда там «мертвые души» — не очень понятно. Хотя песенку можно слушать и как иллюстрацию к Гоголю:
И последнее, совсем неочевидное заимствование. «Мой химический роман» — прямое включение Ирвина Уэлша и его книги об экстази:
Вот на этой, как говорится, оптимистической ноте переходим к заключительному номеру нашей сегодняшней программы. Сегодня это будет «Танцующий крыжовник» из Владивостока с песней о любви — но нет, не к чтению на сей раз. И даже не о любви к книгам. А о любви книг — к переплетчикам.
У вас в ушах по традиции звучал Голос Омара. Книги навсегда!
Крутим фонарики
«Ленин: пантократор солнечных пылинок», Лев Данилкин

Здорово это Данилкин придумал — хочешь не хочешь, а в год 100-летия октябрьского переворота прочтешь, а то и на премию какую номинируешь. Пересборка культурного кода здесь у него идет вовсю — для «нового поколения», как он сам прикрывается в конце, с применением узнаваемых обломков тэгов, не очень тонкого пикселирования и иконописи, как на обложке. Так что никого особо не обманули — это, конечно, не биография, а квест лично автора, фанфик такой.
Написано бойко, местами — плохо, местами забавно и познавательно, местами прямо-таки смешно (не гонзо-журналистика, конечно, но наследие стиля Лукича присутствует, как присутствует оно в культурной журналистике, например, С. Г. Гурьева, чьими полноправными наследниками можно считать все данилкинское поколение «младотурков»). Автор — явный левак (это чувствуется, даже не зная о нем ничего), шутник и фигляр, неким манером старающийся не столько оживить фигуру вождя пролетариата (уж чего ее оживлять — она и теперь живее всех живых, как известно), сколько оправдать саму идею революции. С прибаутками и анекдотами, корча рожи и показывая фокусы, что служит добротным эдьютейнментом, добавляет книге развлекательной ценности, с тетрисом из аналогий, сравнений, сопоставлений, понятным нашему современнику в 10-х годах. Не он первый, понятно, не он и последний (хотя некоторый флер настающих «последних времен» здесь чувствуется) — и его ЖЗЛ-ка устареет, не успеет закончиться это десятилетие. Такой вот ревизионист, бойко владеющий пером журнального писаки, — и уж во всяком случае это вполне конгруэнтно самой описываемой фигуре, ритору и демагогу с характерным ленинским прищуром и с поправкой на фильтры Инстаграма. И это в данном случае — не комплимент.
Про википедичность знания автора, трудолюбиво и усидчиво растянутого почти на 800 страниц, нагляднее всего говорит чепуха про т. н. «заговор послов» и Большую игру — оно ничем особенным не отличается от общего знания (прямо скажем — неверного) и «партийной линии», даже не систематизировано никаким иным способом. Но то, что Данилкин не особо отходит от этой самой генеральной линии, привычной нам, становится отдельно понятно под конец, когда задаешься вопросом: а что же нам все-таки рассказали? И понимаешь, что все это вполне укладывается в «Краткий курс истории КПСС», включая даже «революционную» догадку о том, что «политическое завещание» Ленина наполовину сфальсифицировано Крупской. Да ладно — нам примерно это же рассказывали еще чуть ли не на уроках истории.
В общем, получилась эдакая глянцеватая версия поп-истории, поскольку к понимаю фигуры и эпохи текст этот мало что добавляет (разве что пару-другую анекдотов, закопанных в недра чьих-нибудь воспоминаний, да пару-другую параллелей с нынешним строем — прямым, как мы видим, наследником предшествовавших строёв). Один из фокусов автора, например, — фигура умолчания, что при такой раздрызганной, псевдопостмодернистской манере изложения проделать вполне легко (даже следить за руками особенно не приходится). Вот автор сообщает, что в марксизме Ленин нашел «сугубо научное» объяснение примерно всего. Сугубая же научность марксизма не подтверждается ни единым словом — да, мы прекрасно знаем, что марксизм действительно претендует на «всеобщую теорию всего» и уподобляется пресловутому дышлу — куда повернешь, туда и поедет. Сам же Ленин нас этому учил — а вот с его «научностью» неувязочка, как и с научностью любой, в принципе, философской теории. Нам ли не знать. Учение Маркса известно почему всесильно. И этот софизм нашим автором принимается как аксиома, а если вы скажете, что в задачи автора не входило так подробно разбирать основы марксизма, я вас отправлю к соответствующим страницам, где Данилкин до тошноты дотошен в том, что касается, например, другого -изма — махизма.
Нет, популяризатор-то он неплохой на своем уровне, да и чувствуется, насколько весело ему самому было в этом копаться (а если это иллюзия, то как раз она автору вполне удалась). Весельем этим читателя он вполне способен заразить (недаром книжка заканчивается своей последней строкой, чур не подглядывать — это не спортивно) — вся революция и подготовка к ней у него выглядят эдаким опасным приключением, в духе советской беллетристики про каких-нибудь Камо или Баумана.
И тут я как читатель об двух, что называется, умах. С одной стороны, тем, кому марксизм со всей своей диалектикой в зубах навязли с детства, дают разлечься за счет школьно-университетской программы. Это, наверное, неплохо — и уж, конечно, ощущается странновато. С другой стороны, разумеется, «не-забудем-не-простим» и все вот это вот, но Данилкин, как бы мы к этому ни относились, по-прежнему осуществляет старый марксистский принцип, подтверждением чему тоже служит последняя строка: «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым». Ведь, если вдуматься, только так и можно избыть в себе свинцовые мерзости нашей истории (и школьной программы). Так что, как ни верти, а выходит как-то правильно. Такое вот дышло.
Один из пунктов респекта и уважухи автору: последовательное (хоть и фрагментарное, вполне верхоглядское, по реперным точкам) изложение генезиса идей. Нам вдалбливали основы, отталкиваясь от fait accompli (в 70-80-х ничто, как говорится, не предвещало): революция свершилась и у нас сейчас все хорошо, вся власть у советов, жить стало лучше и гораздо веселей, стало быть, у Лукича был в голове гениальный генеральный план, только всякие гады ему мешали. Данилкин же как может показывает, что это не так — плана, в общем, не было (кроме «универсальной теории всего», допустим), а точек бифуркации и зрения в происходившем было столько, что потеряться на сквозняках истории — как нефиг делать, и наш бронепоезд (тм) в любой момент мог пойти по совершенно другим рельсам. Или оказаться не нашим бронепоездом. Или вообще не бронепоездом. И вот в такой последовательности изложения таки больше, как мне видится, правды, чем в любых курсах истории КПСС. Такова, насколько я понимаю, и была задача стряхивания с ПСС пыли веков.
Хотя и Данилкина, как видно, оправдание революции подводит к легитимизации советского строя как неизбежности. Ленин у него сам служит этой данности, а ничто не может быть дальше от исторической истины, чем этот тезис — особенно в регионах и на национальных окраинах, в колониях. Представлять историю исключительно как череду узлов би- или полифуркации, конечно, наивно, хотя и для автора, и для его героя последующие события, по большей части, служат подтверждением «правильности» ленинской мысли в каждый момент времени (несмотря на глухие обмолвки в духе: да, за то-то и то-то можно упрекнуть, но так это же время такое было). Хотя мы понимаем, что решения все же обосновываются и диктуются не последующими результатами, а чем-то другим, более, скажем так, сиюминутным. До функционирования в виконианско-джойсовском пространстве мы все же еще не доросли. При переходе к Коминтерну у Данилкина вообще в голосе начинает звучать прямо-таки дугинское евразийство с оправданием имперских амбиций Лукича и их идеологической неизбежности. Он даже Украину привязывает к исконной русскости (с наложением бинтов советизации), хотя, как мы знаем, у титульной укронации на этот счет может быть совершенно другое мнение (а откуда есть — и пить — пошла земля русская, там ни слова не говорится, так что не надо вот этого). Вообще с национальным (и колониальным) вопросом в книге Данилкина все по-прежнему непросто, хотя казалось бы.
Применив ту же ленинско-данилкинскую методику, легко понять, что на долгом пробеге эксперимент все же провалился: советская империя, перезапущенная большевиками из российской со всеми ее идеологическими колониями через 70 с небольшим лет все же наебнулась, поэтому приходится признать, что эксперимент оказался все же напрасен, с каких бы позиций его теперь ни оправдывали и ни легитимизировали. История, конечно, не знает сослагательного наклонения, но и гениальных решений или универсальных рецептов, применимых даже ко всей виконианской спирали, она тоже не знает. Фарс, в виде которого она порой повторяется, — все ж не трагедия. Мир в результате этого эксперимента изменился на ничтожно малый промежуток времени (хотя успел-таки изуродовать мозги нескольким поколениями на 1/6 части суши). Теперь все идет, как оно, в общем, и шло, даже ярлыки вульгарной социологии и экономики не слишком поменялись. Так же обречены, предполагаю, будут и попытки реставрации империи — тем паче на этих жидких идеологических щах нынешней клептократии.
Ленинская прошивка у нас в головах неизбежно (и это — единственная в данном контексте данность, я бы решил) расползлась, и никакие попытки сметать ее даже на такую живенькую нитку, как у Данилкина, с хорошей точностью не удадутся. Но есть одно но — «творчество народных масс»: какая хтонь у них в головах, мы, по-прежнему «страшно далекие от народа», можем представлять себе лишь крайне примерно. Так что «Пантократор» нам рисует более-менее верную картинку: дело Ленина у нас до сих пор известно чем занимается. И от этого — тут автор, конечно, прав — по-прежнему никуда не деться.
Что( )бы почитать…
Наши нерегулярные литературные вести
Новостей вокруг хоть отбавляй, несмотря на лето, вот мы и решили немного отбавить.
Сначала — о велосипедах (да, это тема нынешним летом):

— вот список полезных книжек о велосипедах от «Гардиана»; «Третий полицейский» Флэнна О’Брайена тоже, конечно, присутствует;
— а это чудесная книжка Элинор Дейвис «Ты, велик и дорога»; она с картинками!
Теперь можно и о поэзии:

— англичане осознали, что «Потерянный рай» Милтона крайне востребован в мире последние 30 лет;
— а американцы сообразили, что нужно читать У. С. Мервина и других замечательных поэтов. Это правильно, в нашей жизни должно быть больше поэзии;
— ну и вообще о понимании поэзии.
Музыки тоже должно быть больше.
— самое время знать, что великий Билли Брэгг написал целую книгу о таком жанре, как скиффл;
— а здесь у нас джазовый век в лучшем виде (оставшийся с нами не только в звуках);
— «Америкэн Сколар» опубликовал прекрасный материал о музыке и войне в трех частях (первая, вторая и третья).
Немного теории:

— о «совершенном языке» и нужен ли он;
— о переводчиках, ЛГБТ и о том, что между ними общего (нет, это не в том смысле, что все переводчики — «пидарасы-в-плохом-смысле»):
— вот заодно об издании детской поэзии Маяковского, Мандельштама и Хармса на английском.
Немного искусства:

— интервью с Грантом Снайдером — литературоцентричным карикатуристом-философом;
— в музее «Уитни» сейчас проходит выставка Александра Колдера — мобильного скульптора, у которого был своеобразный роман с Лючией Джойс.
Ну и наконец о любви:

— история о последней на свете компании, производящей пишущие машинки и о библиотечных карточных каталогах.
Вот такая разнообразная литературная жизнь, даже если бросить на нее очень беглый взгляд. Приятного чтения. С вами был Голос Омара.
Изгойские хроники 2
"За 'Изгоем'", Колин Уилсон

Название здесь, конечно, должно быть не "За 'Изгоем'", а "под": это философский очерк, как бы завершающий закладку Уилсоном фундамента "нового экзистенциализма", что есть, по сути, построение базы для "нового эволюционного типа" человека. Для выхода в астрал проникновения на другой план осознанности, приобретения интуитивного знания, роднящего нас с древними цивилизациями, и вообще святой пробужденной жизни, по мысли автора, нужно бухать, ебаться и молиться медитировать, развивать язык и принимать мескалин. Что рецепт не лучше и не хуже множества других.
И все бы хорошо с этой книжкой, если б не постоянное нытье автора про его невостребованность и небрежение критиков. У нашего Очень Опасного Интеллектуала, все больше напоминающего Неуловимого Джо, одна, я бы решил, мировоззренческая проблема, способная начисто перечеркнуть все хорошее, что он местами говорит. а именно - полнейшее отсутствие самоиронии. Ивестно же, что на свете не существует ничего такого, чего нельзя было бы оборжать. А тут автор на полном серьезе бесконечно занимается самоцитированием и способен произнести фразу "мое творчество", не вздрогнув ни единым мускулом. Согласитесь, это несколько подрывает веру в человечество.
Ну и да - это еще одно упражнение в читательском смирении. Во-первых, в очерке этом все философы почему-то выглядят бессмысленными и противными созданиями - уж не знаю, такова ли была задача автора, самого, как известно, не подарочка. А во-вторых, еще раз убеждаешься в полнейшей девальвации слов, которые с ходом ХХ века стали означать все меньше. Крайне уместен тут пример из Бланшара (стр. 58, неск. сокращено), настолько хороший, что грех не привести его целиком:
Сказать, что майора Андрэ повесили, - это ясно и четко; сказать, что его убили, - уже не так четко, потому что мы не знаем, как именно; сказать, что он умер, - еще невнятнее, потому что мы даже не знаем, насильственно он умер или от естественных причин. Если б нам пришлось расставлять писателей по ясности высказывания, у нас, мне кажется, получилось бы примерно так: Свифт, Маколей и Шоу сказали бы, что Андрэ повесили. Брэдли - что его убили. Бозэнкет - что он умер. Кант бы сказал, что его смертное существование достигло своего завершения. А Гегель - что конечная детерминированность бесконечности стала еще более детерминирована собственным отрицанием.
И впрямь все дело в языке. редактируйте себя на ходу, дети, и будет вам счастье.
Изгойские хроники 1
"Изгой", Колин Уилсон

Ну в общем. В конце этой иначе превосходной, хоть и крайне вербозной курсовой работы по сравнительному литературоведению становится ясно одно: в свои 20 с небольшим лет автор открыл для себя радости учения Гурджиева и теперь убежден, что все проблемы западного интеллектуала, которого в населении неизменно бывает 5%, - отчуждение, недовольство, эстетические разногласия с режимом, все, что составляет собственно, "изгойство", - только от недостатка у него в организме Гурджиева. Иными словами, перед нами - просто очень толстая агитка, что, впрочем, не отменяет полезности чтения или перечтения обзираемого в ней канона преимущественно западной литературы, да и некоторые соображения автора - когда он забывает о том, что пишет очень серьезную "книгу про Идеи" (он же, в конце концов, Очень Опасный Интеллектуал), - вполне занимательны. Меня, например, весьма развлекло его маргинальное размышление о том, что "our language has become a tired and inefficient thing in the hands of journalists and writers who have nothing to say". С этим не поспоришь и в смысле "языка родных осин" - поэтому, видимо, так неинтересно читать и современных русских писателей: им попросту нечего сказать и у них "интеллектуальный запор наступает к 50-й странице".
Понятно, кстати, и почему книгу так и не перевели на русский (по крайней мере, я изданий не нашел - многие вообще считают ее "романом"). Если взять часто цитируемую Уилсоном фразу Степного Волка "Человек - это буржуазный компромисс" да наложить на мантру Отца Матери "Человек - это звучит гордо", ясно, что получится...
Короче говоря, крайне рекомендуется пытливым (но уравновешенным) студентам, потому что читать такое нужно очень в молодости.
Распознай меня
"Распознавания", Уильям Гэддис

«Последний роман модернизма», как считается, великолепный и детальный — и очень, очень неспешный. С эпизодами захватывающей дух красоты и музыкальности — и диалогами, не дающими забыть, насколько сейчас обесценилось слово. Роман напоминает все сразу — и Хенри Джеймза, и Драйзера, и Конрада, и Олдингтона. Фактически, это энциклопедия романного жанра конца XIX — начала ХХ веков (с выходами в Джойса, куда ж без него). Эдакое жонглирование тяжелыми пластами романной породы. А на нашу, читательскую, долю остается узнавание и распознавание.
Чтобы избежать спойлеров (и мифологических трактовок), скажем только, что книга эта — в частности, о средневековом примерно художнике, невесть откуда заброшенном в брауновское движение середины ХХ века, с его глубиной (в микрон), искусственностью и претензией. О ХХ веке из романа можно много узнать, и ничто не будет утешительно. В этом бессмысленном хаосе черт натурально тонешь и задыхаешься, мозаика распадается на реплики, клочья, заплаты, и над все этой какофонией парит призрак «небритого мужчины, который может быть Хемингуэем». А что же с другой стороны, спрашивает себя едва не захлебнувшийся читатель. А с другой стороны — выморочные догмы религиозного (не только католического) мистицизма, та же фальшь и подделка (которая как жанр существует со времен Древнего Рима, и автор нам это доходчиво объясняет) — и никакого утешения или спасения. В итоге все мы окажемся в дурдоме, не важно, в какой стране. В матросском костюмчике для семилетнего мальчика, под руинами церкви - оттого, что не озаботились выучить ни одного чужого языка.
Я не уверен, честно говоря, в величии «Распознаваний» как «великого американского романа» — мне кажется, «Радуге» он все-таки проигрывает, — но читательский опыт это хоть куда.
Теперь частное. Вообще, конечно, это книга для переводчиков худла — с постановкой вечных вопросов: как забраться в голову переводимого автора и оттуда, изнутри, что-то воссоздать, пусть на другом языке, но не изменяя этому автору. Это не обязательно делать «так, словно автор бы писал это на русском», — это, мы понимаем, невозможно, потому что переводимый автор никогда не был (и ни за что бы не стал) русским. И вообще давно умер. Перевод же — все равно подделка, с какой стороны на него ни смотри. Придет время — подделают и этот роман.
Держите меня семеро
"Одержимцы. Приключения с русскими книгами и теми, кто их читает", Элиф Батуман

Довольно потешные на первый взгляд записки читателя (и не обязательно писателя при этом). Но это — книжка про книжки, всё, как мы любим, — независимо от того, захочется нам при этом читать великорусскую литературу или нет. Как при любом правильном чтении, повествование постоянно заходит в какие-то тупики, ветвится, мы останавливаемся подобрать всякую фигню по углам, не соображая толком, понадобится это нам или нет. Ракетка Льва Толстого? Ледяной дом? Гусь Бабеля?
Книжка сбивчивая и дендритная — у нее есть начало, но нет и не может быть конца, коль скоро мы не перестанем жить с книжками (а на месте русской литературы, понятно, может, оказаться любая — Штатов, Турции, Зимбабве, Узбекистана, чего угодно). Особой одержимости в ней тоже нет. Это просто наша читательская жизнь перетекает из литературы и обратно.
Парад уродов в ней — как в жизни. Бесы — такие же. Открытия, разочарования, просветления и мгновения непроходимой тупости — тоже, как в ней. И не такая уж она смешная, если приглядеться повнимательней.
Общество укрепления дружбы ирландских и французских литераторов
Наш книжно-литературный концерт о двух берегах Кельтского моря
Сегодня мы решили немного прищуриться, читая книжки, а заодно прижмурить уши (или что еще там с ними делают, когда прислушиваются). Поэтому вот: на нашем пюпитре и в нашем юпитере — Ирландия и Франция. А кто, как никто, символизирует литературу обеих этих стран? Правильно, Сэмюэл Бекетт:
А это почти вся гениальная пластинка, записанная в 1966 году, — «Макгаурэн произносит Бекетта»:

Ирландского актера Джека Макгаурэна сам Бекетт считал одним из лучших актеров для своего театра; ну а помимо него, в записи участвовало трио Бекеттов, где сам Сэмюэл исполнял партию на гонге (это его единственное записанное музыкальное выступление, хотя в жизни он был неплохим, говорят, пианистом). Если повезет, вы его здесь услышите:
Ну а это — один из лучших (и самых смешных на свете) фрагментов из «Моллоя» — о сосании камушков, конечно:
Читающего и поющего Джеймза Джойса мы вам уже показывали (и, кажется, не раз), но вот кое-что новенькое: бюст Джойса читает кусок «Финнеганов»:
Вообще, история про Финнегана — это и есть воплощение ирландской литературы, музыки и самого духа Ерландии:
Вот, на всякий случай, правильная версия:
А есть и такая интерпретация:
Известные электронные прог-рокеры «Мандариновый сон» даже записали некогда сюиту по мотивам романа Джойса:
Начитанные были ребята. А вот, для коллекции, и веселая группа с названием «Финнеганов помин»:
Но ошибкой было бы думать, что в России Джойс остался не воспет. В 2004 году Анри Волохонский, Владимир Волков и Леонид Федоров записали целый альбом — он так и называется, «Джойс»:
Как ирландскую литературу во многом определяют известные поминки, французская по-прежнему находится под впечатлением от дружбы Поля Верлена и Артюра Рембо:
На «Экспериментальной фабрике Вишала» сделали так, что под Рембо, кстати, можно танцевать (наверное):
Но это далеко не единственное произведение, вдохновленное великим торговцем оружия (не только в смысле известного высказывания о том, что «книга на полке — ружье без патронов»). Рембо, к примеру, пел Роберт Уайэтт:
А Джон Зорн посвятил ему целую пластинку:
В 2014 году поющий поэт Эрик Андерсен записал еще один трибьют великой французской литературе — альбом под названием «Тень и свет Альбера Камю»:

Вот одна из композиций с него:
Еще одна фигура, по-прежнему вызывающая всеобщую оторопь, — профессиональный уголовник и гениальный поэт и драматург Жан Жене. Воспет ли он? Воспет — Джастином Вивианом Бондом, как минимум:
Вообще Левый берег Сены — место удивительное, недаром о нем — эта песня Аляна Сушона (с почетными упоминаниями некоторых литературных героев):
И под занавес, по традиции, — песня Жюльена Клера (по совместительству — мужа французской писательницы Элен Гремийон) на стихотворение классической французской романистки и поэтессы Марселин Деборд-Вальмон, вот это:
Она, между прочим, тоже о письме и литературе:
В общем, не стоит отчаиваться, написанного хорошо еще много. Главное — не бросайте чтения. С вами был Голос Омара.
И вновь о переводе
"Чем важен перевод", Эдит Гроссмен

Мое глубокое убеждение — переводчик должен переводить, а не разговаривать о переводе. Бывают, конечно, исключения, но они редки — как вот эта книжка, построенная на лекциях, например, но до определенной степени. Эдит Гроссмен, выдающаяся переводчица с испанского на английский, — совершенно наш чувак, и очень многое из того, что она тут говорит, очень точно ложится на картинку переводческого и издательского дела в ръяз-пространстве (надо только заметить Штаты на Россию), — говорит с горечью и желчью, при этом, которые легко переводятся в наши реалии. Приятно иногда эдак ощущать поддержку своих инстинктов с другого берега, нащупывать мысленную опору.
(И все было бы прекрасно, пока речь не заходит о поэзии. Можно сколько угодно помавать руками о тонкостях поэтического перевода, но у Гроссмен в приводимых примерах попросту нет рифмы, а переводит она сонеты XVII века, — и поневоле возникает желание отправить ее с лекторской кафедры не лениться, а исправлять недоделки. Лучше бы о поэзии она вообще не заговаривала, все ощущение портит).
А в целом, хоть ничего принципиально нового она не говорит, я бы смело рекомендовал эту книжку всем коллегам по цеху. Ну чисто вдохновения ради.
Вавилонский хор
"В переводе: переводчики о своей работе и том, что это значит"

…Если переводчика все же «прислонить в тихом месте к теплой стенке» и заставить разговаривать, он/а в лучшем случае примется раздувать сложность своих творческих/технических задач, довольно рутинных, накачивать свою работу дополнительной ценностью в глазах обывателя, так сказать, в худшем — раздувать щеки и преувеличивать собственные личные заслуги. Удержаться на грани пристойного переводчику отчего-то, как правило, довольно трудно — может, дело в комплексах недооцененности, а может, потому, что весь экшн в этой работе внутри, не станешь же снимать кино про то, «как ботаны пялятся в мониторы» (с).
В этом сборнике участникам, по большей части все удалось (ну, за исключением пары совсем уже клинических представителей цеха). Тексты внятны, люди занятны. Хотя многие «проблемы», с которыми они сталкиваются, давно решены (нами, как минимум), а «задачи» представляются довольно-таки подлежащими решению (вплоть до того, что сами под эти решения ложатся). Иногда буквально вплоть до «Марьванна, нам бы ваши трудности» (ах, как нам сохранять иностранность в тексте? ах, нам лучше курсив или кавычки? …ну ебвашумать, деточки). Все равно иногда приятно получать подтверждение верности каких-то своих переводческих решений и лишний раз убеждаться, что ты в мире не одинок.
Fun Fact With Books: а вы знали, что только с 1925 по 1969 г. «Грозовой перевал» во Франции переводился и издавался 20 (двадцать!) раз? Это к вопросу о «канонических», блядь, переводах.
И тетрадь в рыболовную сеточку
"Глобус Владивостока (Комментарии к ненаписанному роману)", Василий Авченко

Второе, несколько более расширенное издание прекрасной пустяковины из-под бойкого журналистского пера Василия Авченко. Но сколько его ни дополняй, все равно будет мало. Пока что эта книжка годится на подарок, но имеет смысл сделать из "Глобуса" натурально энциклопедию. "Всемирную энциклопедию Владивостока", да. Попытки делались местными журналистами и краеведами, но какие-то вялые. Потому что, к примеру, тот факт, что "город нашенский, которого нет" обессмерчен Джойсом, как-то не получил должного отражения в мифологическом сознании - просто потому, что Владивосток закопан в недра "Улисса", а этот роман, как известно, читают только маньяки, которые к означенному месту впадают в амок; где закопан - не скажу, ищите сами. И мучайтесь теперь в своих очкурах.
Наши поучительные чтения
Дневники К. И. Чуковского, в двух томах
Дорогая редакция благодарит Макса Немцова за экстренный внеочередной эфир.

Первый том этих дневников я читал, когда он только вышел, еще в начале 90-х т.е., и тогда в фигуре Чуковского мне даже мнилось нечто героическое. Прошло четверть века — и что? Выяснилось, что почти ничего не только героического, но мало-мальски достойного (или даже пристойного) в ней нет. Как-то растворилось, развеялось на ветрах истории. Видимо, дело во мне.
С самого начала — вихлявый позер, даже «наедине с собой», поверхностный халтурщик (сонеты прозой переводит, но считает это подвигом) — но с метким взглядом на современников, только за их счет и выделяется. В дневниках, вроде бы не рассчитанных на публикацию (или все же рассчитанных?) постоянно принимает «англосаксонские позы», любуется собою в зеркале — ах, какой же я бездарный! — в явной надежде, что читатели придут и опровергнут. При том, заметим, что наследники и родственники выбирали записи, годные для агиографии и потомков. Что ж там осталось между строк тогда? — хочется спросить.
Читать первый том увлекательно и стыдно — как подглядывать за русской культурой начала ХХ века. Дальше должен был следовать длинный прогон про его неоднозначное отношение к детям, но мой внутренний цензор воспретил — не мое все же дело об этом судить, я как читатель рядом не стоял.
Поражает другое — и этого больше, чем достаточно (даже при том, что мы не знаем, что в этих текстах было изначально). С какой же неохотой он всю жизнь занимался переводом, редактурой переводов и методологией перевода. И человек, для которого художественный перевод был чем-то вроде нелюбимой падчерицы, потом сочинил пасквильное «Высокое искусство»…
Но как документ эпохи (и не одной) дневники эти весьма ценны, спору нет. Понятно, что в первые годы после революции этим творческим и интеллигентным осколкам прежней России выживать удавалось только из-за того, что разнообразная (хотя на самом деле — нет, вполне однообразная) советская сволочь еще не обрела силу — не налилась свинцовой мерзостью, была глупа (все эти комиссариатские девицы, над которыми Чуковский хихикал), и в том, чтобы обводить ее вокруг пальца, объезжать на кривой козе, был даже какой-то веселый азарт. Но это лишь поначалу — потом все постепенно становится гораздо стремнее и опаснее.
Однако то, что раньше воспринималось как непрерывность русской культурной традиции с дореволюционных времен, при ближайшем рассмотрении и по прошествии времени дает трещину, виден надлом, натуга. Понятно, что творческая интеллигенция всегда стоит в оппозиции власти, но по дневникам Чуковского отлично видно, как некогда вменяемые люди попросту втаптываются в грязь, раскатываются по булыжнику. На их внутренней повестке дня остается лишь звериное выживание при новом строе (чего стоят одни только его стенания насчет непарных галош и унижения от нищеты). Автор становится все более мелок и мелочен, все происходящее подается нам с точки зрения тыловой вши. В этом, конечно, трагедия, но сам Чуковский в ней — отнюдь не герой. Примерно к середине 1924 года, судя по сохраненным для нас внучкой записям), вся независимость социального и политического мышления у нашего автора пропадает, и он становится верным клевретом режима. Метаморфоза завершилась. Чуковский к 40 годам окончательно состарился и сломался. Дальше все только хуже.
Второй том дневников — совсем другая книга, публикаторы в предисловии, конечно правы. Мало того, что начинается она с болезни и смерти Муры, но примерно тут, по косвенным признаком, ему становится понятно, до чего блядской и убогой стала жизнь при новом режиме. Что, заметим, не мешает ему (в дневнике!) вовсю хвалить комсомол и его функционеров, превозносить колхозы (как раз примерно когда совки довели страну до голода и людоедства)… В любви к Сталину, забегая вперед, Чуковский в дневнике признается даже после того, как упырь сдох — что его заставляло? Видимо то же, что водило его рукой, когда он выдирал из дневника страницы, уничтожал целые тетрадки (иначе куда они делись? я вас спрашиваю, а?) и вписывал другим чернилами «это написано для властей». Вполне концлагерный менталитет, в мягкой форме так хорошо нам знакомый. Вот интересно только, своими фирменными бессонными ночами думал он когда-нибудь о том, как все сложилось бы, останься он в свое время в Лондоне? Мне как читателю этот вопрос покоя не дает, а в дневнике на него ответа нет. Что, конечно, было бы удивительно, имей мы дело с человеком более цельным, но в нашем случае — нет.
Автор много десятков лет был вынужден существовать в этом отвратительном убожестве, находя отдохновение лишь в воспоминаниях о старом режиме и его нравах — совместно с такими же, как он, кто посмелее, кто нет. Гаже всего при этом — его двоемыслие, развертывающееся перед нами во всей своей оруэлловской красоте. Личный дневник, рассчитанный на чтение властями, что может быть символичнее? Мерзее может быть только чтение советских газет. Поразительно, как ему столько лет удавалось жить в этой беспросветной лжи.
Особенно поучительно для меня было читать эти дневники параллельно с биографией Бекетта: тут поистине два мира — две литературы. Самое актуальное в середине ХХ века — Джойс — пролетело совершенно мимо, будто и не было такого никогда. Шкловский, как известно, еще в середине 1920-х годов рекомендовал Чуковскому все бросить и заняться Джойсом. Тот, как не менее известно, не внял и о Джойсе не написал ни строчки (кроме одной в дневнике). Судя по всему, даже не читал. Может, это и хорошо, иначе хрен знает, что бы у нас сейчас было вместо Джойса, как у нас хрен знает что вместо Уитмена.
А то, что Чуковский пишет — огрызки, мы понимаем, но показательные, — об английской и американской литературе — фантастически узколобо и некомпетентно. Нравится ему, похоже, только всякая пошлятина, которую он считает шедеврами языка и стиля: она способна трогать его до слез. Ну и да — он из тех людей, кто, не дрогнув пером, способен писать «мое творчество». Как правило в сочетании «враг моего творчества».
Отдельно следует заметить экономику его межличностных отношений — это фон всех дневников. Пока Чуковский не стал более-менее обласкан властью (что не отменяло, мы понимаем, цензуры его работ), он обращал внимание на пальто своих гостей. После же того, как он «вошел в обойму», место пальто в характеристиках людей занимают их (убогие) советские чины. Всю жизнь он да, помогал другим чего-то добиться, выступал эдаким универсальным фиксером, посредником между властью и человеком. Причем, делал это, судя по записям, довольно натужно, с большой неохотой, мучаясь и постоянно желая заниматься чем-то другим. Что это было? Наивный ли он дурак, начисто лишенный инстинкта самосохранения, — или так он зарабатывал себе моральный капитал, раз уж не мог заработать настоящего? Нет ответа. Но, судя по непрерывности такой деятельности, «вхожесть» в приемные и кабинеты ему все-таки нравилась.
Тональность несколько меняется в последние годы жизни (искренняя, судя по всему, дружба с Солженицыным, правозащитное «подписантство» — под влияние Лиды, не иначе). А примерно за год до смерти Чуковский в дневниках (по крайней мере, в их опубликованной версии) словно бы прозревает: у него появляется хоть какая-то честность в социальных и политических оценках советской действительности, особенно после чехословацких событий. Похоже, он наконец перестает бояться. Но уже, к сожалению, слишком поздно.
Письма издалека
"Избранные письма 1894-1906", Элеонора Лорд Прей

Первый том избранных писем ЭЛП, национальной героини моего родного города, несколько подпорченный переводчиком, но все равно. Вот когда я говорю о повседневной жизни прошлого, проступающей в некоторых текстах, Элеонора приходят на память первой. В предыдущих книгах она говорила все ж больше через посредство редактора и исследователя - Биргитты Ингемансон, которой низкий поклон еще раз за всю ее титаническую работу с этими уникальными эпистолярными архивами. А тут и она, и ее близкие говорят сами - и становятся натурально литературными персонажами, характерами, образами. Причем не только люди - еще и некоторые корабли. И это, я вам скажу, поинтересней "Войны и мира" будет. Потому что там - история, Аустерлиц, Бородино, то и се, а тут - сама жизнь, тихая, незаметная и гораздо более значимая, чем все эти ваши бородины и аустерлицы.
Бит продолжается
Наш традиционный литературный концерт — о битниках и не только
А начнем мы его вот с такого эпиграфа в честь нынешнего именинника:
На перевод этого текста песни Боба Дилана, продолжателя дела битников в каком-то смысле, у Вадима Смоленского ушло пять лет. Понятно, что «Экспериментальной фабрике Вишала» для того, чтобы положить на музыку текст Аллена Гизбёрга, понадобилось, видимо, несколько меньше времени, зато у нас теперь есть две версии его «Воя» — танцевальная и симфоническая:
А вот их (его) же версия «Блюза Бауэри» Джека Керуака:
Вот, кстати, сам Керуак, если вы забыли, как он выглядит и говорит. По этому редкому интервью можно оценить, как он владел жуалем:
Кстати, о Керуаке — вернее о его анораке. Он, вместе с некоторыми другими культурными иконами ХХ века, упоминается в прекрасной песне Аляна Сушона «С ума (б не) сойти»:
Вишал же, меж тем, заставляет танцевать даже под Уильяма Барроуза:
Музыкальное наследие самого Барроуза довольно велико, и мы
его краями уже касались. Аллен Гинзбёрг тоже много и плодотворно играл выступал
гастролировал что-то, кое-что мы уже показывали. Но вот совершенно
звездный состав: сам АГ, Пол
Маккартни, Филип Гласс и Ленни Кей:
А вот Гинзбёрг соло — поет Уильяма Блейка при этом:
В 1970 году они с Питером Орловски даже записали пластинку по стихам Блейка, вот она:
И творчество Пола Боулза, хоть он и не совсем битник (но рядом), так же многообразно. Для начала, он был композитор-авангардист, а уж потом писатель:
Писал он и песни — на стихи Теннесси Уильямза:
А тут некий «Толстый Веган» взял и написал песню про него. Но шире всего Боулз, пожалуй, известен как фольклорист и популяризатор марокканской музыки:
Свою дань уважения Боулзу отдал даже такой невероятный, казалось бы, музыкант, как Винс Кларк:
Ну и немного о Томасе Пинчоне, который тоже существовал как-то параллельно битникам. Вот две песни из «Радуги тяготения», новые и радикальные версии «Агриморфри»:
И «Толстый веган» написал о книге Томаса Пинчона песню. Последний же номер в нашей сегодняшней программе: владивостокская группа "Breaking Band" не так давно положила на музыку еще одно литературное произведение человека, который был от битников недалек, - Кена Кизи. Знакомьтесь, бессмертный гимн "всех ебил" "Cut the Motherfuckers Loose":
А закончим мы, по традиции, песней о словах — Брайон Гайсин, не последний для битников человек, пришел их освободить:
У вас в ушах звучал Голос Омара. Главное - не бросайте читать.
Джойс и мы
"Век Джойса", Игорь Гарин

Очень увлеченный, слегка безумный читатель, компилятор и комментатор рассматривает ХХ век через призму Джойса. Сам по себе этот кросс по пересеченной местности литературы и тропам духа вполне занимателен, и самые пламенные и ядовитые инвективы Гарин адресует, понятно, советской и нынешней (десятилетней давности т.е., разницы, мы понимаем, никакой) России, что не может не тешить душу, однако мало что нового сообщает об изображаемых предметах. Будь он чуть дисциплинированнее, нам бы явился прямо-таки русский Кэмбл, но анализ "Улисса" у него все равно несистемен, представляет собой монтаж фрагментов текста, цитат из Хоружего и, загадочно, Гениевой (которой, при всем должном уважении, никогда не было что интересного сказать о Джойсе за исключением вычитанного у Гилберта и Гиффорда). Трактовки Финнеганов как таковой нет тоже, но это, может, и хорошо - текст, я подозреваю, способен пробудить читательский интерес. Так что для новичков в литературе ХХ века - ОК, а более вкопчивым читателям я б рекомендовал все же иные источники.
Католический коммунизм
"Малый мир. Дон Камилло", Джованнино Гуарески

Классика итальянского примерно юмора, которая в ХХ веке была популярнее… ну да, Иисуса Христа. Перевели Гуарески на все мыслимые языки мира, включая гренландский и вьетнамский — до последнего времени не было только на китайском и русском. А потом и китайцы издали. Русский перевод появился только в этом столетии, лет пять назад — и он достаточно пыльный и суконный, но представление дает. К чести русского издателя, они не пошли по пути сокращений и адаптаций, что делалось при переводах на английский (что и создало книгам Гуарески о Доне Камилло мировую славу, собственно), хоть и издали только первую из примерно шести книжек. А почему его не издавали в Советском союзе, примерно очевидно. Верующие коммунисты и революционные попы всегда неуместны — и даже теперь, когда первых развелось во множестве, а вторых на этой территории как не было, так нет. Но если гипотетически предположить, что в этой стране в референтных группах еще остались люди, умеющие читать, то им это пригодится. Для спасения души, конечно.
По сути это, конечно, даже не сколько юмор марки ха-ха, хотя там и в русском переводе осталось несколько звонких фраз, невзирая на усилия переводчицы затупить все острые углы, сколько гимн терпимости и гуманизму в широком смысле. А самый комический персонаж, конечно, — голос Иисуса из распятия. Особенно когда понимает, что его наебали, — или наебывает кого-то сам. «Ты служишь не делу мировой революции — ты служишь орфографии и синтаксису».
Экранизации Жюльена Дювивье с Фернанделем — очень клевые, кстати, хотя русский перевод и там посасывает.
Небитый битник
"Письма", Уильям Гэддис

В битой вселенной Керуака Гэддис — фоновый персонаж, статист из массовки, но по его письмам 40-х годов матери можно узнать (и понять, главное) о битниках больше, чем из романов Керуака. Я постараюсь избежать спойлеров, но это поколение выдергивало себя с корнями из тогдашнего американского «образа жизни» (война, конечно, помогала — сначала одна, потом другая), и по этим текстам хорошо видно, в каком состоянии ума пребывала 20-30-летняя молодежь. И что из этого получилось. Потому что битники — это не секта, как нам иногда видится, это сдвиг парадигмы, поворот сознания. Гэддиса же никто битником, насколько мне известно, никогда не считал (а было бы интересно взглянуть на него так — ну потому еще, и что корни Томаса Пинчона — там же; они, кстати, с Гэддисом никогда не встречались, вопреки распространенной легенде о совместной выпивке где-то в Лонг-Айленде), но его одиссея — скитания по Америкам, заработки, лечение загадочной «тропической болезни», переписка с мамой, бесконечные посылки с вещами, заметками и книгами и одержимая работа, стремление выплескиваться на бумагу (другой среды тогда просто не изобрели) — совершенный бит. Только Гэддис остался впоследствии гораздо более упорядоченным в доминирующем модусе высказывания (просодия у него не «боповая», иная, хоть и тоже музыкальная, а хаос и энтропию он запечатлевал на бумаге едва ли не убедительнее Керуака). Романы же его — такая же изнанка и развитие бита, как у Пинчона, хотя с Керуаком у Гэддиса гораздо больше общего, чем с Пинчоном, несмотря на похожесть с последним по дисциплине и наполненности высказывания, традиционно принимаемым за «трудность»).
Но это — начало. Потом — жизнь вполне оседлого писателя (амплитуда его странствий была не так привольна, как у Керуака, но в СССР в середине 80-х он побывал, надо бы найти свидетельства), стремившегося к собственному литературному идеалу (и обретшему его в итоге) - Илье Ильичу Обломову, с финансовыми трудностями, техническими и корпоративными заказами, некоторой работой на ЮСИА (я не знал), непониманием безмозглой критикой, неприятием тупой публикой, паразитизмом и саботажем издателей. Все как у нас. Оторваться от этого эпистолярного нарратива, составленного ведущим гэддисоведом Стивеном Муром, невозможно, я пробовал. Дети, жены и друзья прилагаются. Алкоголизм тактично остается за кадром. Очень рекомендую: картина всей американской литературы после этих писем обретает еще большую связность и глубину.
В Петербург! В Петербург!
"Петербург", Андрей Белый

Если "Мы" Замятина имеет смысл читать после Томаса Пинчона для того, чтобы найти возможные точечные заимствования и влияния, то "Петербург" Белого весь может служить подлежащим ключом к "Радуге тяготения" - там вся ткань пропитана будущим Пинчоном: темы, образы, поэтика, архитектура, символы. Не скажу, что он поможет понять "Радугу", но дополнительные измерения от текстуального сопоставления двух романов приобретут оба. Мне как читателю особенно отрадно было вновь ощутить родной язык как приключение - далеко не со всеми книгами на русском и русскими авторами это оказывается возможным.
Что же касается легитимности допущения о влияния Белого на Пинчона, отметим, что первый англоперевод "Петербурга" появился в 1959 г. Набоков (ходил к нему на лекции Пинчон или нет, остается не вполне ясным - но вполне непротиворечиво допустить, что все же ходил) считал "Петербург" величайшим русским романом ХХ века, и тут я готов с ним согласиться. Так что Пинчон вполне мог читать "Петербург" и "заболеть" им до того, что растворил его в "Радуге". В общем, исследователям в очередной раз есть что делать: увлекательная выйдет, я вам скажу, диссертация, если кто-то прочтет "Радугу" и "Петербург" параллельно.
Песня строить и жить
Наш литературный концерт о вдохновении (о чем же еще)
…и начнем мы его с боевой классики — ну, просто напомнить, что она существует и продолжает нас вдохновлять. Роман «По ком звонит колокол» Папы Хэма (вышедший в 1940 году), со всем тем, что вдохновило в свою очередь его, вдохновил и «Металлику», хотя никто не мог предположить, что они умеют читать:
Столица империи Кубла-Хана, которую столь опрометчиво ввел в обиход английский поэт Сэмюэл Тейлор Коулридж в поэме, опубликованной в 1816-м, продолжает владеть умами — в частности, и этих канадских рокеров:
Еще одна его поэма — «Баллада о Старом Мореходе» — завладела умами «Железной девы», но уж эти-то ребята были в тяжелом роке среди самых начитанных, как мы знаем:
Труд Профессора Толкина «Властелин колец» сдвинул мозги многим музыкантам, это факт, но больше прочих — вот этим милым читателям:
С трилогией может сравниться разве что «Божественная комедия» Данте – вот как ее тоже можно было прочесть и вдохновиться ею:
А вот эти прогрессивные шведы вдохновлялись «Горменгастом» Мервина Пика:
Уильямом Блейком вдохновлялась Лорина Маккеннит:
А вот не самое очевидное: многие знают эту неувядающую песенку Хенри Манчини и Джонни Мерсера, но мало кто отдает себе отчет, вдохновил ее Марк Твен:
Раз уж мы заговорили о Твене, вот еще одна вариация на тему Черники Финна — стихотворение великой Новеллы Матвеевой поет великая Елена Камбурова:
А вот Егор Летов вдохновлялся другим классическим произведением — романом экзистенциалиста Сартра. Летова тоже нельзя упрекнуть в том, что он читать не умел:
Сержа Гензбура по-крупному вдохновлял другой француз, Жак Превер:
Боба Хиллмена же вдохновлял Лев Николаевич Толстой. Поди угадай, что эти рокеры читают:
А группу «Ересь» стихи Томаса Стирнза Элиота вдохновили на целую сюиту:
Ну и еще один источник вдохновения для многих — Джером Дейвид Сэлинджер:
Кстати сказать, известный кинорежиссер Олег Сенцов, как говорят, запрещенный на территории этой страны, свою карьеру начинал тоже с экранизации Сэлинджера. Фильм лежит на ресурсе, тоже запрещенном, судя по косвенным показателям, так что включайте свои анонимайзеры, вы этого все равно больше нигде не увидите:
Хорошо ловится рыбка-бананка by hinedi555inter
Ну и последний номер нашей программы — по традиции общелитературный. Тим Минчин для него вдохновился книгой — всего одной, но не простой, а хорошей:
Сегодняшний урок, как видим, очень прост: не только песня нам строить и жить помогает, но и книга. Предпочтительно хорошая (но не в этом смысле). С вами был Голос Омара, увидимся через месяц
Алиса в городах и селах
"Алиса на многих языках", Уоррен Уивер

Книжица американского пионера машинного перевода и увлеченного коллекционера-алисоведа Уивера, которой столько же лет, сколько мне, вполне занимательна, но имеет, боюсь, только археологическое значение. Во-первых, Уивер - собиратель, поэтому все, что касается изданий Алисы, изданий первых ее переводов и - особенно - попыток анализа того, что с текстом сделали разные переводчики, - только описательно. Мило, но едва ли пища для ума.
Самое ценное в ней, пожалуй, - довольно подробное воспроизведение значимых кусков переписки Кэрролла с издателями насчет продвижения Алисы на иностранных рынках: скольлько автор получал (в среднем 17 фунтов с 1000 экз.), как хотел, чтобы цены были общедоступны (2 талера в Германии - дорого), как контролировал качество переводов и издания (дотошно) и как санкционировал подстановки текста (переводчики были вольны пародировать стишки и песенки, существовавшие в их культурах).
Переводы на русский едва затронуты, и очерк их изобилует понятными неточностями: писалась книжка до эпохи исторического материализма, т.е. до выхода перевода Демуровой (который появился в Болгарии только в 1966-м) и прочих советских переводчиков, и каких-либо данных получить от советских бюрократов Уивер не мог (описание его отношений с мадам Багровой из Ленинки поднимается до вершин античной драмы: в Ленинке его натурально послали на идеологический нахуй, когда он спросил про первый русский перевод, потому что первое русское издание, как мы узнаем из других источников (послесловия к академической Алисе 1991 года издания, например), хранилось в Ленинграде, в биб-ке Салтыкова-Щедрина; и т.д.). В общем, Уивер работал с переводом Набокова, про который нам много чего известно, в частности - что он "сосет большое время" (да, и Уивер в начале 60-х явно имел очень малое представление о том, кто такой Набоков; кто такой Шандор Вереш, он не знал вообще).
Его попытки реконструкции переводов тоже слабоваты - он подошел к этому как упорный любитель, ну и без знания, в частности, русского языка, понаписал глупостей в духе известного анекдота про книгу о летчиках ("Ас Пушкин"), написанную каким-то киргизом по фамилии Учпедгиз. В диких временах, в общем, довелось ему жить, в середине ХХ века...
Ну оно и полило...
"Пусть льет", Пол Боулз

Очень традиционный роман, второй по счету у автора, корнями уходящий в модернизм и «потерянное поколение» 1920-х, читается в параллели с «Посторонним» Камю (вышедшим на 10 лет раньше), и тем самым создается дополнительный стерео-эффект. Здесь такой же «потерянный» человек, традиционная для Боулза никчемная жертва на пограничье с чужой культурой, в ситуации, где не может быть ни понимания, ни примирения. Все безжалостно и безнадежно — полное отчуждение, и от себя, и от цивилизации вообще, и от окружающей реальности в частности, как и в рассказах. Боулз тут выглядит эдаким потерянным европейско-американским звеном между Хемингуэем, который не мог до конца оторваться, и битниками, которые не могли (да и не желали) до конца вернуться. В общем — другой штамм экзистенциализма.
Кроме того, это последний из не переведенных на русский романов Боулза — а переводить его дело безблагодатное, хотя очень благодарное в конце. Про язык Боулза много писали люди поумнее меня, и в этом романе как раз он, похоже, начал отказываться от языковых излишеств и «литературности», сводя текст к чистому изложению фактов, сухому и безэмоциоональному, убирая за текст любое авторское отношение к тому, что изображает. В итоге мы здесь видим зарождение того «нулевого градуса письма», с которым мы когда-то имели дело, готовя к изданию его рассказы. Здесь невозможно прикипать душой ни к кому, здесь автор сознательно вышибает у читателя любые костыли, которые могли бы помочь этому читателю хоть сколько-то увлечься происходящим (а если не детективная, то плутовская интрига в романе присутствует). При этом автор, похоже, только учится писать так, поэтому текст у него довольно неровный, и как только в нем возникает какая-то лирика (обусловленная поворотом сюжета), книга заканчивается. Текст дошел до естественной для него точки и просто прекратился.
При работе пришлось пойти на некоторый эксперимент (ну, попытаться) — несколько стилизовать его под язык «советской школы перевода», с его рыхлостью, вязкостью и некоторой грамматической избыточностью. Потом, правда, еще пришлось выбирать некий фигурный рубанок, чтобы окончательно все обстрогать, ну и вот что у нас получилось.
Вести с кладбища
"Пражское кладбище", Умберто Эко

Некоторые читатели сравнили «Пражское кладбище» с веселой и развлекательной опереткой, а некоторые рецензенты – с поваренной книгой. Насчет гастрономической метафоры я по-прежнему не убежден, хотя кулинарные вставки видного семиолога действительно выглядят весьма чужеродно, а вот шоу мне все же представляется если и опереткой, то с Михаилом Водяным в главной роли. При этом либретто писал Анатолий Аграновский, а музыку я даже не знаю, кто. Кто у нас там из советских композиторов больше прочих замечен в плагиате? В общем, мне все ж больше кажется, что это если и шоу, то «Синей блузы».
Ибо Эко написал не роман в полном смысле слова, а скорее памфлет, сиречь агитку. Из самых лучших побуждений написал, кто бы спорил, но — это все ж не литература. Кстати, если он писал, искренне веря, как и в «Маятнике Фуко», что все заговоры непременно плетутся ущербными больными ебанатами, почему он отказывает неведомым творцам всяческих «фальшивок» в такой же искренней вере, например, в то, что они пишут? Нелогично как-то – и несколько, я подозреваю, причудливее, чем автор нам пытается показать. То, что это именно памфлет, доказывают условности стиля агитпропа, а именно, среди прочего, длиннейшие монологи с дословным многостраничным цитированием, изложение исторического материала устами даже не героев-рассказчиков, а просто каких-то персонажей, вялостью романной конструкции и шитой белыми нитками интригой. Тут ведь даже уже не "монтажные склейки" - тут натурально швы торчат. До фраз типа «Как ты хорошо помнишь, дорогая, мы познакомились на пляже» автор, конечно, не опускается, но беспомощный ход с раздвоением личности недалеко от такого ушел. Кроме того, все саморазоблачения в книге выглядят так же ненатурально, как цитируемые саморазоблачения «сионских мудрецов».
Ну и да — автор нам как бы опять говорит, что душевно и духовно здоровые люди такой провокационной пакостью заниматься не станут. А станут делать что — в бога, например, верить? Или революцию устраивать? Как-то из текста следует лишь такая вот антитеза. Боюсь даже предполагать, насколько автор при этом заблуждается. В частности, он ставит под сильное сомнение мотивы метаний Таксиля, но будем честны — чувак в свое время развлекся на полную катушку. Я бы сказал, что с учетом той призмы, через которую все подается, это самый симпатичный персонаж всей книги.
В общем, «ПК» невольно оказывается на одной доске и в одном поле с теми книжками, которые автор здесь выводит как полноправных героев. Этот текст принадлежит не литературе, а спецпропаганде. Где спецпропаганда – там идеология и политический заказ, а это, на мой взгляд, отвратительно, с каким бы знаком эти писания не творились.
Переводу, при всей его лихости, очень не хватало редактора, и именно редакторские недочеты – корявости, повторы и прочая не видимая широкому читателю печаль там на каждой странице. К счастью, вопиющих глупостей не так много: «кровавый завет» и «пушка диаметром сто двадцать» бросаются в глаза сами, но я не сильно присматривался
Как бы дальневосточный Пришвин
Собрание сочинений в 3 т., Николай Байков



Самое известное произведение Байкова "Великий Ван" вышло в Харбине в 1936-м и было потом переведено то ли на 9, то ли на 10 языков. В значительной степени благодаря этой примитивной, но трогательной анималистической сказочке о Маньчжурской тайге Николая Аполлоновича стали считать чуть ли не Пришвиным, но, читая его, следует помнить - как и Пришвин, писатель Байков был скверный. Вероятно, в переводе на японский читается лучше.
Вошедший в первый том "Черный капитан" (полное название приводить не буду, в нем весь роман пересказывается) выходил только в 1943 г. в Тяньцзине, потом в 1959-м - в Брисбене, а это владивостокское издание - пеорвое в самой России. Он, конечно, получше, но также отмечен скверным письмом. В нем Байков отходит от "природоведения" и больше пишет о людях - на самом деле, это вполне энергичный колониальный роман с приключениями, который неплохо бы смотрелся на киноэкране.
Хоть это и не отменяет первого вывода: Байков - никакой стилист, хотя его чтение - своеобразное "постыдное удовольствие". Михаил Щербаков был прав, когда в 1935 году писал о нем:
...из харбинских изданий того же порядка [посвященных Востоку] до нас дошла тоже только одна книга Н.А. Байкова "В дебрях Маньчжурии". Чтобы не возвращаться к ней, отметим здесь же, что в нее отчасти вошли очерки, уже издававшиеся еще до революции, содержащие богатый фактический материал по изучению края, но написанные очень беспомощно в художественно-литературном отношении.
Автор выезжает на знании природы и, в общем и целом, декларируемой любви к этому краю, но она удивительно сочетается с охотой (например, мы бьем красавцев-изюбрей, а потом стоим над трупом и долго сокрушаемся о том, что наделала зверская и хищническая рука человека) и стенаниями о великой миссии русского народа в этом вашем осталом Китае на фоне, в общем, презрения к "варварскому наречью" и "дикарским обычаям" китайцев и манчжур. Я не то чтобы на высоконравственную кобылу здесь взгромоздился и смотрю на все с кочки XXI века, но даже с поправкой на времена и нравы - отдает ханжеством и православным фимозом. В общем, беря этот крайне симпатичный желтенький трехтомник в руки, ко всему этому лучше быть готовым. Там все вполне занимательно и очень познавательно, но довольно неприятно.
Вот еще цитата из Валерия Янковского («От Сидеми до Новины», стр. 236):
Дома, комментируя его произведения, Юрий Михайлович [Янковский] довольно критически отзывался о достоверности публикуемых Н.А. Байковым рассказов; много, мол, приукрашивает…
И дальше пару раз мимоходом говорит, что Байков-де «привирает». Тут я даже не знаю, что Янковский-старший имел в виду: у меня не возникало подозрений, что он врет о маньчжурской тайге, тут мне все кажется более-менее достоверным. Просто все это неинтересно — и сам Байков, и его служба, и его хождения по «солнопекам», и его неудачные охоты, да и причитания его о гибели «красивой природы» от рук человека фальшивы насквозь. Как и сам его язык — тот верноподданнический канцелярит, который прекрасно дожил до наших дней. Банальному Байкову попросту нечего сказать в своих текстах. Он графоман, а языковые находки в его текстах довольно случайны (вроде «угрюмых клестов»); попадаются и более-менее точные (но однообразные) речевые характеристики отдельных персонажей. Пожалуй, все — литературной ценности весь этот трехтомник по-прежнему не имеет, хотя понятна ненормальная популярность его текстов у японцев и корейцев: они легко переводимы самым посредственным переводчиком (хороший за такую ебанину браться, я бы решил, не станет) и отдают графоманией самих, к примеру, японцев, того же Мисимы (были моменты, когда я бы решил, что их писал один человек — ну или переводил один переводчик; да, мы стали недурно разбираться в разных сортах говна). Животные у него тоже антропоморфизированы, что многое говорит о его талантах писателя натуралиста (взгляд «за что?» в застывших глазах изюбря, сраженного жестокой рукой бездушного человека… что еще нужно?).
Но мало того. Еще он антисемит (на очерке о «масонско-большевистском» заговоре со мною натурально приключилась легкая истерика), впрочем не любит и презирает всех «инородцев», включая китайцев и маньчжур, среди которых провел большую часть жизни. Уважает наш автор, похоже, только русских и украинцев, да еще галичан — православных братьев-славян, короче, и в этом смысле пришелся бы ко двору и нынешней власти (хоть и с некоторыми оговорками — хочется верить, что от нынешней политики он бы пришел натурально в ужас, хотя кто его знает). Великодержавный шовинист, куда ж без этого. Каково же его отношение собственно, к изображаемому «морю Шу-хай» за стертыми эпитетами, штампами и нескончаемо повторяемыми «литэратюрными» клише тоже не очень понятно. Если он эти места и любил, то как-то сильно по-своему и любовь эта неубедительна, ею он не только не заражает читателя, но и не делится вообще.
Впрочем, разгадка к третьему тому становится очевидна: Байков в маньчжурской тайге просто-напросто чужой. Посторонний. Он грезит только о далекой России — скучает даже не столько по ней как таковой (иначе принял бы революцию и так же преданно лизал бы сапоги новой власти, лишь бы в России), сколько по той вымышленной фата-моргане, которой, пожалуй, и не существовало никогда. А в Маньчжурии он не дома. Чужак. Тьфу на него, в общем.
На вокзал!
"До станции Харбин", Дейвид Вулфф, Николай Рязановский

По сути, эта монография - сказ про то, как "Цусиму просрали" (с). Империя кинулась осваивать единственный доступный ей в это время фронтир, затем вполне грамотно обустраивать колонию, а потом на этой территории действительно начался либеральный эксперимент в регионализме. Понятно, что не выпусти Витте Маньчжурии из своей железной хватки, фиг бы там была "Счастливая Хорватия" хотя бы несколько лет - похуизм бояр николаевского разлива ничем не отличался от тупости допетровских. Маньчжурия из-за него просто слилась с радаров Петербурга. Наложилась бездарность Куропаткина, воровство и бессмысленный и беспощадный русский бунт им. 1905 г. Неизвестно, правда, была бы лучше для последующих событий аннексия Маньчжурии или нет, но пара десятилетий вольницы дорогого стоят в нашей мифологической памяти.
В качестве бонуса в этой милой книжке - краткий очерк русского (и дальневосточного) востоковедения, крайне интересный. Автор, как выяснилось, работал во Владивостоке в конце 1980-х, возможно, его даже кто-то знает лично.
Про страну Ерландию и не только
Наш зеленоватый литературный концерт в честь наступившей весны
Ирландия всегда у нас на уме, поэтому совсем не удивительно, что в прежних наших концертах она сама, ее литература, поэты, писатели и герои всплывали неоднократно.
Уильяма Батлера Йейтса пели много, но слышали мы далеко не все:
Вот вам немного по-настоящему древней поэзии:
А это — уже современная: Стивен Джеймз Смит писал это стихотворение к празднованию Святого Патрика в этом году.
Вот немного очень старой мифологии:
А вот — немного истории и мифологии чуть поновее:
И немного ирландской ковбойской поэзии (да, из Рингзенда):
Вернемся к классике:
А вот Джойс, положенный на музыку Сидом Барреттом:
Это не единственный опыт подобного рода: пару лет назад Брайан Бёрн сделал целый проект по его «Камерной»… гм, «музыке»:
Песню самого Джойса мы уже показывали, но повторить не помешает:
И еще немного его песен:
И для поклонников — целый концерт, составленный из песен романа «Улисс»:
Патрика Кавана тоже пели — он сам себя пел вообще-то:
Вот еще одна версия его песни:
А это исторически-литературный анекдот о нем от «Дублинцев»:
Без Флэнна О’Брайена, конечно, в нашем ерландском концерте тоже никак не обойтись. Вот песня в его честь:
А это — архивный радиоспектакль по его пьесе «Жажда»:
Ну и, конечно, великий «Брат» — в оригинальном исполнении великого Эмона Моррисси:
И его же великий гимн «Друг трудяги» в версии Джерри Макгоуэна:
И еще немного поющих ирландцев — поют они, правда, Уильяма Блейка, но это ничего:
Не остался без последователей и Оскар Уайлд — именем его персонажа назвались целых два коллектива, один — словацкий:
…а другой — немецкий:
Джеймз Стивенз тоже вдохновил собой некоторое количество музыки — Шейн Макгоуэн и «Папы Римские» назвали свою пластинку в честь его романа «Горшок золота»:
…отдельная песенка тоже имеется:
Вот на этой, как говорится, оптимистической ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю программу — но страну Ерландию из сердец своих не изгоним никогда и еще вернемся к вам не раз.
Необходимый странный поэт
Собрание сочинений в 2 т., Арсений Несмелов

Со стихами Несмелова все непросто - сама судьба-то у него как роман, а вот стихи какие-то не всегда обязательные (что, к чего чести, он и сам признавал неоднократно, ибо сознательно и вынужденно поставил музу на поток). И в массе своей, к 40-м годам они становятся лучше и разнообразнее (первые владивостокские сборники - ну как-то вообще, по больше части подражательно, хоть и местами забавно, только отдельные строки удачные), так что не случись того, что случилось, глядишь, и стало бы все совсем хорошо. Я, конечно, не имею права эдак "оценивать", но нет ощущения того, что он стихом дышит, как это чувствуется у Елагина или (теперь) у Казакевича.
Но даже со всей его нарочитостью и конволютностью, его негромкий голос убеждает вот в чем: насколько случайны те поэты, которые у нас нынче в пантеоне, как советском, так и антисоветском (разница невелика - и у Несмелова особо показательна, потому что было время, когда он печатался и в СССР и в эмиграции, в большевистских и фашистских изданиях - примерно одновременно). У них просто пиар был лучше. А его поэтический голос доносится из давно утонувшей маньчжурский Лемурии, которой умом теперь воедино, пожалуй, и не собрать уже.
Одно из достоинств тома прозы Несмелова в этом издании в том, что составители организовали в нем тексты в некое подобие единого метаисторического нарратива. Это плюс художественности, но потеря для текстологии. Невеликая, впрочем, потому что см. первую строку этой маленькой рецензии.
Солнечный побег
"Корни японского солнца", Борис Пильняк

Идеальные записки вдумчивого и очень искреннего, а главное - неравнодушного (в отличие от, например, Всеволода Овчинникова) - туриста, отличная синкретическая проза человека, попытавшегося совешить свой небольшой побег из-под нового свинцового сапога родины. Понятно, что никакое нынешнее японоведение не может быть полным без этой маргиналии. Обертоны Пильняка мне слышатся у Вечеслава Казакевича, так что, наверное, это климат так действует. А читать об убийстве автором своего текста без злости невозможно. Ну и советская критика... в общем, не изменилась, только поглупела, хотя, казалось бы, куда дальше. Издание, к тому же, практически идеально подготовлено, Дани Савелли - прекрасный исследователь; переводчицы с японского и французского превосходны.
Лиз Скотт. Рождение гения
К грядущему переизданию "Сговора остолопов" Джона Кеннеди Тула

...Это, в конечном итоге, книга о жирном парняге, который обильно рыгает и много забавляется сам с собой. Не всякая мать увидит в таком романе блеск таланта — пусть его и напишет ее единственный сын, гений. Однако Тельма Тул увидела. А Тельма Тул, мать лауреата Пулитцеровской премии Джона Кеннеди Тула, была образцом аристократизма, всегда при шляпке и перчатках. Эксцентричного такого аристократизма.
После смерти сына в 1969 году миссис Тул (немногие осмеливались звать ее Тельмой) не успокоится, пока не опубликует его «Сговор остолопов». Позднее она будет рассказывать эту историю снова и снова — как она впервые прочла рукопись: «...Я начала фыркать. А когда я смеюсь от души, меня начинает тошнить. Поэтому пришлось остановиться. Я испугалась, что меня сейчас вырвет». Эксцентрично. Рукопись придала ее жизни цель. И миссис Тул не только опубликовала роман — она увидела, как книга стала бестселлером и в 1981 году получила Пулитцеровскую премию. Миссис Тул прожила остаток своих дней в отсветах славы — болтая с Джонни Карсоном на глазах у всей страны, раздавая автографы, созывая репортеров на пресс-конференции и даже заставляя их петь по нотам под собственный аккомпанемент на пианино. И они не смели отказаться: книга стала сенсацией. Либо она оскорбляла новоорлеанцев, либо они ее любили. Но никто не мог отрицать, что Тул увидел и изобразил их город как надо: акцент, отношение к жизни, убожество, доброту сердца, странное переплетение нелепого и невыразимо печального. А героев книги узнавали повсюду.
По всей стране прокатилась волна хохота и похвал. Джон Кеннеди Тул по всем статьям был человеком совершенно симпатичным. А кроме того, если верить стандартному тесту на коэффициент интеллекта, — гением. По крайней мере, на этом настаивала его мать. С другой стороны, она много на чем настаивала. Например, на том, что при рождении он был так же красив и смышлен, как полугодовалый младенец, и каждая нянечка родового отделения больницы Туро считала своим долгом зайти в палату и поздравить мамашу с этим поразительным фактом. Когда сын подрос, она объявила его вундеркиндом. Гордость ее никогда не сдерживалась никакой реальностью. Отчасти это можно понять. Когда он родился, ей было тридцать семь, и врачи уверяли, что детей у нее никогда не будет. А муж Джон Тул ее ожиданий не оправдал. Он торговал автомобилями, да и на этом много не зарабатывал. Сын стал для нее светочем всей жизни.
Он с блеском учился в 14-й начальной школе Макдоноу и в средней школе Фортье (тогда считавшейся одной из лучших в городе), завоевал четырехлетний стипендиат в университете Тулэйна. Закончил его с ключиком братства «Фи-Бета-Каппа» по специальности английский язык, намереваясь стать писателем, и отправился за магистерской степенью в университет Колумбия по стипендиату Вудро Уилсона.
Тул был не просто умен — он был забавен, прирожденный мимик. Он вел колонку юмора в школьной газете и рисовал карикатуры для «Тулэйнского Хулабалу». И вместе с тем был одиночкой. Джон Гайзер, знавший его еще по яслям и детскому садику, писал в «Хулабалу» заголовки. Он Кена Тула никогда в газете не видел — ни разу. Очевидно, Тул просто оставлял в редакции свои карикатуры и уходил. Спортом он не занимался, что приводило в восторг мать, считавшую, что занятия спортом его недостойны, и разочаровывало отца, который в спорт очень верил. Тулы не были склонны к светской жизни — Тельма Тул во всеуслышанье объявляла, что считает такого рода деятельность пустой тратой времени. К тому же, вероятно, Тулы попросту не могли позволить себе вести светскую жизнь. Миссис Тул давала частные уроки красноречия и дикции, пока это было модно, однако к началу 1960-х годов уже мало кого интересовало должное произношение и манера выражать мысли, поэтому ее работа зачахла.
«Миссис Тул говорила на "королевском английском", — вспоминает Имельда Рульман, воспитательница ее сына в детском саду. — Звучало так: Мы. Пойдем. В магазин. Каждое слово отдельно. Так и надо говорить, а не жевать слова и глотать окончания. Стыд, да и только».
Разница между дикцией матери и окружавших ее людей и стала материалом для «Сговора». Как и вечерняя работа самого автора после школы — чтобы принести в дом немного больше денег, он торговал горячими сосисками на стадионе Тулэйна. Игнациус Ж. Райлли тоже продавал сосиски. Тул работал на трикотажной фабрике братьев Хаспел; вымышленный Игнациус Райлли получил место на фабрике штанов.
Всю свою жизнь Тул прожил с родителями поблизости от школ, которые посещал. Они снимали квартиру на улице Вебстер, когда он был приготовишкой, переехали на улицу Сикамор, когда пошел в Фортье, и на Одюбон, когда поступил в Тулэйн. Он оставил дом, лишь когда пришла пора ехать в Колумбию.

В Тулэйне он познакомился с Рут Лафранц и влюбился в нее — сокурсницу, казавшуюся такой же талантливой, как и он сам. Она тоже поступила в Колумбию, и они вместе исследовали Нью-Йорк. Он выполнил все необходимые для получения степени требования за год, ей потребовалось два. Он оставался рядом — преподавал в колледже Хантер на Манхэттене. Хантер был женским колледжем, и все студентки в нем были примерно одинаковы — интеллектуалки, еврейки, либералки. Каждая имела в жизни цель — или искала ее. Тула это развлекало. «Всякий раз, когда в Хантере открывается дверь лифта, в тебя упираются двадцать пар горящих глаз, двадцать чёлок и все ждут, когда кто-нибудь толкнет негра», — говорил он.
Таким образом подготовилась сцена для пламенной Мирны Минкофф из Бронкса, подружки Игнациуса Райлли. Год спустя, когда Рут вернулась в Новый Орлеан, Тул нашел себе работу в университете Юго-Западной Луизианы в Лафайетте. Там-то он и отыскал человека, чьи странности позднее привил Игнациусу Райлли. То был преподаватель английского языка Бобби Бёрн. На десять лет старше Тула — но у них нашлось много общего. Бёрн тоже был урожденным новоорлеанцем, ходил в ту же 14-ю школу и университет Тулэйна. У Бёрна и Игнациуса Райлли тоже много общего. Бёрн — человек крупный, и тоже не задумывается, чтобы выглядеть модно. «Я ношу то, что удобно, — говорит он. — Могу надеть зеленую рубашку и красные штаны, мне все равно».
Когда Тул с ним познакомился, Бёрн носил шапочку с козырьком и наушниками — вроде той, которую незавидно прославил Игнациус. Но, как вспоминает Бёрн, его шапочка была красной, а не зеленой. «На самом деле, это была просто шапочка от дождя со стеганой подкладкой, — рассказывает он. — И я носил ее, лишь когда шел дождь. А Кен считал, что это потрясающе смешно».
«Он присваивал то, что я говорил. Я мог сказать о ком-то, что он смешивает свою теологию с геометрией. А потом это попало в книгу». И, как Игнациус, Бёрн негодовал по поводу безвкусицы в кино и играл на лютне.
Но, разумеется, Бёрн сам зарабатывал себе на жизнь. Почти двадцать семь лет он преподавал английский в университете Юго-Западной Луизианы, пока не вышел на пенсию в 1985 году. Он — подлинный интеллектуал, а не паяц-пустолов. И, по иронии судьбы, Бёрн был одним из тех, к кому Тул обратится в последние мучительные недели своей жизни.

В 1961 году у здоровых молодых людей выбор был невелик. Если их призывали на военную службу, они шли в армию — или нарушали закон. После года преподавания в университете Тула призвали. Он отправился служить; к этому времени их роман с Рут закончился. Рут вышла замуж за другого человека, а Тул поехал в Пуэрто-Рико, где получил задание — преподавать английский как второй язык говорившим только по-испански новобранцам. Ему удалось выбить себе частную квартиру, и в свободное время он писал книгу. Рукопись отправил в издательство «Саймон энд Шустер» и получил ободряющий ответ от редактора по имени Роберт Готтлиб: тот предлагал лишь несколько поправок. Закончив службу, Тул вернулся к родителям и устроился учителем в Доминиканский колледж Святой Марии в нескольких кварталах от дома. Он считал дни до публикации книги. Однако Готтлиб требовал одну поправку за другой, затем еще и еще, и в конце концов объявил, что вообще не видит смысла в публикации романа. Тул был в отчаянии.
Еще в шестнадцать он все лето потратил на свой первый роман «Неоновая Библия». Подал его на литературный конкурс и проиграл. Тул, как и многие, к кому легко приходит успех, очень тяжело воспринял поражение. Он убрал книгу подальше с глаз и никогда никому не показывал.
И вот теперь второй его роман, тот, что начнет его блистательную литературную карьеру, сначала безжалостно препарируется, а затем и отвергается вовсе. Другого издателя книге он уже не искал, не искал и агента. Засунул рукопись на старый гардероб в спальне. Можно обо всем этом забыть и начать работу над докторской диссертацией.
Как и везде, у доминиканцев коллеги его любили. Монахиня, работавшая с ним в то время, вспоминает его как человека любезного и остроумного, неизменно чарующего, всегда джентльмена. «Но ирония его — а он был очень насмешлив, — обычно не доходила до студенток. Особенно до первокурсниц. Они его просто не понимали. Одна даже спросила меня, уж не коммунист ли он». Он намеренно держался отчужденно с теми, кому преподавал, — тактика мудрая для молодого человека, преподающего девушкам моложе себя, — и тем не менее, бывал с ними весьма учтив.

Анне Миллер было лет 18-19, когда она училась у него в классе. «Он был так тих и педантичен, всегда при галстуке и в пиджаке. Когда я много лет спустя прочла его книгу, меня поразило, что она такая смешная. Мы его с такой стороны совсем не знали».
Он вообще многое держал в себе. Тельма Тул позднее объяснит депрессию и самоубийство сына отказом печатать его книгу. Однако Тул задолго до смерти переживал симптомы душевного заболевания, которое и стало, в конечном итоге, причиной самоубийства. Он думал, что его преследуют. Люди шпионили за ним, сговаривались против него, даже читали его мысли с помощью электроники.
Доверялся он всего нескольким друзьям; ездил в Лафайетт поговорить с Бобби Бёрном. Бёрн уверял его, что все это фантазии. «Он был параноиком. При разговорах присутствовал мой младший брат, и нас обоих шокировало то, что он говорил. Я убеждал его уехать из дома. Нехорошо — жить с двумя пожилыми людьми. Это его угнетало».
Разумеется, жизнь дома и отказ печатать книгу не улучшали душевного состояния. Однако любой психолог мог бы рассказать Тулу, что его симптомы соответствуют как параноидной шизофрении, так и маниакальной депрессии — а оба эти заболевания возникают от химического дисбаланса в мозгу, а вовсе не от плохих поворотов судьбы. Бёрн вспоминает, что Тул в самом деле записывался на прием к психоаналитику, но не знает, поставили ему диагноз или нет.
В январе Тул неожиданно уволился из Доминиканского колледжа. Сел в машину и уехал из дома, отчаянно пытаясь убежать от своих воображаемых преследователей. С родителями он не попрощался. Тельма Тул обезумела. Через несколько дней она получила письмо, в котором говорилось, что он гостит у друзей в Лафайетте. Очевидно, так оно и было, но после этого он домой не вернулся. Почти два месяца ездил по стране. Затем остановил машину под Билокси, Миссисипи, протянул шланг от выхлопной трубы в кабину, лег на заднее сиденье и позволил своей жизни закончиться.
Тельма Тул заперлась от всего мира на два года. Потом сложила в папку рукопись — или то, что Уокер Перси назвал «cмазанной и едва читаемой машинописной копией» — и начала предлагать ее всем издателям, кого только могла вспомнить. Все возвращали рукопись обратно.
уж умер. Она сломала руку, много месяцев провела в больницах и доме призрения. Наконец, переехала в нищенский сборный домик брата на авеню Елисейские Поля — вместе со своим роялем и рукописью. И продолжала рассылать ее издателям.
И потом — счастливый конец. Через одиннадцать лет после смерти сына он случился — этот иронический поворот судьбы, который понравился бы самому автору. Тельма Тул навязала рукопись романисту Уокеру Перси. Она так настаивала, что тот не сумел отказать вежливо, а грубить леди не мог — ведь он был южанин. Перси прочел книгу, пришел в восторг и убедил издательство Луизианского университета ее опубликовать. Остальное — история.
ель была достигнута. Тельма Тул могла успокоиться. Она и успокоилась — ненадолго. А затем принялась без устали пропагандировать книгу, нимало не смущаясь тем, что передвигаться теперь могла лишь с помощью ходунков.
Через некоторое время она смахнула пыль и с «Неоновой Библии», заговорила о публикации, но потом передумала. Бессмертие сыну уже обеспечено. К чему рисковать и пятнать его имя тем, что он впопыхах настрочил еще подростком? Кроме того, она оказалась не единственной наследницей собственного сына. По законам штата Луизиана, брат ее мужа и его дети также оказывались совладельцами рукописи. Они отказались от своих прав на «Сговор остолопов», когда тот был еще машинописной копией, напечатанной под копирку. Однако такой ошибки они больше не совершат. Загребут половину авторского гонорара — после всех ее трудов. Так вот, Тельма Тул не отдаст им больше ни цента. И на публикацию было наложено вето.
Когда она умерла в 1984 году в возрасте 82 лет, кончина ее попала на первую страницу «Таймз-Пикайюн». Смерть сына в 1969-м удостоилась трех абзацев на странице 12.
В завещании она недвусмысленно запретила публикацию «Неоновой Библии». Однако другие наследники его оспорили и, в конечном итоге, одержали верх. Так плоды труда 16-летнего Джона Кеннеди Тула стали книгой. Замечательной книгой. Не получившей Пулитцеровской премии, но намного превосходящей все, чего можно ожидать от 16-летнего подростка — и даже от человека гораздо старше.
А Тельма Тул в очередной раз доказала свою правоту. Сын ее, как она постоянно твердила, был гением.
«Нью-Орлинз Мэгэзин», май 1993 г.
Наша колониальная литература
"Зеленый легион", Борис Юльский

Видимо, тексты, собранные в этой книге, и можно считать русской колониальной литературой в самом чистом виде - с таким пронзительным ощущением фронтира, жизни на рубеже, на том краю, где с одной стороны - известная масса империи, а с другой - неведомая громада всего прочего мира. Чувствуется это во всем: от истернов о "зеленом легионе" до шкодливой фантазии о Лермонтове и его незаконном отпрыске (зря, кстати, Валерий Перелешин ее "не одобрил" - это он как-то с придыханием о Лермонтове) или мастурбационных фантазиях о жизни в россии XIX века ("Белая мазурка"). Ну и да - это скорее трогательно, чем нет: мужскую прозу Юльский понимает как эдакую наивную мизогинию, свойственную байроническому началу прошлого века: все зло дескать - от женщин. Потому-то женских образов у него и нет, а мужские - часто вполне типовые макеты. Что не отменяет общей прекрасности этого тома.
Неисповедимые пути
"Путь русского офицера", Николай Адерсон

Поразительно интересная книжка, сам не ожидал. По сути, как и заявлено на обложке - воспоминания русского офицера о немецких лагерях для в/п во время Великой войны. Дополнительное же измерение повествованию придается тем фактом, что офицер этот - папа самой блистательной (во всех смыслах) поэтессы Русского Китая Лариссы Андерсен. Особенно впечатляют начальные эпизоды: боевые действия русскими велись так бестолково, что наши герои сами пришли в плен, считая, что вышли из окружения, - и заключительные: возвращение в большевистскую Россию и тот пиздец, который в ней с тех пор воцарился. Хотя еще больше поражает другое: его описания увиденного мало чем отличаются от того, что мы видим ныне, хотя сменилась не одна эпоха и вроде как почти сто лет прошло. Нашелся даже пинчоновский след, но его отыщешь не с ходу.
Имена собираются
Еще одно продолжение литературного концерта об именах
В прошлый раз было продолжение, но мы увлеклись прекрасным новым миром. Сегодня возвращаемся к Олдосу Хаксли вообще.
Этот независимый коллектив назвался в честь развлекательного девайса из его «Прекрасного нового мира». А вот этот — в честь целого романа «Безглазый в Газе»:
Но вернемся к родным пенатам ненадолго. Вот клезмерский оркестр имени Пушкина (даже не так - Пушкина!):
Творчество этого коллектива тоже имеет мало отношения к Александру Сергеевичу, а вот поди ж ты:
У этих чуваков хотя бы березки присутствуют:
Но имя, что там говорить, у нашего классика популярное. Ладно, вернемся к более экзотическим названиям, которыми могут служить не только романы. Вот, к примеру, группа «Девять рассказов»:
Сэлинджер же подарил одной группе и имя своего персонажа. Знакомьтесь, «Холден Колфилд»:
А это уже творческий коллектив под названием «Сговор остолопов» (Джона Кеннеди Тула):
Надо заметить заодно, что песня с таким названием тоже есть, только у другого коллектива:
А теперь — ультралитературное событие: у венгерских прог-рокеров «Солярис» есть концептуальный альбом, который называется… нет, не «Звездные дневники Йиона Тихого», как можно было бы предположить, а «Марсианские хроники». Наслаждайтесь, оно того стоит:
Вопрос, читали эти канадские парни роман Джона Стайнбека или нет, остается открытым, но группа «Гроздья гнева» вроде бы жива до сих пор:
Еще один культовый роман, ставший рок-группой, — на сей раз Хантера С. Томпсона:
Странно, что больше коллективов с таким названием нет. «Страх полетов» Эрики Йонг тоже один:
Хотя словосочетание популярное. Вот вам парочка «Страхов полетов» в виде песен:
Ну и еще один культовый роман — и группа из Сиэттла: «Убик».
Закончим же мы наш сегодняшний концерт по традиции — гимном чтению от коллектива с самым что ни есть книжным названием:
Это хороший совет, будемте ж ему следовать. Ваш Голос Омара.
Последний поворот к себе 2
"Последний поворот на Бруклин", Хьюберт Селби-мл.
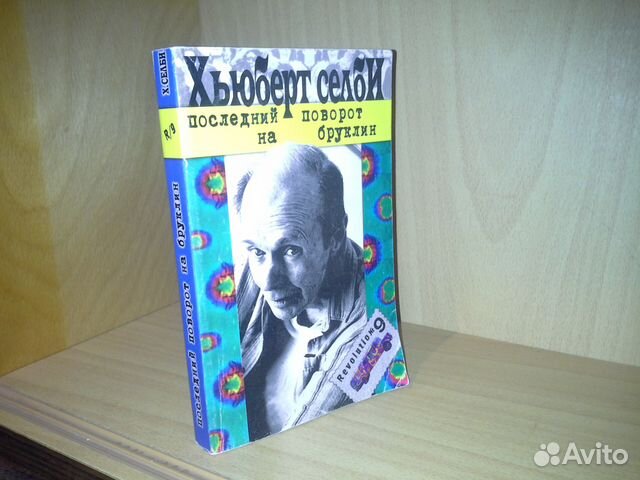
Рождение
…Не верю я в чистый лист. Никак не верю. То есть, нас этому учат, по крайней мере, – в западном мире: что мы рождаемся чистыми листами, а потом учимся брать, брать и брать. А иначе нам пиздец. В этом, кажется, и заключается весь смысл – по крайней мере, в этой стране. Но никто не учит нас, какими методами отыскивать в себе то ценное, что у нас уже есть, сокровища. Мы осознаем, что имеем что-то, только отдавая это другим. Ну, не знаю, не знаю я, где у меня это все хранится, откуда берутся мои обсессии. Я их помню с самого раннего детства. Понятия не имею. Но я благодарен, что осознал их и становлюсь от них все свободнее и свободнее. Про карму и реинкарнацию я тоже, на самом деле, ничего не знаю. Поэтому и происхождения их объяснить не могу.
Просто что-то там есть. Опять же, все дело в этой случайности рождения, которой я не понимаю. Наверное, это можно в себе воспитать. Понимаете, нельзя же решить стать художником – ты потом принимаешь тот факт, что ты художник, но стать им ты не решаешь. Разве можно быть настолько тупым, чтобы пожелать себе такой жизни?
Детство
…По происхождению я англичанин, моя семья по обеим линиям жила в Штатах больше 350 лет. Поэтому я принадлежу к самому маленькому национальному меньшинству этой страны – и требую своих прав, Господи благослови всех нас. Кроме того, меня зовут Хьюберт, и вырос я в Бруклине, где у всех имена вроде Мики, Винни, Тони. Это все равно что быть евреем в ирландском квартале. Все надо мной смеялись. И я с этим так никогда и не смирился. Никогда. Кроме того – не знаю, но мне всегда казалось, что я внутри – какой-то не такой. Все какими-то делами занимаются, а у меня в голове постоянный бардак. Увижу, как кошка в мусорном баке роется, найти себе чего-нибудь пожрать – и уже реву, помираю просто. Ну не могу я просто так на нее смотреть, понимаете?.. Подбитых птичек постоянно домой притаскивал.
Оба – и мать, и отец – на меня невероятно сильно повлияли. Мама у меня – очень сильная, мощная женщина. А отец был алкашом. И умер от пьянства в 78 лет – вовсе не преждевременно. А я себя клонировал по папочке в очень многих смыслах. Неистовый пьяный маньяк. Удрал из дома и пошел в море. Да и вообще… Но мама моя, в то же время, много читала. Только непристойностей терпеть не могла. Кусок мыла мне в рот сразу совала, если я произносил слова вроде «паршивый». Но время от времени и в музеи меня водила – по крайней мере, пару раз в год мы ходили в музеи, в другие места. Отец в 42-м снова в море ушел, а у меня после или до школы всегда была какая-нибудь работа. А это значит, что пол-субботы я работал, а потом мы встречались с ней, ходили в кино. Однажды посмотрели «Отелло» с Полем Робсоном. Ох, это было нечто! Поэтому… баланс такой был. Понимаете, абсолюта ведь все равно не бывает. Было много конфликтов. Мне хотелось и матери угодить, и отцу. А обоим сразу угодить было довольно трудно, такими противоположными они были личностями. Поэтому я попадал под огонь с обеих сторон.
Любил ли меня отец? Ну, не открыто, по крайней мере. Я теперь понимаю – он был настолько невероятно неадекватен, что вообще не понимал, что, к чертовой матери, со мной делать. Точно про него я одно знаю: в двенадцать лет он остался совершенно один на белом свете и работал в шахте. Понимаете, да, как с такой биографией потом жениться? Его мать умерла, когда он был совсем маленький – сам он из Айлэнда, Кентукки. А потом, уже лет в двенадцать, наверное, умер отец, а мачеха просто собрала вещи и отвалила. Поэтому он отправился жить к тетке в Индиану и устроился там работать на шахту. Совсем молодым мальчишкой.
А мама – наоборот, нежничала. Кроме того, она 60 лет в одном и том же хоре пела. И до сих пор бы туда ходила, просто сейчас уже не встает. Ей 89[1]. Могу сказать одно: ее реакция на «Последний поворот» была величайшим для меня комплиментом – я же говорил, как она к плохим словам относилась. Она прочла книгу и сказала только одно: ох, какие бедные люди! Во как. И я понял, что мне, наверное, действительно удалось добиться того, чего хотелось – провести читателя через сильный эмоциональный опыт. Сам опыт чтения этой книги поднял ее над предубеждениями, идеями, верованиями, и она просто отозвалась на людскую боль. Потом я дарил ей все выходившие книги, но не знаю, читала она их или нет. Смогла ли, например, прочесть «Комнату». Некоторые люди не могут.
Начало
Ну, что… Знаете, как начнешь оглядываться назад, так видишь, что с самого начала все к одному подводило. Но самое главное у меня… самое главное – то, что я 30 лет назад бросил пить. И от этого получил возможность соприкоснуться, скажем так, с собственной реальностью – хотя бы в том, что касается этого мира. Это было очень неуютно. Но это, разумеется, – самое главное.
Я могу вспомнить и какие-то другие замечательные вещи. У нас тут была такая штуковина – «Поэзия в движении» называется. Каждую неделю года четыре подряд проводились поэтические чтения. Самое веселое – что у каждой недели была своя тема, а не просто от балды. Ну, вроде: мода, страсть, предельная крутизна, в общем, тут надо много знать – героев спорта, к примеру, в таком духе. И на эту тему следовало что-то писать. И я написал однажды о том, что произошло со мной в больнице, когда мне было 18 лет. Там был один мужик, старик-эстонец, его звали Фокус-Покус. Мы над ним всегда посмеивались, слишком набожный был. И как-то сильно он проникся к одному пареньку, греку из Египта. Тому, наверное, тоже еще двадцати не было. Пареньку постоянно операции делали – каждую неделю три новых ребра вырезали. Такая вот фигня. И с одной операции он не вернулся… в общем, выяснилось, что он умер.
И этот старик, Фокус-Покус, просто безутешен был. Однажды подошел к моей кровати и попросил написать за него письмо. А я в жизни никогда писем не писал – вообще без понятия. Ну, я и ответил: давай. Наверное, меня он просто тронул горем своим. Он говорит: я хочу написать письмо родителям Алекса – а паренька Алексом звали, – и сказать, какой хороший он был мальчик, и что нам всем очень жаль. И вот, я не знаю, но я написал ему такое письмо, как он хотел. И мы его отправили. И получили ответ. Родители написали, что они очень рады получить от нас весточку и все в таком духе. И потом еще какое-то время мы переписывались.
И когда я записывал эту историю – через сорок лет после того случая, – я понял две вещи. Во-первых, в самой истории я задаю такой вопрос: почему этот старик обратился именно ко мне? В палате же куча народу лежала, пограмотнее меня – да все вокруг были грамотнее меня. А кроме того, там были «серые дамы»[2], социальная помощь, кто угодно… А попросил он меня. И вывод, к которому я пришел, пока писал (и только благодаря тому, что писал это – я ведь говорил, что никогда не знаешь, что можешь дать, пока не начнешь отдавать), вывод на бумаге был такой: потому что мне то чудо, которое он предлагал, было нужнее, чем прочим.
И оттого, что я сказал жизни «да», я понял, что внутри у меня всегда были такие неисчерпаемые ресурсы, которых хватит, чтобы выполнить в тот момент свой долг. Он мне предлагал дар любви. Дар – в том, что любить мог я сам. И уже потом я понял, опять же, 42 года спустя: именно тогда я и решил стать писателем. Теперь я это точно знаю. Можно, конечно, и о каком-то духовном решении говорить. Но началось все именно тогда. Я согласился написать письмо.
Слово
...Когда его спрашивали о стиле, Селин, чья бабушка была кружевницей, и чье имя он выбрал себе псевдонимом, отвечал: «Мне хочется, чтобы мои страницы были такими же изящными, как кружева…» Я же не уверен вообще, как можно определить стиль. Я беру и пользуюсь различными методами для того, чтобы совершить то, что, насколько я чувствую, требуется в каждой конкретной работе. В сущности, я хочу провести читателя через какой-то эмоциональный опыт, поэтому должен писать изнутри наружу, иначе мне не добиться этой цели. Я должен хранить верность тем людям, которых создаю: пусть они живут своей жизнью, – поэтому манера моего рассказа должна отражать ритм их жизни, то, как они говорят… В идеале, поверхность строки должна быть для меня настолько выпуклой, чтобы читателю даже не нужно было ее читать. То есть, она просто сходит со страницы, и ты ее схватываешь – вот чего мне надо.
Я пишу музыкально, поэтому пришлось разработать такую типографику, которая, в сущности, не что иное, как система нотной записи. Мне хочется, чтобы все оставалось как можно проще и очевиднее. В простоте – глубина. Вот такие вещи меня заботят, а все вместе они помогают сформироваться моему «стилю». Понятно, что присутствуют и многие другие элементы, причем, многих я не осознаю. Мой «стиль» образует все мое естество – как и у кого угодно.
Я пишу наглядно. Понимаете, то, что я пишу... я это ощущаю. А потом слышу. На сознательном уровне я следую, прежде всего, Бетховену. То есть, я все представляю себе наглядно. А потом, сев и начав писать, я стараюсь подыскать слово, которое бы совершенным образом отобразило все, что я ощутил, увидел и услышал. Так что тут все основано на изображении. В том смысле, что я все очень четко вижу. Ведь мы все обладаем тем совершенством, которое нам необходимо. Мне главное тронуться, сойти с места. Завести мотор. И, в общем-то, это – моя работа. Свернуть свое «я» с привычной дороги. Так что приходится искать наилучшее отражение, наилучшую ноту, верное слово, фразу, слог, пунктуацию, которая бы совершенным образом отображала – а если не добиваешься совершенства в том, чем я занимаюсь, ты предстаешь полным идиотом. Меня все еще называют варваром и невеждой в этой стране.
Не думаю, чтобы на мой язык или на меня как на стилиста вообще повлияли наркотики. Наркотиками я начал увлекаться лишь после публикации «Последнего поворота». А стиль, язык и все прочее, наверное, к тому времени у меня уже установились. Селин-то мескалин принимал, говорят, я же никогда не увлекался галлюциногенами. Траву курил, это да – в сущности, тоже галлюциноген.
По реакции я понял, что когда публика начинает читать мои книги, люди как-то ассоциируют себя с ними и получают удовольствие. Это академическое сообщество подвергает меня какому-то остракизму. На самом деле, после выхода «Последнего поворота» мне кто-то сказал, что против романа существовал некий заговор: крупные книжные магазины в Нью-Йорке отказывались выставлять ее на витрины. Продавать-то продавали, но не показывали.
Но после этой книги писать мне было уже гораздо легче. На «Последний поворот» я потратил шесть лет, но все это время просто учился писать. Это была пытка. Например, Труляля – там про нее, кажется, страниц двадцать или около того. Не помню. Не очень много. У меня на это ушло два с половиной года. Знаете, я ведь не способен сидеть и целенаправленно думать. Я могу думать вслух, даже разговаривая с кем-нибудь, или на бумаге. А время тогда уходило в основном на понимание сюжетов.
Уже в процессе появлялись необходимые инструменты. Но иногда мне трудно писать физически, поэтому когда у меня есть энергия – я работаю. «Ива» в этом смысле оказалась книгой очень трудной. Я писал ее, может быть, пару недель, а потом, скажем, год не мог к ней притронуться. Адский труд потом – избавляться от повторений. А сама работа занимает от силы несколько месяцев, само по себе писать стало легче, поскольку есть инструменты и знаешь, как их применять. Поэтому приходится постоянно бросать себе вызов, чтобы было интереснее. Мне нравится заниматься тем, что я не делал раньше. Иногда получается, иногда – нет.
Если говорить о действительном количестве, то рассказов я написал больше, чем романов. Не знаю, какую форму я предпочитаю. Просто в какой-то момент что-то происходит, иногда оно приходит как рассказ, поэтому так и пишешь. Еще я написал кучу стихов в прозе – для лос-анжелесской программы «Поэзия в движении» – очень личных, написал несколько псалмов. Я никогда не знаю, что, к чертовой матери, буду делать дальше. Наверное, этого никто не знает, наверное, мы просто обманываем себя, когда думаем, что знаем.
Свои ритуалы у меня тоже есть, и немало – я никогда не знаю, какой из них поможет. Собственно, неважно, как начинаешь писать, главное – качать помпу дальше. Иногда я пишу письмо, иногда, если не знаю, что делать, – перепечатываю старые рукописи. Среди прочего мне нравится какое-то время смотреть живопись. Я иду в музей и брожу рядом с картинами, которые мне нравятся. Иногда ору, визжу, плачу. Никогда не знаю, как получится. А иногда – например, сейчас – просто сажусь и записываю всякую дребедень. Написал вот одну штуку об обычной простуде, написал «белки их глаз», чтобы войти в ритм. Я просто никогда заранее не знаю.
Ритм приходит в зависимости от того, что мне требуется. Понимаете, я всегда пытаюсь выполнить свой долг перед тем, что пишу. Я пишу на слух, и ритм истории, ритм повествования очень важен. Например, пишу я что-то о каком-то определенном человеке, и ритм, синтаксис и так далее должны отражать его личность.
Я не считаю своих героев персонажами. Я считаю их людьми. То есть, была девушка по имени Труляля. Но это все, что я о ней знаю. Однажды ночью я слышал о ней в двух разных местах, и помню ночь, когда Труляля оголила грудь в баре. А где-то еще кто-то сказал – возможно, это было несколько месяцев спустя, – что Труляля нашли голую... И это все, что я знаю о Труляля. А имя, такое имя как Труляля, оно застревает в голове. И то же самое с «Забастовкой». Это фантазия, но это мой пережитый опыт, пропущенный сквозь фантазию. Единственный более или менее реальный персонаж – Жоржи. Жоржетта. Был молодой гей по имени Жоржи. Так что этот момент правдивый. В Жоржи я изобразил самого себя. То есть, понимаете, мои фантазии... всё такое.
Ну, в некотором смысле я пишу спонтанно, хотя это, конечно, заблуждение. То есть, иногда слова попадают в мое сознание казалось бы из пустоты, но чаще всего, они проходят период вызревания; я даже как бы чувствую, что они рвутся наружу, я как бы слышу их, и они выходят и как бы предстают перед моим сознанием. И тогда я сажусь. А иногда ничего не осознаю, пока не услышу какую-нибудь строчку, сяду и запишу ее, а потом продолжу.
Это далось мне с очень, очень большим трудом. Я ведь считаю, что наше внутреннее «я» отражается в нашем словаре, в том, как мы пользуемся словарем, в ритме речи, в расположении слов, слогов. Знаете, я же вырос на радио. Но все же самое большое влияние, я думаю, на меня шло с улиц. Эти чертовы нью-йоркские улицы. Этого не понимаешь, пока не попадаешь в такое место, как Лос-Анжелес, настолько он однороден.
Краски и звуки
Наверное, первым глубоким знакомством с цветом для меня стала выставка Ван-Гога в музее «Метрополитен» в конце 40-х годов. В то время это была самая крупная коллекция его работ в Америке. Поздние его картины – например, спальня с ее сплошными блоками цвета – очень глубоки.
Сейчас я воспринимаю цвет почти как сюжет, а не как краски реальности импрессионистов. Меня зачаровывают взаимоотношения цветов, то, как они воздействуют друг на друга и, в конце концов, – на всю картину. Сутин и Бэкон, разумеется, со своими цветами, разумеется, заходят дальше «реальности». Цвета Бэкона воздействуют мощно и физически. Если неожиданно сталкиваешься с его картиной, тебя точно одновременно лупят по голове и бьют в живот. Очень сильное воздействие…
А потом, через несколько секунд, минут или какое угодно время спустя начинаешь видеть формы картины. Я помню Сутина – его работы несколько нежнее, хотя на меня очень сильно действуют его краски, не только сюжеты или, как во всех картинах, сопоставление предметов.
О Хоппере я не думаю в смысле цветов – больше в смысле ясности, точности его реализма, который выходит за границы реализма. В каком-то смысле он мне напоминает Родена, в особенности его «Мыслителя» – я всегда ожидаю, что вот сейчас он перестанет думать, встанет и пойдет. Хоппера я воспринимаю так же. Неважно, насколько статичными у него кажутся люди, я чувствую в них потенциал к движению. Я живу кишками, и ясно, почему эти художники мне нравятся.
Некоторые художники мне близки, да. Точнее было бы сказать – их работы мне близки. Среди них много имен, которых я не помню или никогда не знал. Ходить и смотреть на картины иногда очень успокаивает, стимулирует и вдохновляет. То же – с писателями. Помимо моих друзей, мне всегда очень утешительно думать о Мелвилле, Бабеле или Селине.
Я не знаю, много ли я читал Генри Миллера до того, как начал писать. Наверное, еще и потому, что в то время он почти не выходил – я-то начал писать в середине 50-х. А если даже и читал, то не думаю, что Миллер на меня как-то сильно повлиял. Потому что мы, кажется, совершенно по-разному подходим к вещам. У меня здесь есть пара его книжек, но некоторые… Понимаете, у меня всегда очень определенный сюжет. Я – писатель старомодный: начало, середина и конец. А у него часто этого нет. Он как бы просто бродит по улицам Парижа, так сказать, а потом начинает бродить у себя в уме. Просто гуляет, блуждает. Это клево – я его не критикую. Но мне кажется, что мы ко многому подходим по-разному. Хотя одна книга у него – один из «Тропиков», забыл, какой, где действие в Бруклине происходит, он там еще в «Вестерн-Юнионе»… там довольно прямой сюжет, она вся как бы линейна, и в некоторых частях ее я просто смеялся вслух. Где там сначала про его первую няньку, помните?..
То же самое с Селином. Не думаю, чтобы на меня он… как-то повлиял тоже, хотя если оглянуться, действительно кажется, по крайней мере – на поверхности, – что у меня гораздо больше общего с ним, чем с кем бы то ни было еще. В таком неистовом, яростном, маниакальном смысле.
А самое большое влияние – Бетховен. Господи, я просто люблю этого парня. Самое большое воздействие на всю мою жизнь. И единственное сознательное влияние на меня как на писателя… Художники Возрождения меня просто вырубают. Абстрактные экспрессионисты меня вырубают. Не могу не вспомнить, как я впервые читал «Моби Дик» – я просто сошел с ума. Изумительная книга. В 1988 году меня потрясло, когда я попал в музей Родена в Париже. Он ведь, кажется, и сам там жил – я могу ошибаться… Как бы то ни было, когда мы туда впервые пришли, через несколько минут я понял, что хожу на цыпочках. Не знаю, может, на самом деле, и нет, но было ощущение такого всеобъемлющего почтения – не хотелось ничего тревожить, будто он сам в своих работах присутствует до сих пор. Монументально – во всех смыслах этого слова. очень глубокое переживание, честное слово. А день еще такой мерзкий был — дождь, тоска. Переживания, которые ты получаешь от художников и их работ, – они не только бесконечные и вечные, они в каком-то смысле неизменные. Но если они бросают тебе вызов, то в тебе происходит та необходимая перемена, которая нужна искусству для успеха.
В детстве я прочел одну книгу, она называлась «Герои науки» – про Эдварда Дженнера, Лавуазье… там про многих ученых было. И, помню, мне лет восемь или десять было, и я решил, что вырасту и найду способ, как прекратить страдание во всем мире…
Бог
В одном документальном фильме меня спросили, верю ли я в Бога, и я ответил, что все зависит от того, как определять Бога. Я не верю в большинство привычных дефиниций, в то, как Бога определяет большинство людей. Не знаю, могу ли я сам определить «святость». Конечно, я стараюсь жить в соответствии с какими-то духовными принципами. Это основа каждого моего дня. Но определять… Наверное, вообще не получится. Видимо, если ты можешь что-то определить, оно этим не является. Оно должно быть выше моей способности определять и понимать. Но в жизни у меня были переживания, которые как бы вынудили меня поверить в некую силу. В творческую силу, источник, как угодно назовите. И я пережил, если угодно, нечто основное… ох, трудно словами описывать нечто вне всяких измерений. Но, наверное, это можно назвать любовью и заботой.
Скажем так – я верю в нечто за пределами этого тела. И за пределами мира физического. Абсолютно верю. Тот же Генри Миллер перед смертью сказал, что он не верит в Бога первого лица единственного числа, но верит в творение. Можно сказать, что я – просто «агент» такого творческого. Откуда возникает это творческое начало, творческая сила? Только не снаружи, никогда не снаружи – только изнутри. Но глубину этого нутра я ограничить не могу. Потому что как только заберешься внутрь, там открывается такая безграничная, бесконечная вселенная. Для меня очень важно сказать про это «внутри», поскольку я считаю, что снаружи меня ничего нет.
И мы все – части этого «Оно». Абсолютно. Видите, как интересно: очевидно, что каждую секунду каждого дня рождаются люди, умирают, а потому, чем бы это «Оно» ни было, оно видоизменяется. Постоянное превращение, поток. Да, мне хочется удержать его в неподвижности. Наверное, отсюда и множество моих проблем – и, можно сказать, проблем мира: мы пытаемся это контролировать вместо того, чтобы просто ему сдаться.
Мораль
Если определять смысл жизни в одной фразе, то, наверное, вот: быть как можно добрее и нежнее, как можно больше любить. Откуда я знаю, моралист ли я – я о себе никогда в таких понятиях не думал. Наверное, до какой-то степени, потому что меня заботит моральная динамика любой истории, которую я рассказываю. Не только психодинамика, но и моральная динамика, это важно. Когда меня впервые кто-то попросил сказать, о чем «Последний поворот», я неожиданно услышал свой голос: «Об ужасах мира без любви». И это, наверное, правда, чем больше я… А это случилось много лун назад, но вылетело у меня из уст, и у меня до сих пор нет причины брать свои слова обратно.
Ведь как бы нет пророка в своем отечестве. Такое чувство, что всем есть чего защищать. И всеми движет страх. То есть, я не имею в виду буквально – всеми. Но в основном людьми движет страх. Некоторыми движет злоба, но все же в основе лежит страх. Видите ли, страху нужна форма, чтоб проявиться, а злоба сама по себе форма. Так или иначе. В «Последнем повороте» у меня она проявилась в форме жалости к себе самому. Наверно, так. По мне, жалость к себе самому переходит в злобу, потом в гнев и так далее. И мне казалось, что это и заставляет меня писать, именно она – злоба. А потом, когда вышел фильм, я наблюдал последствия, наблюдал за своей реакцией на происходящее с этими людьми и перечитывал то, что написал с 1964 года. Недавно опять перечитал. И еще раз убедился, что мы не знаем самих себя. Мне казалось, что во мне сидит ярость, а теперь я вижу, что любовь была настолько подавлена, что я бился, шарахался и плакал тайком... Но я... я не мог себе позволить прикоснуться к этому. В моем сознании сострадание пересиливала жалость к себе самому, и я не понимал, что оплакиваю и себя, и их. Потому что я не знал, как остановиться и начать сокрушаться о том, что со мной произошло. Так появились страх и жалость к себе самому, вызванные как раз злобой и гневом. Я ведь не знал, что делать – я не умел горевать, я не мог взять и сказать себе: «Ну что, ты прожил трудную жизнь. Огреб по полной программе. Ну и что теперь с этим делать?» Я не мог так сказать. Я всегда чувствовал себя полем битвы небесных псов с псами ада. Понимаете? Вот так. Крик, искавший уста... Ими оказался я сам.
Америка
Не знаю, чувствуя ли я себя гражданином Америки. Я не знаю, как должен себя чувствовать гражданин Америки. Я уверен в одном – к своей стране я отношусь не так, как большинство ее жителей, но мне нравятся ее возможности. Однако, ее реалии меня иногда разочаровывают. Наверное, я больше всего ощущаю себя нью-йоркцем, а не американцем, а это значит, что я больше европеец.
Мне всегда кажется, что остается какой-то лучик надежды на просвещение. Человечество, тем не менее, таково, что мы всегда будет сначала пробовать что-то другое, и только потом – просвещение. Конечно, мы убеждаем себя, что делаем это во имя просвещения, но только когда начинаем понимать, что раздуваем адское пламя, признаем, что допустили ошибку. В этой стране мы верим, что наша форма экономической демократии спасет мир и считаем это подлинным просвещением, но, разумеется, это не оно. Наверное, мы все сможем осознать ошибочность своего пути еще до того, как уничтожим всю планету… Однако не мешает помнить и то, что всякий раз, когда нам кажется, что мы заперты в аду, на самом деле мы стоим у врат небесных.
Нет, горечи по поводу того, как Америка относится к своим художникам, я не испытываю — но иногда мне грустно. Понятно, что особенно грустно мне было в те годы, когда приходилось перебиваться с хлеба на воду и как-то поддерживать семью. По-настоящему-то я зарабатывать никогда не мог – из-за своего физического состояния, недостатка образования и так далее. А правительства вообще… Единственное мне известное правительство — вот это. И в нем нет департамента культуры или чего-то похожего, как в некоторых европейских странах. Хорошо это или плохо, я не знаю. Я уверен, что многие художники были бы по-настоящему против, если бы в искусство вмешивалась бюрократия. Но было бы мило как-то получать какие-то деньги, нет? Знаете, я пару раз подавал заявки в Национальный фонд искусств, в фонд Гугенхайма, в такие вот организации. И мне постоянно все отказывали. По их мнению, в этой стране – 2000 писателей гораздо лучше меня. Вполне возможно, что это правда – хотелось бы их почитать… Поэтому насчет правительств и отдельных художников я не знаю. Подозреваю, что им бы действительно не стоило лезть в искусство. Наверное, было бы неплохо, если бы правительства немного больше помогали, скажем, оркестрам, балетам, чтобы те могли как-то существовать. Дали бы, скажем, налоговые льготы на продажу билетов. Как-то, наверное, можно сделать и при этом не путаться под ногами. Но отдельные художники – наверное, нам лучше идти своим путем.
Художник
…Ведь как получается жемчужина? Кто ее делает? В этом-то вся штука. Потому что художник по определению находится вне основного потока общества. Это Йейтс сказал, что художник – антенна человеческой расы? И это правда. Мне кажется, что художник видит простые и очевидные вещи, которые не видны всем остальным. Они были всегда – они вокруг нас. А художник просто увеличивает то, что не видно остальным, чтобы они хотя бы поняли, что здесь что-то есть.
Почему я писатель? Гм. Будда сказал: «Не спрашивай, почему». То есть, я совершенно не знаю, почему я писатель, но я писатель. Я пишу потому, что у меня нет выбора. Я живу в полной мере только когда пишу. И как бы мне ни было хорошо перед тем, как я сажусь за машинку, мне всегда становится лучше когда я... Я попросту оживаю. Я становлюсь более целостным. Я более живой, когда пишу. И это моя работа.
А к индивидуальному голосу по-прежнему прислушиваются – даже в культуре, которая чем дальше, тем больше становится массовой. Особенно молодые люди. Сейчас в общественных местах можно часто увидеть молодежь в татуировках, с пирсингом, с тем и этим – они так делают, чтобы показать, что бунтуют. Генри меня познакомил со множеством молодых людей, которым лет двадцать, даже моложе – и они читали мои книги и по-настоящему как-то прикипели к ним, по-настоящему понимают, что в них происходит, у них к таким книгам голод. И одна из причин, наверное, в том, что ребята эти выросли в годы Рейгана-Буша, им не хватает честности. И когда они такую честность где-то видят, они сразу ее узнают. Думаю, это так, хотя остается и много массового отношения, отношения Мэдисон-авеню и так далее – но всегда остается заинтересованное меньшинство. Проблема не в том, что аудитория маленькая – нужно просто доносить до нее материал, заставлять осознать, что такой материал существует.
Любовь
…Да, о да. В каком-то одном смысле – в эмпирическом. Но если любовь – это то, что я пережил, я не могу отделить ее от других людей. Я не могу отделить от них творение, не могу отделить от творения ту творческую штуку, которая к нам приходит. Да это и не получится. Как я уже говорил раньше, мы все – части этой творческой силы. Так куда ж еще мне направлять эту свою любовь? Я могу, конечно, сидеть один и переживать ее, захлебываясь таким экстазом, что вырывается только «благодарю тебя», но в конечном итоге я направляю ее на людей. То есть, надеюсь, что это получается.
И на работу, конечно… правда, если говорить об определениях, любовь в моих книгах, наверное, трудно отыскать. То есть, согласно тому, как люди определяют любовь. Мы же не о романтической любви говорим. Мы говорим об исступлении, о творении. И – о невообразимой боли.
Счастье
Понимаете, я много лет назад кое-что для себя открыл: оказалось, я столько лет пытался быть счастливым, что в конце понял – счастливым я быть не могу. Счастье – естественное состояние бытия. Когда я перестаю делать то, от чего становлюсь несчастен, я испытываю счастье – свое естественное состояние. Понимаете, мне не кажется, что мы созданы из боли, страдания и тому подобного. Мы созданы тем, что бы там ни было – оно просто расширилось, и получились мы. Но я вам сейчас столько неверных представлений нагромоздил, что самому неудобно.
Будущее
Мои планы – каждый день как можно лучше делать то, что я делаю. Надеюсь, что смогу работать каждый день, но я готов принимать и то, что на меня может свалиться, и не сходить с ума, если какое-то время работать не смогу.
На самом деле, я стараюсь не употреблять слова «оптимизм». Это все равно, что утверждать: все кошмарно, но может стать лучше. Я же предпочитаю не судить «здесь и сейчас» своей жизни и просто делать то, что получается лучше всего, и быть самым лучшим собой, каким только можно.
В мире сейчас много бед, которые нужно как-то изменить. Тем не менее, понятно, что мир меняется, только если меняется человек, а человек этот в данном случае – я, и меняться должен тоже я. Это мой долг. Поэтому мне кажется, что следует прислушиваться к тому, что происходит, но сосредотачиваться на том. чтобы изгнать тьму из собственного сердца, а не залипать на том, что со мной не так… Чтобы самому стать частью ответа.
Смерть
Самые замечательные события в моей жизни… Номер один – то, что я родился. Я начал умирать за 36 часов до того, как родиться. К тому времени, как я появился на свет, у меня уже были серьезные проблемы. Я весь посинел от цианоза, у меня вся голова была свернута набок и бесформенна, поврежден мозг. Моя мать тоже чуть не умерла, очень сильный токсикоз, и она даже спросила врача, как же ей меня кормить. Он ответил: «А просто давайте ему грудь, и в конечном счете весь яд он высосет». В двадцатый век меня пришлось вытаскивать с воплями. Наверное, это и был определяющий момент, потому что я с тех пор такой непокорный.
И смерть для меня стала образом жизни. Когда мне было 18, в 1946 году, мне сказали, что я и двух месяцев не проживу. В конце концов я провел больше трех лет прикованным к постели, мне вырезали десять ребер, у меня осталось чуть больше половины одного легкого, и в мозг поступает недостаточно кислорода. В 1988 году врач сказал одному моему другу: «Если верить всем медицинским показаниям, ваш друг мертв». Такой вот образ жизни. Но мне кажется, что это и есть самое ценное. Не могу на это пожаловаться, хотя приходится. Я вообще на все и всех жалуюсь, какого черта.
В другой раз, я уже был женат и у нас была дочь, ей в то время было года два или три. Я сидел с нею дома один и вдруг понял, насколько это все духовно, хотя в то время таких вещей не понимал. Но я понял, что настанет день, и я умру. А перед тем, как мне умереть, произойдут две вещи: Первое – я пожалею обо всей свой жизни. Второе – мне захочется пережить всю жизнь заново, и после этого я умру. Я пришел в ужас, в совершеннейший ужас. И понял, что мне нужно со своей жизнью что-то делать. Мне стало страшно от того, что я проживу всю жизнь и в конце пойму, что облажался.
Я в то время получал пенсию по инвалидности, моя жена работала на полставки, кажется, в универмаге «Мэйсиз», приближалось Рождество, поэтому я купил пишущую машинку и решил стать писателем. О том, как быть писателем, я ничего не знал. Знал одно: надо что-то делать со своей жизнью, а стать писателем – единственное, что я мог тогда придумать. Поэтому я просидел за ней две недели – у меня не было ни малейшего представления о том, как нужно писать рассказы. Я понимал, что должен что-то сделать, пока не умер. Поэтому я написал письмо. Так все и началось.
В тексте использованы фрагменты интервью Хьюберта Селби-младшего Лу Риду (из книги «BetweenThoughtAndExpression», HyperionBooks, 1991) в переводе Кирилла Медведева, интервью Тьерри Брюне (SpikeMagazine, 11/1999), Робу Куто (RainTaxiMagazine, 12/1999) и Рэчел Филлипс (2000).
[1] В момент интервью — Мх.
[2] Так называли неквалифицированных добровольцев Красного Креста из-за цвета их формы.
Последний поворот к себе 1
"Последний поворот на Бруклин", Хьюберт Селби-мл.
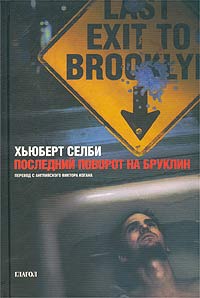
История
История книги известна. Хьюберт Селби-младший родился в Бруклине в 1928 году, в 15 лет он бросил школу и отправился служить на торговый флот, где его свалила болезнь – туберкулез. Десять лет будущий писатель провел в больницах, его признали неизлечимым и отправили домой умирать. Но умирать он отказался, средств к существованию не было. И Селби принял решение, изменившее весь ход литературы того времени: «Алфавит я знал. Может, получится стать писателем?» Так он начал записывать все, что помнил о Бруклине. Книга, писавшаяся под названием «Королева мертва», через шесть лет еженощного упорного труда над словом превратилась в роман «Последний поворот на Бруклин» (1964). Прочтя рукопись, Аллен Гинзберг предсказал, что «она взорвется адской ржавой бомбой над Америкой, но читать ее будут и через сто лет».
Роман этот сделал Селби в прямом смысле слова иконой контркультуры – ее равно хвалили и поносили во всем англоговорящем мире, так что предсказание Гинзберга сбылось. В Англии «Последний выход» стал предметом судебного разбирательства и запрета – автора обвиняли в непристойности. За него вступились Энтони Берджесс и Сэмюэл Бекетт. Публикацию разрешили только в три года спустя. В Штатах Селби, конечно, повезло больше, чем Генри Миллеру, чей «Тропик рака» – книга, по тем временам гораздо менее непристойная, – могла появиться в Америке только контрабандой из Европы. Но «Последний выход» прошел иной путь сопротивления, и книгу, в конце концов, приняли не только как свидетельство новой прозаической поэтики – она стала классикой литературы. Даже «Нью-Йорк Таймс» была вынуждена признать, что «место Хьюберта Селби – в первых рядах американских писателей, а в его работе видны сила, глубокое страдание, честность и моральный напор Достоевского… Понимать книгу Селби – значит, понимать муку Америки».
Бескомпромиссный роман об униженных и оскорбленных, живущих в мире насилия, безумия и ярости, мог считаться разрушительным при выходе – как удар молнии в сетчатку. Им вдохновлялись такие известные рок-бунтари, как Лу Рид, Генри Роллинз, Боб Моулд и Курт Кобейн. Они утверждали, что книга изменила их жизнь. Известный сатирик 60-70-х годов Ричард Прайс говорил так: «Мне кажется, самой большой данью уважения или комплиментом произведению искусства, в любой форме – это сказать, не как сильно ты ее ценишь, а как быстро тебе хочется из него выбраться, вернуться домой и заняться своими делами. Потому что он этой работы ты сходишь с ума, и тебе не терпится начать писать или рисовать самому. Книги Хьюберта Селби – первое, что вызвало у меня такое чувство».
В 1989 году немецкий режиссер Уди Эдель снял по роману «Последний поворот на Бруклин» фильм с Дженнифер Джейсон Ли в одной из главных ролей. В отличие от многих других авторов экранизируемых произведений, Селби работать над фильмом понравилось настолько, что он сам снялся в небольшой роли.
Второй – самый любимый у автора – роман называется «Комната» (1971), и многие считают его шедевром. Он вырос из раннего рассказа «Звук», вошедшего впоследствии в сборник «Песня молчащего снега», – о заключенном, переживающем белую горячку. Сам Селби в период детоксикации провел месяц в одиночном заключении. «Правда, – рассказывал он впоследствии, – это не была такая дыра, как в рассказе: из-за моего туберкулеза меня поместили просто в “комнату одиночного пользования”. Наверное, это можно назвать изолятором. Там я и написал этот рассказ – в камере одиночного пользования».
Этот роман получил, как считает автор, «самые лучшие рецензии в моей жизни» и не оставил ни малейшего следа на американском книжном рынке. Однако, история «Последнего поворота» повторилась: через много лет, особенно в Европе, книгу стали рассматривать так же, какой ее видел сам автор – самым тревожным произведением в истории литературы. Двадцать лет после окончания книги Хьюберт Селби не мог ее перечитывать сам.
Дальше писательская карьера Селби развивалась успешнее, но ненамного. Тему третьего романа «Демон» (1976) задавал очень простой эпиграф: «Человек, одержимый идеей, одержим демоном». Как и «Комнату», его лучше поняли и восприняли за рубежом, чем в Штатах. Потом последовал роман «Реквием по мечте» (1978) – наверное, самый честный и полный рассказ о героиновой зависимости – открывается фразой, которую сам автор до сих пор считает лучшим началом для романа: «Гарри запер мать в чулане». В 2000 году книга была экранизирована Дэрреном Аронофски. В сборник «Песня молчащего снега» (1986) вошли 15 рассказов, написанных за 20 лет.
Весной 1998 года в лондонском издательстве был опубликован давно ожидавшаяся и, пожалуй, самая жизнеутверждающая книга Селби – «Ива». Автор вспоминает о работе над ней: «Каждая работа проходит период размышлений, созревания, но “Ива” пала жертвой моего физического состояния – мне подолгу приходилось ждать, пока у меня появится энергия, чтобы писать. В результате, работа растянулась на столько лет. Поскольку не писать приходилось долго, возвращаясь к работе, я вынужден был заново входить в ритм книги и много переписывать, поэтому чтобы не повторяться, сразу приходилось и много редактировать».
Но «Последний поворот на Бруклин» остается самым известным и скандальным произведением писателя. В 1997 году Селби начитал его целиком на пленку и выпустил отдельным изданием на компакт-дисках на звукозаписывающем лейбле Генри Роллинза «2.13.61 Publications». До этого в сотрудничестве с Роллинзом Селби записал литературный альбом «Наши отцы, не попавшие в рай» (1990), а в 1997-м – сборник своих выступлений в Европе в 1989 году.
В последние десятилетия работы писателя публиковались во множестве литературных журналов культурного авангарда и подполья. Годами писатель с семьей существовал на одно социальное пособие. В последние годы Селби жил в Лос-Анжелесе, преподавал, писал мемуары под рабочим названием «Семя боли, семя любви» и роман «Период ожидания», начавшийся с анекдота о человеке, которому хочется покончить с собой, но бюрократическая система не дает ему такой возможности, и он становится изощренным и коварным убийцей.
Главным образом, Хьюберт Селби писал, чтобы остаться в живых. Печатал на машинке, потому что писать от руки слишком трудно. Компьютера, судя по всему, у него не было до конца жизни, а умер он весной 2004 года.
Соавтор Селби по последней аудио-записи «Голубые глаза и пулевые отверстия» и сам очень интересный писатель Ник Тош так говорит о нем: «Чтобы определить, в чем сила и блистательность Селби, придется вернуться к повествовательным ритмам Гомера, Гесиода и Сафо; вернуться к тьме, свету и красоте Данте; зайти за дорожный знак, ставший названием его первого романа. Все, чем в пантеоне американской литературы считается Герман Мелвилл, другой великий бывший моряк и далеко не чужой человек в Бруклине, в нашем веке является Хьюберт Селби-мл. «Последний поворот на Бруклин» – это «Моби Дик» нашего столетия, только лучше. И если это кажется ересью, то такой ее сочтут мертвые умы, позволившие Мелвиллу умереть в неизвестности. В один ряд с Селби можно поставить лишь очень немногих американских писателей: Питера Маттиссена с его лучшими книгами, наверное – Филипа Рота, если снимет свою ермолку. А если говорить, блядь, о живых легендах среди писателей, то Селби – и вообще единственный. Лавровый, блядь, венок на него надеть и начислять по миллиону в год».
Но Хьюберт Селби жив до сих пор, и нам кажется интересным послушать его самого.
Продолжение следует.
Причудливая машина времени
"Искусственная принцесса", Роналд Фёрбэнк

Еще один дивный английский эксцентрик (дождавшийся у меня на полке своего часа прочтения) — из той породы, что размечена такими именами, как Лоренс Стерн, Оскар Уайлд, Уильям Джерхарди, Мервин Пик, а из нынешних, пожалуй, — Дейвид Бриттон, хотя Фёрбэнк, конечно, не так трансгрессивен, пусть для своего времени и был, я допускаю, чрезмерен). Да, в первую очередь — стилисты, у которых порой единственный мессидж сводится к медии.
Пленных при этом Фёрбэнк не берет — изящество у него загоняется в читателя по самую рукоятку: все, что он говорит, «…неизменно заострено, и часто впрямь так тонко, что слова кажутся слишком грубым средством, дабы передать неуловимые смыслы», как он сам описывал одну свою персонажицу. А персонажи эти — язык не поднимается называть их «героями» — суть смутные особы неведомых королевских кровей, негритянская аристократия, 120-летние дамы, благородные священнослужители малопонятных убеждений… Порой кажется, что все это как-то чересчур, автор писал сказки, но увлекся транскрипцией разговоров. Разбегающиеся диалоги, рудиментарные фабулы, едва набросанные пейзажи и детально прописанные интерьеры и туалеты — все это высшая абстракция, чистое искусство, и ценности в этом не меньше, чем в чем угодно написанном.
Стиль кучеряв, манерен и куртуазен до того, что часто возникает ощущение — автор просто издевается над своими персонажами, но при этом лучше не забывать, что к издевательству все отнюдь не сводится. Сам автор еще и упивается этой тонкой филигранью с фиоритурами, этой разреженной атмосферой тлена, пробивающейся из под описываемых экзотических ароматов. Комедия манер у него прописана — не набросана жирными мазками, как у Уайлда, проработана настолько тоньше, что следы ее иногда теряются. И в этом кружевном плетенье словес — могучая правда жизни.
Судить его за такие экзерсисы невозможно — нам просто не понять, таких людей больше не делают. Романы Фёрбэнка — вот настоящий десант на машине времени на 100 лет назад.
Грудной голос
"О редактировании и редакторах", Аркадий Мильчин

Отличная компиляция всего на свете о работе русских и советских редакторов, которую бросает из крайности в крайность. С одной стороны, много веселого и полезного, какое-то количество анекдотов и житейской редакторской мудрости, которая при верном применении может оказаться эффективна. С другой - чистый ужас пролеткульта и совка.
В моем личном топе - цитата из Исая Рахтанова, внемлите: "Редактировать не значит сидеть за письменным столом и черкать рукопись карандашом, редактировать - это воспитывать автора, расширять его кругозор, рассказывать неповторимым грудным голосом о том, чего достигло человечество в твоем любимом деле". Это он о Маршаке, если что, 1963 год, стр 87-88.
Так что добро пожаловать в удивительный заповедник (практически гоблинов). А я пойду, пожалуй, и дальше говорить с кем-нибудь неповторимым грудным голосом...
Собирая имена
Психоделические Бёрджесс, Фолкнер и 23 прекрасных новых мира
Мы уже некоторое время назад обещали вернуться к теме имен разных творческих коллективов и вот наконец собрались вспомнить всех поименно… ну, кого успеем, во всяком случае.
Это был наш эпиграф: традиционный спиричуэл, играющий крупную роль в романе Боба Дилана «Тарантул». В первом исполнении, заметим. Название же следующего коллектива было заимствовано у Энтони Бёрджесса из романа «Заводной апельсин»:
Этот текст, бесспорно, оставил свой отпечаток в умах многих рок-музыкантов. Вот и самое известное русское слово, вошедшее из него в английский язык:
И вот в этом сочетании букв виден след «Заводного апельсина». Видеоряд в этом клипе тоже примечательный — из шизофренического шедевра американского агитпропа «Косячное безумие»: смотрите, дети, до чего может довести одна выкуренная штакетина:
А вот этот коллектив из Лос-Анжелеса назвался в честь климатического явления из романа Дона Делилло «Белый шум»:
Название «Искусство шума» восходит к эссе итальянского футуриста и одного из пионеров шумовой музыки Луиджи Руссоло «Искусство шумов»:
Еще немного истории: этот коллектив заимствовал свое название у Джона Дос Пассоса:
Вот этот классический состав психоделического кантри-рока своим названием обязан не менее классическому (и не менее психоделическому) роману американского стоматолога Пёрла Зейна Грея, и мы не можем противостоять соблазну показать вам целиком их концерт:
Немного настоящего хардкора. Эти прекрасные люди вдохновились романом Джона Стайнбека «О мышах и людях», поди ж ты:
И еще классики вам — на сей раз из Уильяма Фолкнера:
Фолкнер же — своим не самым очевидным романом — вдохновил на творчество и эту бесшабашную компанию альтернативщиков:
Ну и немного о другом классике психоделии — Олдосе Хаксли. Точнее — об одном его романе, своим названием подарившем всем натурально мем эпохи рока. Да, речь у нас о «Прекрасном новом мире». Вот одна из первых групп конца 60-х, которая так назвалась в Сиэттле (группа эта — большая редкость, на самом деле):
А вот их флоридские потомки, уже в наших днях:
Ну а сколько песен с таким названием существует, даже сказать затруднительно. Вот лишь несколько, в честь недавно наступившего на нас нового года:
(Русский след тоже имеется:)
Ну и самая, пожалуй, потешная версия прекрасного нового мира:
Мы даже не знаем, чему приписать такую популярность этих трех слов. В недостатке воображения всех этих людей вроде бы тоже не упрекнешь (стоит учесть, что мы перечислили далеко не всех). Ладно, с других произведений Олдоса Хаксли мы начнем наш следующий поименный концерт, а вы, хорошенько вдохновленные нашим сегодняшним, ступайте-ка читать (или перечитывать) первоисточники.
Звук речи
Собрание сочинений в 2 т., Иван Елагин

Сначала замечание на полях: с этим двухтомником еще очевиднее становится литературный и человеческий подвиг Евгения Витковского. Невозможно достойно отблагодарить его за то, что сделал и продолжает делать для нас и этой нашей литературы.
Но главное тут — еще раз понимаешь, до чего созвучен Елагин любым временам, а особенно сейчас (даже больше, чем 20 лет назад). Это не просто потому, что хороших времен не бывает, а еще и потому, что ничего нового в human condition быть не может — за редкими исключениями, человечество так же отвратительно, каким оно было всегда и везде. Поэтому еще яснее становится, что те критики, которые предъявляли Елагину пессимизм, сразу могли бы предъявы свои засунуть себе в… рот и заткнуться. Где они теперь, эти критики хреновы?
Даже елагинские двустишия живут и побеждают. «Брошу в церковь динамит — сразу стану знаменит». Смешно же, правда?
Но вообще прикосновение к Елагину - это как дышать. Я это делаю регулярно с 1990-го, когда Александр Лобычев дал почитать "посевовский" тамиздат "Под созвездием топора". Очень хорошо помню, как стоял в его полуподвале на Баляева, заваленном архивами еще харбинского "Рубежа" и недавно-организованного издательства "Уссури" и держал эту книжечку в руках. В общем, вот уже почти четверть века стихи Елагина - во мне. Тогда казалось невозможно удивительным: эта его местами неуклюжая традиционность - и честное, граненое лирическое (и политическое) высказывание, взрывная смесь для мальчика, выросшего на не худших образцах советской поэзии. А тут земля из-под ног уходила. И освежало отсутствие этой цветаевской бродскости, которой уже тогда ушиблены были многие. Сейчас так мало кто пишет - разве что Вечеслав Казакевич.
Литература на задворках империи
"На краю русской речи", Александр Лобычев

У нас периодически проходят "вечера ночи за чтением дальневосточной прозы" (была такая передача на Приморском радио - объявлялась зловеще-домашним голосом диктора Зары Улановской) - по случаю доставляемых с исторической родины книжек. Дальнейшее, видимо, интересно тем, кто осведомен в вопросе.
Лобычев был моим первым редактором и старшим коллегой по издательству "Уссури" (тому много лет назад), и я никогда, наверное, не забуду классического диалога, состоявшегося у него при мне с кем-то, когда этот кто-то, явно не в теме, спрашивал:
- А вот Буковски - он о чем пишет?
- А ни о чем, - ответил добрый Саша. - О чем тут? А о чем вся настоящая литература? О жизни. - И гадко хмыкнул при этом.
Какие-то Сашины статьи, читанные порознь, меня в свое время не поражали, а тут они удивительным образом сложились - наверное, действительно литкритика требует продолжительных монологов, а не кратких выплесков эктоплазмы. "На краю русской речи" состоит из трех частей. если брать с конца, то:
- Часть примерно про Японию. Вполне легитимные и в своем праве версии прочтения Юкио Мисимы, Харуки Мураками, Сэйса Нотебоома и Ясунари Кавабаты - они спарены между собой, там прочерчены маршруты, которые, вполне возможно, не вполне очевидны, но отзывают литературоведческой "географией воображения", которая так прекрасна была у Гая Давенпорта, к примеру, или Манука Жажояна (это лишь самые любимые мои странники, есть и другие, понятно). Хотя даже Лобычев не убедит меня, что Мисима - не гиперактивный графоман...
- Часть про литературу русской диаспоры (Китай и далее везде). Очень увлекательно, при том что написано в служебном жанре развернутых рецензий: Арсений Несмелов, Ларисса Андерсен, Лидия Алексеева, Янковские... Это самая, пожалуй, цельная часть, что и объяснимо - тут уже история, хоть и не до конца кодифицированная. Не сказать, что Саша в ней первооткрыватель - скорее регистратор, но его тексты будят желание знать все то, о чем он пишет, а это, наверное, главное. Жалко, что мало.
- И, наконец, первая, вроде как главная часть, половина книги. Она погружает в причудливый заповедник восточно-сибирской и дальневосточной литературы. Тексты, в нее включенные, написаны в разное время и с разными целями - это надо понимать сразу, потому что они крайне неоднородны. Например очерки "человеков-в-тексте" - эдакие портреты писательских проекций - очень получились: Геннадий Лысенко, Борис Казанов, Юрий Кашук, Владимир Илюшин, Илья Фаликов, Анатолий Бочинин, Вячеслав Протасов, Вечеслав Казакевич - эти из лучших. Кого-то я знал как авторов и людей, кого-то нет, но тут они живые для меня все. И видно, что автор их всех очень любит. А вот про Ивана Шепету, например, почему-то получилось скучно, его после Сашиного текста читать не хочется. Уж и не знаю, в чем тут дело.
Кого-то нет вообще - я все же, наверное, ждал еще чего-то осмысленного про Александра Романенко, Александра Радушкевича, Юрия Кабанкова. Без них в книжке как-то пусто. Без множества прочих, до сих пор нынешних - нет, а без них - да.
Лучше всего видно, что Саша - все-таки человек 1970-х годов, - по его обзорам, и ДВ-прозы, и "Серой лошади". Обзоры - дело известное, вот там как раз и есть бестиарий, хотя спасибо за то, что вообще напомнил о том, что такое было. Но с ними, я так понимаю, легко работать - да и читать их несложно было в прошлом веке, а сейчас многих и вовсе уже незачем. А вот "Серая лошадь" - иной коленкор. Тут все вышло как-то наспех и, боюсь, без особого понимания предмета. "Лошади" - они все ж актуальные, живые, с ними нельзя как с историей, как с "кашуковской мастерской", по-моему. А может, все оттого, что "Лошадь" - все ж не школа и не монолитное нечто, оно дробится и рассыпается на совершенно разнородные искорки разного накала. И системы координат, куда весь этот фейерверк вписывать, у автора, похоже, пока нет. То есть, мне кажется, тут нужен другой подход и другой метод осмысления, анализа и синтеза. И главное - нельзя свысока и не стоит торопливой скороговоркой. Тут наш автор, как видно, чего-то недодумал. Впрочем, сдается мне, даже этот провис показателен и поучителен. Вот на этой зловещей ноте позвольте откланяться и вернуться к нашим безнадежным предприятиям.
Вспомнить все
Наши эксклюзивные непериодические новости
Они порой не очень новы, но все нам по-своему дороги.

Еще в октябре словарь сленга Джонатона Грина (53 тысячи статей, «500 лет вульгарных выражений», 600 долларов за новое бумажное издание) стал открытым и бесплатным веб-сайтом. Это вам в копилку ресурсов.

Ну и мимо этого нового ресурса мы никак пройти не можем: некоторое время назад группа читателей начала аннотировать два романа гениального Алана Мура — «Голос огня» и «Иерусалим». Хотя материала там пока относительно немного и будущим переводчикам его на русский они не сильно помогут (а там есть с чем помогать), будем надеяться, что чуваки этой затеи не бросят.

О пользе лекарств: израильско-американская писательница Эйлет Уолдмен (некоторым известная как жена писателя Майкла Шейбона; оба они издавались по-русски) публикует свою вторую документальную книгу «По-настоящему хороший день». В книге — результаты ее месячного эксперимента по лечению микродозами ЛСД своих перепадов настроения. Вряд ли, конечно, книга выйдет по-русски — согласно доминирующей доктрине, русским женщинам не нужно становиться лучшими матерями и женами.

Еще из интересных новинок: вышла книга английского биолога Билла Шатта «Съешь меня: естественная и неестественная история каннибализма». Вот, теперь и вы живите с этим знанием.

И вот увлекательное для тех из вас, кто любит игры с языком — ну, или утешительное для тех, кого вводит в творческое отчаяние «непереводимость»: омонимия китайского языка превратила его использование в магический ритуал и породила такие табу, какие нам, говорящим в большинстве своем на европейских, и не снились. Невольно на память приходит старый студенческий анекдот востфаков о 12 способах произнесения слова «хуй» с разными интонациями.

Мария По́пова отыскала в архивах оригинал манифеста Дениз Левертов о поэтике (и некоторые другие редкости и артефакты): «Я убеждена, что поэты — те инструменты, на которых играет сила поэзии… Я убеждена, что каждый пробел и каждая запятая суть живая часть стихотворения и выполняют свою функцию. И то, как делится строка, есть функциональный элемент, очень важный для жизни стихотворения…» Это был маргинальный комментарий к спорам о поэзии и переводе.

Из многих потерь последнего года одна для нас особенно горестна — и осталась русской публикой практически незамеченной: Энтони Кронин, ирландский писатель, поэт, мемуарист, литературный герой. Незадолго до смерти, говорят, он повернулся к жене и сказал: «Я достаточно сделал, чтобы оправдать?» Фразу он не закончил, но, кажется, мы понимаем, о чем он.

Какое-то время назад тут заговорили о книжных ворах, так вот у нас для вас новости — в Канаде из магазинов целыми полками выносят романы Харуки Мураками. Самого автора это не останавливает, скорее наоборот: его новый роман «Убить командора» в двух, по традиции, томах, выходит 24 февраля.

А здесь Пол Остер, только что выпустивший 900-страничный роман «4 3 2 1», рассказывает о своих любимых и нынечитаемых книгах. Из всех, ему подаренных, кстати, он больше всего ценит рассказы Бабеля — эта книга, собственно, и сделала его писателем. Ее ему подарили на 17-летие.
Ну вот, пожалуй, и хватит нас читать — лучше вернитесь и сами к своей недочитанной книжке. Прекрасных вам страниц.
Где-то там
"Прага", Артур Филлипс

Слов нет. Правда - нет слов. Нету. "Прагу" я когда-то читал сутки практически не отрываясь - и понимаю, что она не заслуживает такого марафонского прочитывания, но оторваться не мог. Слова потом критики - наверное - еще скажут, тогда, возможно, через фильтры будет легче принять какой-то угол зрения, но один на один с текстом такой глубины и силы - это, доложу вам, жутко.
Будущее так ярко, что впору носить темные очки. При том, что будущее это - всегда где-то не здесь. А, скажем, в Праге. И "почему прошлое — чаще чужое, не свое – на нас так действует?" Загадка памяти, да? Потому что прошлое для нас последние лет 15 - всегда чье-то еще. "Не дай вам бог родиться в эпоху перемен"? Хуйня. Не дай вам бог вообще рождаться. Для рождения никогда не было хороших времен, если уж на то пошло.
И мы этим "плохим временам" всегда будем завидовать: Парижу 20-х, Сан-Франциско 60-х, Берлину 80-х - не знаю. Когда что-то происходило. Или наоборот: когда не происходило ничего и была "настоящая жизнь". Недаром герои, поигравшие в "ключевой момент истории", в каком-то месте этой книги о просто-человеке в просто-истории припоминают, что последние лет 300 кто-нибудь из мыслителей с ретроактивным лазерным зрением принимается ностальгически стенать: "Вы не видели настоящей жизни, если не жили до...<подставить событие по желанию>". Хуй там. Видели. Жили. It's now. Вот она. И что?
Поскольку мозг живет своей жизнью даже при чтении, всю дорогу я не мог отделаться от того, насколько м-мм... неправ в своем пропагандистском запале был когда-то этот "мудрец с озера иссык-куль": не бывает "манкуртов", не бывает "иванов-родства-не-помнящих". Просто время не даст им появиться, не успеют. И если Айтматов в свое время не сообразил, что "память народа" может существовать и в виде издательского бизнес-плана тоже, - так это он просто мелкий шрифт внизу страницы читать не умеет.
...А через некоторое время после того, как я об этом подумал за чтением, на страницах "Праги" возникла киргизская проститутка.
Хня на тормозе
"Маленькая Хня", Лора Белоиван

Знаю, что я ужасный тормоз, знаю - давно нужно было написать. Но и сейчас годится - потому что эта книжка по-прежнему спасает от полнейшего помешательства в нашей неприятной реальности. Читая ее в свое время, я поочередно ржал, рыдал, хрюкал, хихикал, умилялся и восторгался. Строго в беспорядке и не только в отведенных для чтения местах (y'all know them). Пугал собой пассажиров метро, например. Оторваться не мог, отдельные куски перечитывал по нескольку раз и вот сейчас, наверное, все сначала начну (сам себе удивляюсь - никогда такого не было со мной, большой же вроде бы мальчик, кто знает - подтвердит, а рука к книжке сама тянется). Это идеальный саундтрек к жизни, написанный так, как мало кто может... что это я, никто так, по-моему, не может (Лора, ты этого не видела). "Хня" - по-прежнему лучшее из читанного на русском за последние фиг знает сколько лет (я допускаю, что есть что-то еще достойного, но пока - лишь теоретически допускаю). По крайней мере, для меня.
Будущее за спиной
"Хроники Драйко", Джек Уомэк





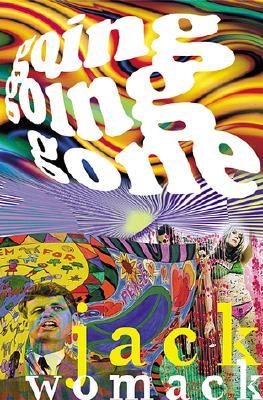
Про Джека Уомэка имеет смысл поговорить чуть подробнее, наверное, потому что про него в русских сетях вообще как-то маловато. Кто с вопросом знаком - потерпите, ок?
Если кто станет читать, не делайте, как я, - не читайте вразброс (можно легко запутаться в казалось бы второстепенных героях, которые совершают какие-то значимые, как выясняется впоследствии, поступки). Лучше придерживаться алгоритма, который нам подсказывает сам автор:
1/ Random Acts of Senseless Violence
2/ Heathern (примерно через полгода)
3/ Ambient (13 лет спустя)
4/ Terraplane (еще через 6 лет)
5/ Elvissey (еще через 16 лет)
6/ Going Going Gone (еще через 14 лет)
Да, и лучше читать без пауз - по той же причине.
Кроме того, разведка показала, откуда у нашего ныне любимого автора такое недурное знание России: когда Рашид Нугманов хотел после "Иглы" снимать кино об альтернативном Ленинграде (с Цоем, опять же, в главной роли), сценарий они предложили написать Уильяму Гибсону, но тот чего-то свое в тот момент писал и вместо себя в Питер отправил своего рекламиста, которым и был Джек Уомэк (ибо он в "Харпер-Коллинзе" этим самым рекламистом и работал). Случилось это ни много ни мало, а в начале 90-х - поэтому что удивляться, что будущее, которое следует оставить за спиной, так выглядит... Ну и потом разок наведался - тоже в удачный момент: на выборы 1996 года, где и жену себе нашел по имени Валерия Сусанина; а кино "Цитадель смерти" так и не случилось - Цой к тому времени уже разбился и все занялись своими делами.
Будущее и в шестилогии, мы понимаем, выглядит так, что мало не покажется, - как "натуральное", так и непредсказуемая наша история. Все, что могло пойти не так, в соответствии с известным принципом, пошло не так. Об остальном я промолчу, а то получатся спойлеры.
Одно из самых уникальных "торговых предложений" автора (который, кстати, ввел в английский оборот выражение "to go postal") - это всевозможные языковые игры (вектор он задает в "Случайных актах бессмысленного насилия", от чего тоже ее читать лучше первой), которые, судя по всему, не всегда оказываются по зубам и родной его публике. Легко сбиться со счета: часть текстов написана на привычном повествовательном английском, часть - на "послеграмотном" языке, который отчасти основан на арго военных радиопереговоров, отчасти - на хиповско-битницком слэнге середины прошлого века, отчасти на биз-спике конца века. Также присуствуют патуа негров конца XIX - начала XX века и некий особый говор, придуманный Уомэком для "эмбиентов": этот больше всего напоминает поэзию скальдов, которую бы пересказывал примерно Шекспир. Наверняка я что-то упустил. Да, все эти языки разведены между собой и сами герои не всегда друг другу сказанное переводят. все это, надо понимать, - помимо игр с историей ХХ века и крайне, крайне увлекательно.
Для тех, кто не видел: вот отличные разговоры Уомэка с разными людьми, из которых можно узнать много интересного. А тут и тут Нугманов сам про их несостоявшийся проект упоминает. Переводят или собираются ли это переводить на русский, я не знаю. Страшно представить, что может получиться у тех, кто этим обычно занимается.
Автора! Автора!
Подчеркнуто рабочий литературный концерт в праздничный сезон
Подумали мы тут и решили Новый год отпраздновать за станком… то есть, столом. Не праздничным, с закусками, а рабочим, письменным. Мы же поем о литературе или как?
Да, это прекрасный старый концерт Нобелевского лауреата этого года, автора двух прозаических книг и, конечно, многой поэзии - и заодно неплохой способ отметить, что писатели не только сидят за столом и ловят литературное вдохновение.
Они, как известно, очень любят музыку, и некоторые даже снимаются в музыкальных клипах. Например, нигерийская писательница Чимаманда Нгози Адичи, чью «Половину желтого солнца» вы могли читать и по-русски. А некоторые, например, Хьюберт Селби-мл., присутствуют в известных песнях незримо — к примеру, у «Одержимых уличных проповедников», чья песня начинается с отрывка из его интервью:
А в «Мавзолее» у них разговаривает сам Уильям С. Барроуз:
Последний и сам был изрядным звукозаписывающимся артистом, чем свидетельство — немалая дискография. Например, вот его совместное произведение с «Дверьми»:
А вот маленький шедевр — он поет Бертольта Брехта:
И еще немного его голоса с модным саундом Вишала:
Бит-писатели вообще сращивали слово и звук так, как мало кому удавалось. Любимая запись — конечно, Джек Керуак и Стив Аллен:
Амири Бараку (еще с тех пор, как он был Лероем Джоунзом) вообще, конечно, можно считать одним из отцов современного рэпа:
И вот его прекрасный номер, уже из наших времен:
И эти писатели и поэты были далеко не единственными. А ныне эксперименты Евгения Гришковца оттуда недалеко ушли:
В Вере Полозковой и подавно жива эта традиция:
Но есть и другая традиция, когда писатели раз в год… нет, не ходят в баню, а собираются и играют вместе. Например, вот эти: Стивен Кинг, Скотт Туроу, Мэтт Грёнинг и прочие, все очень знаменитые… Эми Тань на подпевках, опять же:
Называется их коллектив тоже литературно: «Непродаваемые остатки». Вот вам еще немножко поющего Стивена Кинга:
И вот еще один поющий прозаик - вернее, музыкант, ставший романистом, Джимми Баффетт (вы могли читать его "Соленый клочок суши", опубликованный по-русски). Когда-то он входил в "Монтанскую банду" Ричарда Бротигана, Уильяма Хьёртсберга, Томаса Макгуэйна и прочих. Он поет, в основном, пиратские песни:
Поющего поэта и романиста Леонарда Коэна знают все: многие песни его - как романы. Но вот один из немногих случаев, когда он поет не свое, а песню "Жалоба партизана", написанную в 1943 году французским журналистом Эмманюэлем д'Астье де ла Вижери на музыку Анны Марли:
Справедливости ради следует отметить, что ее часто путают с "Песней партизан", которая и стала гимном французского Сопротивления. Написала ее тоже Анна Марли, а вот слова принадлежат сразу двум французским писателям - Жозефу Кесселю и Морису Дрюону. Вот она, теперь вы их точно не спутаете:
Раз уж зашла речь о поющих писатеолях, вот вам еще один - Рай Кудер, автор "Лос-анжелесских рассказов":
Мало кто помнит, что основатель "The Kinks" Рей Дэйвис - тоже вполне состоявшийся прозаик. Будем надеяться, что его "Закат над Ватерлоо" когда-нибудь выйдет и на русском:
А вот роман немецкого писателя Свена Регенера "Берлинский блюз" у нас выходил. Вот обычная ипостась автора - в составе группы "Преступный элемент" и с профессиональоной песней о белой бумаге:
Писателя Ника Кейва вам тоже представлять особо не нужно. Его последняя пластинка тоже насквозь литературна:
Еще один любимый писатель (и киносценарист) - Рей Манзарек, обыкновенно игравший на клавишных в уже упоминавшейся группе "Двери":
А вот такое услышишь не всякий день — целая пластинка от Джонатана Коу:
Ну и последний номер нашего сегодняшнего концерта — один из самых прекрасных и пронзительных релизов этого года:
Да-да, это дань Сюзанн Веги замечательной писательнице Карсон Маккаллерз:
И завершает мы, по традиции, песенкой коллектива с самым тематическим на сегодня названием — «Авторы»:
Вот на этой горько-оптимистической ноте мы, пожалуй, и закончим. Не забывайте читать, а мы к вам вернемся уже в будущем году. У вас в ушах звучал Голос Омара.
Воздух свободы
"Фриланс", Валерий Нугатов

От этой маленькой книжки веет тем, что я до сих пор люблю в литературе: хорошими временами, когда все было возможно, хорошими местами, правильными людьми - злыми, азартными, прекраснодушными и ебанутыми на всю голову, ностальгией по несбывшемуся веет, книжной лавкой "Городские огни" на углу Коламбус-авеню и переулка, который теперь носит имя Джека Керуака, Лоренсом Ферлингетти, бензоколонками в пустыне и сухогрузами, портовыми кранами и пустыми городскими улицами. Такой вот мифоромантикой. Но, что приятно, - не Алленом Гинзбергом и не "резидент-поетами". Живым битницким духом.
Как хотите, но, по-моему, у них была прекрасная эпоха - с ее последней атакой на фронтах мировой поэзии.
И теперь - у Валеры Нугатова - отзвуки. Странно, он и по возрасту не годится, да и не помню я, чтобы он говорил о какой-то особой к ним любви. А вот поди ж ты. И самое приятное - что я этого не вполне ожидал. В том числе - и того, что поэзия может быть жива и это... makes a difference.
А совпало так, что параллельно мне в руки попала книга писателя, который битником всю жизнь как раз надрывно хотел быть (такое ощущение), - В.П. Аксенова, "Москва-ква-ква", понятное дело. И я понял, что не хочу это читать - неинтересна эта его ироническая ностальгия. Не по чему и незачем. Ну писатель. Ну ква.
Во всем "Фрилансе" больше настоящей свободы и чистоты, детскости и честности, чем в долгой и счастливой жизни автора "Квы-квы" и его новом и, несомненно, сладостном стиле.
Кто тут был раньше
"Мы не первые", Эндрю Томас

Ну, начать с того, что эту книжку я читал в детстве, когда и английский не так хорошо знал. Помню, что она произвела на меня впечатление — но вот решил перечесть, чтобы освежить. И что вы думаете? Оказалось, она вполне годная — эдакий приятный научпоплит в духе нынешнего журнального, из того, что получше. Практически каталог необъясненных фактов и фактоидов из истории науки — преимущественно древней, понятно. Палеоконтакт и все дела, но это все и без меня знают. Но в моей жизни эта книжка описала полный круг, и вот об этом хотелось бы чуть подробнее.
В этот раз меня по-прежнему радовала искренняя, судя по всему, увлеченность и несомненно честное стремление автора мыслить «вне коробки» (как это происходит далеко не у всех «уфологов») и ставить правильные вопросы, не боясь общественного осмеяния. То есть — попытка играть за пределами поля, размеченного организованной наукой. Легко, разумеется, отмахиваться от него и прочих таких же увлеченных любителей как от дурачков и чудаков, но ведь никто не запрещает развлекать свой ум попытками ответить на эти вопросы, правда? Парадоксография — вполне, на мой взгляд, уважаемая традиция спекулятивной литературы, еще со времен великого трагического чудака Чарлза Форта.
Но вот что поражает в книжке, изданной в 1971 году: удивительное количество ссылок на русские и советские источники — от Брюсова и Горького до Горбовского и публикаций в «Литературной газете» конца 60-х. Что показывает нам знакомство автора с русским языком, как минимум (также он рассказывает местами о приездах в СССР и знакомстве, в частности, с Казанцевым).
С одной стороны — это вроде как спекулятивное пользование мало кому доступными источниками. Мы не станем подвергать сомнению его каталогизаторскую честность — он не выдумает источники и факты, он может неверно их интерпретировать, как это происходит в случае с канадским Магнитным холмом. Ну или склоняться к более выгодной для себя версии, как в случае с трактовками подвигов Рериха — он опирается на обычную официальную версию, санкционированную им сами и его присными (хотя, к его чести, здесь подробнее касается только «Чинтамани» — «камня Мории», который, при всем должном уважении, до сих пор непонятно откуда взялся у Рериха и непонятно куда потом делся: даже недавняя биография Вальденфельса об этом умалчивает).
А с другой стороны, в этом обилии русскоязычных источников ничего удивительного нет, если покопаться в биографии самого Эндрю Томаса. Которая не сказать, что слишком известна — например, про него знает только финская википедия, хотя он считается австралийском уфологом. Ну, про уфологию мы не будем, и без летающих тарелок в его жизни было немало занимательного.
Начиная с того, что не очень понятно, как его звали на самом деле (фамилия его пишется так, что подозреваешь, что он не Томас, а Томаш); некоторые русские источники называют его Андреем Павловичем, хотя вот финны считают, что он урожденный Альфред. И вроде как полностью его фамилия — Бонча-Томашевский. Вторая часть фамилии — пожалуй, единственная точка, в которой разные, но немногочисленные источники не спорят друг с другом. По официальной его биографии, завещанной потомкам его вдовой, он родился 23 июня 1906 года в Санкт-Петербурге. Хотя в биографических справках на некоторых его книгах годом рождения значится 1913-й. В 1911 году семейство переехало в Хельсинки, где его отец получил должность «гражданского инженера» в военно-морском ведомстве (тут становится понятно, отчего его знает только финская вики).
Дальше все становится гораздо для нас интереснее. Через год отца переводят, судя по всему, ревизором на другой конец Российской империи. Куда? Правильно — во Владивосток. Шестилетний ребенок прекрасно помнил всю жизнь 10-дневное путешествие по Транссибу. И все детство Томаса прошло во Владивостоке, о чем в подавляющем большинстве упоминаний об этом человеке умалчивается. Правда, владивостокскому журналисту Евгению Шолоху откуда-то известны обрывки его воспоминаний:
Как вспоминал Андрей Томашевский (Эндрю Томас), мальчишкой с родителями проживавший во Владивостоке до революции, который затем эмигрировал в США: «Недалеко от нашего дома стоял на сопке Народный дом, на балконе которого в те годы военный оркестр часто играл бравурные марши и обязательно вальс «На сопках Маньчжурии», польки, под которые в зале танцевали люди среднего достатка - мелкие служащие, молодые рабочие с завода и порта, солдаты и матросы с горничными и дочками небогатых купцов».
Но и тут все касаемо его личности неточно (ни в какие США никто, говоря строго, не эмигрировал). В 1917-м семейство намеревалось вернуться в столицу империи, потому что отец вышел в отставку и намеревался заниматься архитектурой, но империя неожиданно закончилась. Поэтому с 1922 года семейство живет где? Правильно — в Харбине, пойдя по пути всей восточной ветви русской эмиграции. Маньчжурия и стала основополагающим фактором, сформировавшим сознание Томаса, судя по его теплым упоминаниям о ней в разных его книжках. В Харбине он ходил в английскую методистскую школу, что определило его дальнейшую ориентацию на англоязычную ойкумену. В 1924 году семья переехала в Шанхай, где Андрей-Альфред-Эндрю и закончил школу. С 1927 по 1931 год он действительно жил в Штатах, но потом опять вернулся в Китай (потому что в Штатах началась Великая депрессия). В сентябре 1935 года, по его собственному утверждению, познакомился с Рерихом, заехавшим в Шанхай при своей последней странной экспедиции. В 1948-м Китай начал становится красным, и Томас уехал из Шанхая — уже надолго — в Австралию, где и прожил почти 20 лет. Там он стал масоном, кочевал по стране и ездил по миру, о чем сам нам рассказывает местами. В 1966 году переехал в Европу, затем в Штаты, а по миру ездил так, что завидки берут. Семь книг его опубликованы, несколько, по утверждению вдовы, — нет.
Вот такой вот интересный персонаж дальневосточной Атлантиды, чью жизнь кому-нибудь из владивостокских историков/краеведов/литераторов было бы неплохо исследовать по-настоящему, а не как я тут. Потому что историей родного города он незаслуженно обойден. И не надо мне рассказывать, что вы все это и без меня знали, потому что, совершенно очевидно, это неправда. Иначе давно уже написали бы сами.
Чужие среди нас
"Чужак в чужой стране", Роберт Хайнлайн
Сокращенную версию я читал лет тридцать назад, только не знал тогда, что она сокращенная. А некоторое время назад руки дошли и до полной. Заодно и переиздали ее.
Как «Дзэн» Пёрсига и некоторые другие книжки «Чужак», будучи прочитан вовремя, ставит на место голову. Такой набор у каждого сознательного читателя свой, ясное дело. Но мало того — как и «Дзэн», «Чужак» относится к книгам, формирующим ценности поколения. Проблема лишь в том, что поколение, для которого ценности Валентайна Майкла Смита и Джубала Харшо имели смысл и были собственно «ценностями», похоже, отмирает. Ценности остаются, конечно, но — уделом одиночек. Массе предназначены тренды и скрепы.
Надо вместе с тем признать, что либертарианский комплект идей, который Хайнлайн вложил в «Чужака» (и я, само собой, далек от мысли утверждать, что их придумал он — он просто изложил их в художественно убедительной форме устами крайне симпатичных персонажей), в культурном коде Запада пророс — как минимум, толерантностью. Роман теперь считается просто классикой, а не возмутительным богохульством и гимном противоестественному разврату. «Противоречие» вроде бы снято.
На территории ре-фе, меж тем, оно остается в силе: страна неуклонно откатывается к махровейшему средневековью, поэтому «Чужак» не утратит своей остроты и актуальности никогда. При условии, конечно, что его будут печатать, чего издатели последнее время не делают. Так что есть серьезное опасение, что полной версии романа на русском мы не увидим.
Краска, бумага, картон и клей
«Дзэн и искусство ухода за мотоциклом», Роберт М. Пёрсиг
Если сказать, что роман Роберта Мейнарда Пёрсига «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом» — одно из величайших произведений всей американской литературы XX века, — боюсь, большинство читающих на русском языке со мной все-таки не согласится. Мне не поверят в первую очередь те, для кого литература этого континента начинается в лучшем случае с Тома Сойера и заканчивается примерно Крестным Отцом. Тем же, кто изучал филологию, имя преподавателя логики и философии может быть смутно знакомо по невнятным упоминаниям далеко не во всех учебниках литературы и критических статьях, где авторы, кажется, не вполне отдают себе отчет, о чем вообще пишут.
Сама по себе эта традиция — попытки создать цельные философские учения на основе воззрений Востока и Запада — далеко не нова. С разной степенью успешности это на регулярной основе продолжается с момента осознанного открытия Западу Востока — примерно с конца XIX века. Среди же молодой американской публики интерес к так называемым «нетрадиционным философско-религиозным воззрениям» всегда был велик, а мода на такого рода эзотерику подчас принимала характер массовых эпидемий (как и у нас, впрочем). И если в начале XX века молодые американцы зачитывались работами Рамакришны и заслушивались лекциями Вивекананды, если в середине века калифорнийские битники и ранние хиппи таскали в холщовых сумках видавшие виды томики Германа Гессе и Дайсэцу Тэйтаро Судзуки, то к началу 70‑х годов на Штаты накатила уже примерно вторая (если не третья) волна «детей цветов», для которых все эти, да и многие другие имена либо ничего не значили вовсе, либо уже служили некими крепко сцементированными блоками мировоззренческого фундамента. Им, «бэби‑бумерам» и вечным потребителям, уже не хотелось выискивать драгоценные крупицы Абсолютного Знания в старых академических изданиях древних философов. Это с одной стороны, а с другой — их уже не удовлетворяло прежнее качество осмысления Вселенной и себя в ней.
И вот для них всех таким гуру, одинаково хорошо владевшим и молодежным подъязыком в системе координат «квадратность—хипейность», и знаковыми системами философий Востока и Запада, стал Роберт Пёрсиг. Его опубликованный в 1974 году «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом» с подзаголовком «Исследование ценностей» вывел традицию создания синкретических романов‑эссе (начиная еще с «Уолдена» Генри Дэвида Торо) на качественно новый уровень и адресовал себя новой аудитории. У поздних хиппи эта книга стала настольным (или, скорее, дорожным) букварем миропостижения для метафизиков-прикладников. Пёрсиг подарил вдумчивому читателю не совсем обычное произведение: сухой философский трактат об интенсивном поиске новых духовных ценностей на стыке Востока и Запада и протокольно точный дорожный дневник, по силе чувства автора к своей великой стране сравнимый разве что с «Путешествиями с Чарли в поисках Америки» Джона Стейнбека; «роман воспитания», уходящий корнями в английскую классическую литературу XIX века, и психологический триллер, который даже самого неискушенного читателя цепляет изощренными детективными загадками, извлеченными из тайников подсознания.
Роман прочитывается на очень многих уровнях и оставляет без прямых ответов множество простодушных вопросов. Кто, в самом деле, его главный герой — новый Чаадаев, смело ставящий под сомнение все достижения современной цивилизации и постигший‑таки сами основы мироздания? Или же рефлексирующий школьный учитель, потерявший рассудок от трагических противоречий безумного и прекрасного века и заплутавший в культурном наследии человечества? Гений систематики и метафизики или мотоциклетный механик‑графоман? А кто сам автор, так удачно беллетризовавший собственную писательскую судьбу и собственные творческие искания, — кабинетный сухарь, таинственный затворник, вроде Дж. Д. Сэлинджера — или же романтик, мифотворец и искатель приключений, вроде Ричарда Баха? Последний, кстати, очень тепло отозвался о книге, назвав ее «кристаллом гипнотизера, усыпанным алмазами», а уж этот мистик, как известно, большой мастер морочить читателям головы относительно собственной персоны. И что это вообще такое, в конце концов: «возрождение “романа идей”», как считала известная американская писательница Мэри Маккарти, или же «исполненное туманного философствования сочинение Пирцига (sic!)», как полагал видный советский литературовед Александр Мулярчик? Боюсь, русскому читателю придется искать ответы в книге самому.
Сейчас же ясно одно. Почти сорок лет назад Роберт Пёрсиг создал уникальное полифоническое произведение, по выражению английского писателя Филипа Тойнби — «работу величайшей, возможно, первостепенной важности...» Сложно сказать, насколько ему удалось повторить этот успех своей следующей книгой, вышедшей семнадцать лет спустя, — «Лайла. Исследование морали», — и действительно ли второй роман оказался столь же эпохален для 90-х годов, как первый — для 70-х. Но «Дзэн», на котором выросло уже не одно поколение мыслящих читателей, — книга, пронизанная истинным светом мудрости и добра.
Итак, Роберт Пёрсиг (р. 1928), сын декана школы права Миннесотского университета Мейнарда Э. Пёрсига, бывший преподаватель философии и риторики, после продолжительного нервного срыва стал составителем технических руководств к компьютерам первых поколений. «Дзэн» он задумал в 1968 году — как эдакий коротенький и легонький очерк: они с парой друзей и сыном Крисом (тогда ему было 12 лет) совершили длительное путешествие на мотоциклах из дому в Миннеаполисе на Западное побережье США. Пёрсиг разослал первые несколько страниц и сопроводительное письмо 121 издателю, и 22 из них ответили благожелательно. Тем не менее, когда очерк был дописан, Пёрсигу не понравились те его части, где речь шла о собственно Дзэне. И он их сократил. Дальше — больше. Книга зажила своей жизнью, она требовала доработок — и все больше издателей отвечали отказом. Через четыре с половиной года работы энтузиазм сохранил только старший редактор издательского дома «Уильям Морроу» Джеймз Лэндис. Благодаря ему книга и увидела свет, несмотря на свое название, которое, как предполагалось, могло отпугнуть широкие читательские круги. Тем не менее, первые три издания в твердой обложке разошлись почти моментально небывалым для такой литературы тиражом — 48 тысяч экземпляров. Посыпались хвалебные рецензии, бессчетное число раз книга переиздавалась в мягких обложках, поговаривали даже о том, чтобы снять по ней фильм, а 46-летний автор получил стипендию Гуггенхайма и вкусил славы — после двадцати лет унижений и бесполезной борьбы с академической реакцией и дуалистической традицией западной науки и философии.
— Замечательное ощущение, — улыбался он в самом зените славы корреспонденту газеты «Нью-Йорк Таймс» Джорджу Дженту, потягивая мартини у «Барбетты» на Западной 46-й улице. — В последний раз, когда я был в Нью-Йорке, никто даже не знал о моем существовании — или никому до меня не было дела. В Нью-Йорке может быть очень одиноко. Да, я наслаждаюсь вкусом успеха после многих лет отверженности, но меня тревожит, во что успех может превратить мою жизнь. Я не хочу слишком стесняться своей работы и сознаю, что паблисити стремится лишить человека его с трудом заработанной частной жизни, превращая ее в публичную. Ведь что стало с Россом Локриджем-младшим, автором «Округа Дождевого Дерева», или Томасом Хеггеном, автором «Мистера Робертса»? Их настиг успех — и они покончили с собой. Я же хочу продолжать писать, а я понял, что лучше всего пишу, когда меня не переполняет энтузиазм и не захлестывает депрессия.
После двух лет в клиниках Пёрсиг утверждал, что призрак его былого «я» — «Федр» — изгнан раз и навсегда, однако чувствовал, что предал свою лучшую часть:
— В больнице меня научили ладить с людьми, научили компромиссу, и я смирился. Федр был честнее — он никогда бы не пошел на компромисс, и молодежь его за это уважала.
Себя же — рассказчика романа — Пёрсиг считал «не очень хорошим человеком», аналитиком, надевавшим самую пристойную личину, только чтобы нравиться. Проблемы, признавал он тогда, были и с друзьями, и с сыном, который во время памятного путешествия на Запад сам чуть не дошел до нервного срыва. Проблемы оставались и потом, хотя надежда, казалось, замерцала. Когда же Пёрсига спросили о реакции Криса на книгу, он честно ответил:
— Поначалу он был недоволен. Но, — и тут Пёрсиг улыбнулся по-детски, — на презентацию книги явился, поэтому теперь, видимо, все хорошо.
Роберт Пёрсиг пережил и славу, и забвение, и смерть сына — пережил тихо и достойно. Женился вторично, много путешествовал, хотя до появления второй книги — «Лайлы» — долгое время даже ходили слухи о его самоубийстве. Почему же «властитель дум» скрывался от взора любопытствующих папарацци и просвещенной читательской публики столько лет, практически уподобляясь другим писателям-невидимкам ХХ века — Сэлинджеру, например, или Пинчону (чтение лекций по Метафизике Качества временами — не в счет: это продолжение романов другими средствами)? Что до сих пор пытается сказать нам книга, получившая, без преувеличения, статус «культовой»? Законченная в апреле 1974 года, длиной в 372 страницы, по розничной цене 8 долларов 50 центов? Зачем я вообще обо всем этом пишу? Кому какое дело?
Вот в этом, видимо, и заключается весь ее смысл. Вся наукообразная или популярно-литературоведческая информация о ней, все факты и фактоиды жизни автора не означают ничего, если не нужно отыскать его работу в длинном списке других книг или поместить в некий культурный контекст, то есть проделать, по сути, каталогизацию. Однако прежде чем открыть книгу, ее следует найти. Поиск — первый шаг, здесь-то и пригодится эта каталожная «научная» информация, описывающая и книгу, и ее автора. Но действительно прочесть ее и тем паче понять — совершенно другое дело.
Наука и техника, пытается сказать Пёрсиг, — это середина, а не начало и даже не конец. Прежде чем появится «научная» гипотеза, должна случиться ненаучная мысль, которую наука попробует доказать или опровергнуть. Доказательство гипотезы — «научный» шаг, а размышления о том, каковы ее результаты, — последний этап. Пёрсиг пробует доказать, что существует два привычных взгляда на технику. И именно то, что взглядов всего два, — корень всех проблем.
Первый — классический взгляд. Те, кто под ним подписывается, в технике ищут святилища. Техника же — всего-навсего проясняющий инструмент. Его формальность и точность — отличительные знаки той надежности, которую дарует научная модель классическому мыслителю. Романтик же рассматривает технику с поверхности. Поверните ключ зажигания своего «БМВ» или «Урала» — и мотоцикл поедет. Пока есть карта, романтик — в прекрасной форме, но без классического путеводителя он запросто потеряется. Романтик — философичный, однако небрежный мыслитель. Такие могут подписаться под гипотезой, но не под «формальной и точной» силой научного режима. Либо одно, либо другое, а между ними — ничего. Или — или; таков традиционный способ мышления. «Дзэн» же делает попытку доказать, что есть некая середина, где одно не отменяет другого.
Остается вопрос: что пытается доказать техника? Если вы — классический мыслитель, она доказывает все. Если данные решающи, тема закрыта. Если же вы — романтик, данные использовать нельзя. Предписывает ли что-либо «Дзэн»? Его заключения текучи, изменчивы, никогда не постоянны и не закреплены. Поэтому ключ — в их сочетании. Техника равна фактам, но без романтической интерпретации они становятся никчемными цифрами и бессмысленными данными. Значит, нужно выбрать, как именно рассматривать эти данные. Любой их блок может обладать точно такой же ценностью, как и любой другой их блок. Например, всякое умозаключение по поводу убийства Дж.Ф. Кеннеди обладает своими достоинствами, хотя каждое неизбежно опровергается каким-нибудь другим умозаключением. Сама техника и ее научная модель использовались для подтверждения или опровержения заключений друг друга.
Ладно, давайте тогда вернемся «туда, где резина трет асфальт». Там нет научных абсолютов. И не может быть, коль скоро каждый человек привносит в научный процесс заготовленный заранее идеал. То, что ценно и фактично сегодня, завтра может оказаться полной чепухой. Каждый конкретный факт текуч и преходящ. Стало быть, важно распознавать искаженность всех «научных данных» и по меньшей мере пытаться выводить свои собственные, личные заключения.
Что же за решение предлагает Пёрсиг? Избегая того, что он считает образованием «кнута и пряника», можно интерпретировать мораль его книги так: думайте своей головой. Даже риторику, как на это указывал Аристотель, можно свести к научной системе порядка. Пока существуют варианты выбора, можно развивать научные системы, которые эти варианты будут поддерживать. «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом» — о том, как мы дешифруем эти варианты собственного выбора.
Краска, бумага, картон и клей. Вот из чего сделана книга. Это факт. В первом издании — 372 страницы, написанных Робертом М. Пёрсигом, 1928 г.р. Тоже факт. Пара классических описаний книги. «Кристалл гипнотизера», «работа первостепенной важности», «чудо», «волшебная книга» — романтические ее описания. То, как мы воспринимаем ее под картонной обложкой и за бумажными страницами, и есть цель книги. Но книга эта — не более, чем вариант выбора конкретного человека применительно к технике. Как я предпочту реагировать на нее — мое дело: так, по Пёрсигу, и должно быть. Я предпочитаю отвечать вопросом на его вопросы. Это легко, когда передо мной — мнение одного человека, реагировать же на «научный» (и теперь уже преходящий) факт гораздо сложнее. Применим же этот реакционный стандарт ра́вно. Зададим вопрос и поставим его под сомнение.
1989–2010
Зима катит в глаза
Вопреки названию, концерт — литературный, а не сезонный
Итак, зима, а у нас концерт. И первым номерном мы хотим поблагодарить тех, кто вызвался быть ангелом-хранителем первой книги, вышедшей в нашем годовом проекте «Скрытое золото ХХ века», — музыкантов группы «КимаКима», вполне литературоцентричной, как легко понять даже из этой песенки:
А дальше поговорим о битниках, давно собирались. Вот, например, не самый очевидный из них — Майкл Макклюэр — читает Чосера на разогреве у «The Band»:
Преемственность традиций или как? Самого же очевидного битника — Джека Керуака — в стихах воспевали не раз. Аарон Джонсон считает его святым, и с этим не поспоришь:
Сам он, как известно, много читал под музыку, но это-то ладно. А вот слыхали ль вы, как Керуак поет?
Вот та же песенка, только слегка осовремененная:
Дань ему воздается много и разнообразно — «Великим ограблением поезда»:
Вот, например, «Острый соус Джонсон»:
Или «Морфий» с прекрасной аудио-антологии «Оттяг радость тьма»:
Некоторые песенки (например, Умки) мы уже показывали в прежних концертах, это правда, но вот такого чешского трибьюта еще не было:
Кое-кто даже назвал свою группу в честь автомобиля, на котором битники ездили по стране, — «Хадсон-49»:
А в честь малосимпатичных героев «Нагого обеда» Барроуза назвались целых две группы — одна недолго просуществовала в 60-х и потом стала «Мамами-с-Папами» и «Любящей ложкой»:
Вторая зародилась в наши дни (хотя и те дни были еще какие наши). Оцените разницу:
А вот еще один пример вдохновения, которое можно почерпнуть у Барроуза — Клемом Снайдом звали его персонажа, который много где фигурирует в его текстах, и так же свой коллектив альтернативного кантри назвал Иф Барзелэй — вот он дает небольшой сольный концерт, что уместно, среди книжных полок:
А вот так звучит вся команда:
Но воспевали и других — вот, к примеру, песня про Нила Кэссади и Аллена Гинзберга. Не чья-нибудь, а видного писателя-мемуариста Моррисси:
И еще один классический трибьют всем битникам и их дороге — от «Консервированного жара»:
Ладно, вот вам еще немного осовремененных версий текстов Керуака и Гинзберга от человека по имени Вишал:
Годится и для слушания, и для танцев:
Сами битники бы оценили, я уверен:
Вместе со всем Пятым интернационалом:
Ну и вот еще один причудливый звуковой трибьют Керуаку:
Подробнее о Барроузе, например, мы поговорим как-нибудь потом. Пока же — наша традиционная кода, общелитературная. Сегодня — песенка о пишущей машинке:
Не забывайте настраивать свои приемники на нашу литературную волну, мыть уши и читать книги. У вас в головах звучал Голос Омара.
Зеркала Улисса
"'Улисс' в русском зеркале, Сергей Хоружий
Очень вменяемый курс "Джойсоведение 101" - неплохой краткий конспект жизни и творчества, хороший начальный разбор романа и просто отличный очерк о жизни романа в России: особенно рекомендуется последняя его часть, написанная с такой задорной ненавистью к "профессиональному" окололитературному истэблишменту, что становится как-то покойно на душе (в немалой степени от того, что с советских времен в нем почти ничего не изменилось). Фигуранты с той стороны баррикад отвратительны - впрочем, ничего иного мы и не ждали от Гуровой, Анджапаридзе и Муравьева, а Гениева - так прямо бальзаковский образ.
Это героическое "азбучное" издание - самое полное, со всеми дополнениями, которыми книга обросла после издания в известном "белом" трехтомнике Джойса еще 90-х годов, Так что очень рекомендую.
Я уколов не боюсь
"(Про)зрение", Жозе Сарамаго
Продолжение "Слепоты" - мощная прививка от любви к власти. Роман начинается как весьма ядовитая утопия и практическое руководство к действию: что нужно сделать для того, чтобы правительство просто куда-нибудь съебалось и перестало мешать людям жить. Местами действительно кажется, что "белая крамола" списана (гениально-провидчески в 2004 году) с известного периода в общественно-политической жизни отдельно взятой мск.ру, случившегося не так давно. Но дальше не все так просто, а все, как у нас: "Сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить" (с). Действие происходит через 4 года после "Слепоты", и понятно, в общем-то, что хорошо ничего не закончится, ибо власть - она уебанская по определению, какую страну ни возьми. Не удивлюсь, если эта сволочь наверху, вдруг научившись читать, решит Сарамаго вообще запретить, как бы чего ни вышло. Хотя надежда на это мала, и в этом как раз надежда.
Нас ограбили
"Ограбление казино", Джордж Хиггинс

Как известно, это сейчас такое кино с лучшей актрисой Голливуда Брэдом Питтом примерно в главной роли. Одно это уже настораживает, потому что главных ролей как таковых в книжке не наблюдается. Как не наблюдается там женщин (одна черная шлюха и одна белая шлюха не в счет) и экшена. На всю книжку примерно пять сцен, в которых что-то происходит, а все остальное - да, правильно. Разговоры обо всем на свете. Потому что этот криминальный нуар - классика жанра, по которой учились кто не, включая Квентина Тарантино, ибо его чрезмерно разговорчивые гангстеры - из Хиггинза. В общем, не очень понятно, что там Доминик наснимал (кино я так до сих пор и не посмотрел, mea culpa), но судя по изложениям, фильм к книге имеет чрезвычайно косвенное отношение. Ну и да, если вам станут говорить, что это должно называться "Ограбление казино" или "Сделка Когана", не верьте. В романе нет казино как такового, а условно главный герой ни в какие сделки не вступает и он не еврей. Название романа срослось у меня только где-то за десять страниц до конца, и я убежден, что это должно называться "Масть Когэна". Прокатчики (и следом за ними - издатели), разумеется, сказали свое веское и, главное, очень грамотное слово, так что мы были с самого начала готовы к неприятным сюрпризам на ниве наименования имен.
Тотальное затмение души
"Затмение", Джон Бэнвилл

Ирландец Джон Бэнвилл пишет плотную, прихотливую прозу, и практически все его романы удостаивались каких-нибудь литературных призов, хотя он порой отходит от классических рецептов «ирландского романа», к какому привык русский читатель (т.е. толстые книжки об экзистенциальных проблемах рыбаков на западном побережье Ирландии, над чем смеялся еще Флэнн О’Браен).
Но «Затмение» — книга в этом отношении типичная: камерная обстановка, небольшое количество персонажей и заброшенный отчий дом. Все — как в нормальной ирландской литературе авторов его поколения, одержимых собственным старением (взять Уильяма Тревора, Нила Джордана или Колма Тойбина). С одним только отличием — герой Бэнвилла видит призраков; это уже — личная особенность автора, у которого в каждой книге происходит какая-то мистика.
Итак, стареющий классический актер Александр Клив на пике своей карьеры переживает кризис — он начинает «ощущать себя», а не те роли, которые играет. Поэтому он вдруг решает уйти от всех — включая собственную жену и повзрослевшую (но по-прежнему психически не очень здоровую) дочь, — и уезжает в родительский дом. И там ему является призрак некой женщины с ребенком. Александр остается в доме, приводит его в порядок с помощью местного жителя, взявшегося охранять жилье в отсутствие хозяев, и его дочери неопределенного возраста. Попутно Клив понимает, что ему тут хорошо (несмотря на некую потусторонность происходящего), поэтому он продолжает себе жить дальше, описывая все, что с ним происходит, вспоминая детство и т.д. Пока не обнаруживает, что в доме, кроме него и призраков, живет еще кто-то. Оказывается, это и есть домоправитель с дочерью — только живут они как бы «на изнанке» дома. Когда на этой изнанке оказывается хозяин (понятно, что это происходит лишь в его восприятии, но мастерство Бэнвилла таково, что грань физической реальности и психической сильно размыта, и книга читается как сплошное наваждение), он начинает приходить к каким-то неочевидным (для нас) выводам касательно собственной жизни. Приехавшая жена обнаруживает эту странную троицу с непонятными отношениями и несколько взрывает странный, устоявшийся в этом доме порядок вещей. Когда в городок приезжает бродячий цирк, дочь хранителя вызывается стать жертвой гипнотизера, и сам Клив задает ей гипнотическую программу, зачем-то объявляя ее своей дочерью.
Надо понимать, что тема не очень здоровой дочери проходит красной нитью через весь роман, но природа ее заболевания тоже неясна. Момент гипноза, собственно, и становится второй кульминацией романа. А конец — вполне предсказуем и совершенно необъясним: пока в доме происходила вся эта красота, реальная дочь Клива кончает с собой где-то в Италии, о чем родители, понятное дело, узнают несколько позже. И в самом что ни на есть конце Клив понимает, что призрак, являвшийся ему, приходил не из прошлого, а из будущего. Дом он дарит своей подставной дочери, называя ее — или все же не ее? — в последней строке «своей Мариной, своей Мирандой, своей Пердидой».
Книга магнетична, поступки персонажей вполне постмодернистки необъяснимы, мотивация неочевидна: это ощущение, передаваемое текстом, — действительно наваждение, затмение, помрачение. Состояние, наверняка знакомое любому человеку 1945 года рождения… И вместе с тем, по ирландской традиции, автор предельно точен в деталях, но создает он из них не масштабное полотно, вроде «Улисса», а некую безделицу, миниатюру. В советские времена таких авторов и такие книги любили упрекать в мелкотемье — это именно оно и есть, но другой великий ирландский автор — Бекетт (как, впрочем, и Джойс) — вообще писал на микроскопические темы. Что нимало не убавило его величия в глазах истории.
Сегодня погоды не будет
Литературный концерт в двух отделениях
Этот месяц принес нам новости, поэтому наш сегодняшний концерт будет состоять из двух отделений. Сначала первое.

Наша кампания по сбору средств на издательский проект «Скрытое золото ХХ века» продолжается, и у вас есть еще немного времени, чтобы успеть и поддержать ее. Поэтому начнем мы с писателей, чьи романы мы намерены в этом проекте издать.
О Ричарде Бротигане мы много разговаривали в прошлом концерте, но не договорили. Одно время в 1960-х он соседствовал и дружил с таким музыкальным коллективом, как «Оркестр Безумной Реки», и даже сочинял им песенки. Это была одна из них — исполняет сам Ричард Бротиган (он даже получил гонорар за этот трек).
А вот интервью Доналда Бартелми (уже в расцвете его славы) Джорджу Плимптону. Название сегодняшнего концерта мы потырили у него — это основополагающий принцип всего его творчества: никакой погоды.
А вот это совсем удивительное: в 2004 году нью-йоркский хореограф Пол Моузли поставил небольшой балет по роману «Мертвый отец». Наслаждайтесь, балетоманы.
А это наш следующий автор — Магнус Миллз, читает сам, хоть и не тот роман, который мы намерены выпустить.
Еще удивительное — редкая (и единственная) экранизация Магнуса Миллза «Хороший легавый» (режиссер Алан Уэстэуэй).
Дальше в нашей программе — Томас Макгуэйн, вот отличная телепередача с ним и о нем.
Первый Блумздей с Флэнном О’Браеном и компанией вы все, конечно, уже видели, но освежить в памяти не помешает. Как известно, когда он жил и работал, телевидение еще не изобрели, поэтому движущихся картинок с ним, прямо скажем, маловато.
…осталось только радио.
А это Джерри Макгоуэн поет самую известную его песню.
Ну и последний номер в первом отделении — английская прог-рок-группа «Мороз*» с композицией, вдохновленной романом Гордона Хотона «Подмастерье». Это не шутка, а мы переходим ко второму отделению…
…которое, разумеется, посвящено нашему новому нобелевскому лауреату. Мы уже делали небольшую подборку его переводов, а сегодня посмотрим и послушаем Боба Дилана по-русски.
И первый экспонат — Дилан а ля «Русь», в переводе и исполнении Андрея Соболева. Тук, тук, тук…
"Умкопереводы" (двух известных песен) — совсем другое дело.
Александр Дёмин, которого в 80-х называли «Дальневосточным Бобом Диланом», собственно Дилана не пел, но одна из самых известных и популярных его песен — «Несколько советов ученику третьего класса, мечтающему стать бас-гитаристом», — вдохновлена главой романа Дилана «Тарантул». Эта песня поистине стала гимном поколения. Или двух.
А вот еще одна причудливая вариация на тему Дилана — Ник Рок-н-Ролл и Братья Коробейниковы, «Тяжелый дождь». Версия текста, насколько нам известно, давно сделана мамой Ника.
И последний артист в нашей сегодняшней программе — Вадим Смоленский, который переводит и поет песни Дилана много и часто. Вот почти весь его концерт:
На этом мы прощаемся с вами до следующего раза, и не забудьте поддержать нашу издателдьскую кампанию «Скрытое золото ХХ века», пока у вас еще есть время.
Книга без героев
"Время Шамбалы", Александр Андреев
 Несмотря на желтушное название, это вполне дельный популярный обзор эпилога «Большой игры» (в отличие от хаотической книжки Олега Шишкина примерно о том же), хотя и в нем Рерих принимается по номиналу, а также содержатся смущающие ум ссылки на Дугина. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет?
Несмотря на желтушное название, это вполне дельный популярный обзор эпилога «Большой игры» (в отличие от хаотической книжки Олега Шишкина примерно о том же), хотя и в нем Рерих принимается по номиналу, а также содержатся смущающие ум ссылки на Дугина. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет?
В первой части главный герой тот же — А.В. Барченко. Он, конечно, при всем должном к нему уважении, никаким «ученым» в строгом смысле не был. Это увлеченный самоучка, ебанутый энтузиаст, талантливый трепач и очень недурной литератор. «Профессором» он действительно мог быть только для «молодой советской науки», причем лишь — для ее административно-хозяйственного аппарата, состоявшего из тех же пресловутых кухарок, дворников и прочей люмпен-швали. Поражает, конечно, его сугубая наивность (ну и, видимо, своеобразная корысть, хотя она остается за кадром) в стремлении (с УДЛП) обратить «вождей большевизма» если не в буддизм, то в его масонскую разновидность «Древней Науки», и увлечь тантрой (ну, как он ее понимал). До «больших большевиков» нашего идеалиста, конечно, не допустили, затормозили в черных сенях, где общаться ему пришлось со всякой чекистской сволочью, стукачами, филерами и профессиональными провокаторами. Вот это отребье, безграмотное и вульгарное, якобы «руководившее страной», и стало, по иронии судьбы, его единственной аудиторией. В наше время, понятно, он бы стал каким-нибудь юродивым, вроде Дугина, Мулдашева или Фоменко, и пользовался бы некоторой популярностью. Наряду с Рерихом или Блюмкиным он, конечно, персонаж великолепный, занимательный и многомерный.
Вторая часть — очерк советских экспедиций в Тибет, вполне обстоятельный. Нас подводят к выводу, что в «Большой игре» (которая не завершена и сейчас, что бы там ни говорили архивисты и кабинетные историки; просто перешла в фазу реал-политики, наконец-то) временно победила третья сила, которую Англия разыгрывала как разменную карту всю дорогу, — Китай. Ну и на примере Тибета становится до очевидности ясно, в очередной раз, что основным инструментом внешней политики руководства "этой страны" было и остается бесстыжее вранье и пустословие.
Когда простота ценнее всего
"Минувшие дни. Воспоминания", Нина Дьяконова

Воспоминания Нины Яковлевны с виду незамысловаты и читаются как текст очень пожилого человека, но в этом и их прелесть и ценность. Эта небольшая книжка очень утешает — она показывает непрерывность истинной интеллигентской и гуманитарной традиции на этих территориях, невзирая ни на что, а прикасаться к ней всегда полезно. Я очень рад, что мне довелось слушать Н.Я. живьем, и в мемуарах приятно было увидеть, что свои гастроли во Владивостоке в 1980 году она помнила. Тогда, помню, она поразила всех нас — истинно «железная леди» англистики и литературоведения. Кроме того, здесь обнаружилась еще парочка интересных «рукопожатий» — косвенных и/или виртуальных, но тем не менее. И пара ее книг у меня на полке до сих пор, они пережили года и переезды. Не скажу, что ее лекции и эти книжки дали мне основной стимул заниматься тем, чем я занимаюсь до сих пор, но одной из важных ролевых моделей для меня, тогда буквально вчерашнего школьника, она, несомненно, стала. Спасибо ей за это огромное и низкий поклон.
Книга полутонов
"Последний единорог", Питер Бигл
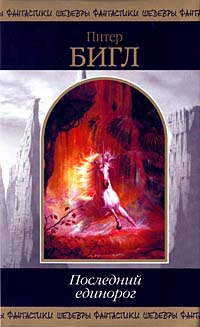
Питер Бигл, наверное, ничем не выделяется из всех тех людей, которых поклонники любят называть «создателями миров» -- ну, вы наверняка знаете: «миры Азимова», «миры Балларда», «миры Силверберга»... Критики сравнивали Бигла с Льюисом Кэрроллом и Дж. Р. Р. Толкином. Но в этой книге читатель не найдет ни изощренного юмора первого, ни мистико-диалектического эпоса второго.
Пусть это не послужит ему разочарованием. «Последний Единорог» -- книга полутонов. Здесь нет ни захватывающих приключений, ни потрясающей правды жизни. Зато в ней есть нечто если не большее, то весьма отличное по качеству. Фантазия.
Все тонкие и хрупкие постройки одноименного жанра, жанра «фэнтэзи», держатся, в сущности, на одном -- на фантазии того человека, который их создает. Их, фактически, больше ничего не связывает с тем миром, в котором они рождаются: ни обязательства реализма, ни «социальный заказ», ни страх перед читателем или ужас перед критикой. Всё целиком зависит от доброй воли автора и от его желания и умения довести до конца предпринятый труд. Он -- единственный хозяин той маленькой вселенной, которую создает на глазах у читателя, он -- и ее верховный властитель, и ее абсолютное божество. Он в своей книге -- сам Господь Бог, и принимать нам или не принимать создаваемые им законы существования персонажей и навызываемые им (и нам) правила игры, зависит только от нас самих. В конце концов, книжку можно захлопнуть и на середине.
Но случается, что какое-то странное доверие к автору останавливает и удерживает нас до самого конца. Доверие, основанное на непонятной робости перед ним, -- такое безоглядное чувство от превосходства и обаяния его фантазии. «Ибо, -- как писала Урсула Ле Гуин в эссе «Почему американцы боятся драконов?», -- фантазия правдивы, разумеется. Она не отражает фактов, но она правдива. Дети это знают. Взрослые тоже это знают, и именно поэтому многие боятся фантазии. Они осознают, что ее истина бросает вызов, угрожает даже, всему фальшивому, липовому, необязательному и тривиальному в жизни, что заставило их самих поддаться и позволить ему существовать. Они боятся драконов, поскольку боятся свободы. ...Поэтому я твердо верю, что мы должны доверяться нашим детям. Нормальные дети никогда не смешивают реальность с фантазией -- по крайней мере, гораздо реже, чем мы, взрослые... Дети отлично знают, что единороги -- не настоящие, но знают они и то, что книжки про единорогов -- хорошие книжки, истинные книжки...»
После Толкина традиционная литературная сказка уже не могла оставаться прежней. Границы жанра неимоверно расширились, он начал вбирать в себя как черты «иной», «жизнеподобной» литературы, так и приметы современности, не ограничиваясь больше традиционными сюжетами и клише, пусть используемыми сколь угодно изобретательно. Так, в частности, появился самый распространенный гибрид литературной сказки и научной фантастики (что, собственно, в основном, и известно нашему читателю под названием «фэнтэзи»). Но ведь были еще и фэнтэзи-приключения (Роберт Силверберг), фэнтэзи-хроники (Фрэнк Херберт), фэнтэзи-исторические романы (Кэтрин Кристиан и Мэри Стюарт) -- и даже фэнтэзи-реализм (Урсула Ле Гуин) -- да и многое другое...
Никому из всех уважаемых авторов не удалось, правда, подняться до творческих высот Джона Роналда Руэла Толкина. Его тщательно разработанная модель развития языка и культуры, модель функционирования всего духовного универсума, воссозданная вдумчивым филологом и тонким стилистом, навсегда, видимо, останется единственным и непревзойденным литературным памятником подобного рода. Питер Бигл очевидно не преследовал выполнения такой задачи. Говоря сухо, в «Последнем Единороге» он попытался вплавить в литературную сказку черты психологического ромна «большой литературы». И читатели всего мира вот уже больше тридцати лет, видимо, считают эту попытку удачной...
Питер Сойер Бигл родился в 1939 году в Нью-Йорке, но большую часть жизни прожил в Северной Калифорнии, в Санта-Крузе. Окончив в 1959 году Университет Питтсбурга, Бигл уехал за границу и жил долгое время в Париже, путешествовал по Франции, Италии и Англии. Книги его, во многом недооцененные, изредка переиздаются до сих пор: «Прекрасное уединенное местечко» (1960) -- история о человеке, вернувшемся с собственных похорон в мир живущих, которую он написал, когда ему не было еще и двадцати лет, пост-битническая автобиографическая эпопея «По одежке вижу я...» (1965), травелогия «Чувство Калифорнии» (1969), биография Иеронима Босха «Сад земных утех» (1982) или самая последняя -- сборник рассказов «Гигантские кости» (1997). В самом начале творческой биографии критики называли его «подлинным нонконформистом, ...который уже вооружен опытом, но еще достаточно храбр, чтобы пускаться туда, куда старшие боятся ступить». Его рассказы печатались в журналах (включая престижный The Atlantic Monthly), писал он также для кино и телевидения, участвовал в создании сценариев мультфильма Ралфа Бакши «Повелитель Колец» и диснеевской «Русалочки», а поклонникам «Звездного пути» известен как сценарист эпизода «Сарек». Даже существует кассета с его песнями, хотя найти ее будет, наверное, трудновато (там Бигл поет и «Песнь Трактирщика»). Однако, известность и любовь все же пришли к нему после публикации в 1968 году фантазии «Последний Единорог». За нею последовали другие сказки: страшные -- «Лайла-Оборотень» и «Приди, Леди Смерть», забавные, вроде «Воздушного Народца» (одно Общество Творческого Анахронизма чего стоит) или сборника рассказов «Носорог, цитировавший Ницше», темные («Песнь Трактирщика») и светлые («Соната Единорога»)...
В 1981 году в США вышел мультфильм по роману Бигла, и решение продюсеров доверить сценарий самому автору и, более того, сохранить авторскую версию, было удачным и спасло фильм от забвения как еще одну голливудскую поделку. Кто-то мудро рассудил также, что истории поверят только тогда, когда персонажи заговорят так, чтобы их не забыли, и здесь создатели фильма тоже выбрали лучших из лучших: Миа Фарроу (Единорог и Леди Амальтея), Кристофер Ли (Король Хаггард), Джефф Бриджес (Принц Лир) среди прочих.
...То, что у Бигла получилось в этой книге, -- стилистический коллаж в пастельных тонах, подернутый дымкой легкой авторской иронии, развернутая притча, где envoy -- на каждой странице. Хотя сам Питер Бигл писал, что «Последний единорог» для него -- «как некий персональный И-Цзин, не дающий мне ни советов, ни своевременных предупреждений, а лишь медленно рассказывающий мне о том, что я уже забыл или спрятал от самого себя», это отнюдь не справочник «Как вести себя в жизненных передрягах», нет -- это книга чарующая и способная вызвать слезы умиления и -- кто знает? -- может быть, какое-то чувство сродни катарсису... Эдна Сент-Винсент Миллэй как-то сказала, что от чтения истинной поэзии голова слетает с плеч и уплывает далеко-далеко. Моя после этой книги до сих пор не вернулась...
Это книга о Великой Тайне Женщины. Это книга о Бессмертной Любви. О Добре. О Времени. О том, чего вообще нельзя коснуться пальцами или понюхать, что постоянно ускользает, даже если смотришь боковым мимолетным зрением. О том, как дьявольски трудно жить не в черном поле и не в белом поле, а в «бессчетных оттенках серого», как это хорошо понимал и мудрый профессор Толкин. О том. Как в нашем вечном странствии от зимы к весне в лето до самой поздней осени мы что-то неуклонно теряем -- год за годом, шаг за шагом... Или же обретаем? -- нет, не бессмертие, быть может, вообще не способное любить, но ту блаженную окончательность, которая сама по себе -- вечный двигатель того малопонятного процесса, название которому -- Жизнь и Фантазия.
Вечность в мимолетном, вселенная в песчинке...
Странное дело: пока я работал над этой книгой, под моими окнами, выходящими на пока еще тихую городскую улочку, что горбится по сопкам, неся на себе драконий гребень пятиэтажек из белого кирпича, каждое утро раздавался стук копыт. Я не раздвигал штор по утрам, чтобы восточное солнце не было в окна и не будило дремлющую пыль на книжных полках. Я их так и не раздвинул, не посмотрел на единорогов. В том, что у меня под окнами каждое утро пробегали осенние единороги, не было никаких сомнений -- одного-двух видели даже в Лос-Анжелесе. Мне говорили, что это, наверное, цирковые лошади на прогулке или кооператоры из соседнего парка едут катать детишек в гавань... Но когда я, имеющий на эту книгу не больше прав, чем любой читатель (и уж, конечно, гораздо меньше прав, нежели сам автор, затеявший всю эту историю где-то посреди Америки), -- когда я поставил последнюю точку в переводе и отодвинул кипу листов в сторону -- с того самого утра я не слышу больше никаких копыт под своим окном...
1991-1998
Современная женская проза
"Смерть наследственна", Триша Уорден

Короткие тексты современного поэта и прозаика Триши Уорден — срез радикального андерграунда США последнего десятилетия. Триша известна в Штатах своими сборниками, традиционно выходящими в издательстве Хенри Роллинза «2.13.61», отдельными работами, публиковавшимися в антологиях «рок-н-ролльной» и маргинальной литературы, и активными «мультимедийными» выступлениями со многими весьма уважаемыми деятелями культуры: Хьюбертом Селби-младшим, Джоном Кейлом, Джеком Уомэком, Экзен Червенкой, Доном Баджимой, Бликсой Баргельдом, Марком Э Смитом, Майклом Джирой и тем же Хенри Роллинзом. Триша, кроме того, — романист, драматург и редактор сетевого журнала искусств «Цифровой молот». Она была одним из авторов сценария фильма «Элегия по Шамбондаме», получившего особый приз «Золотой телец» Большого жюри Фестиваля голландского кино. Ее первая книга вышла, когда автору исполнился всего 21 год, а теперь ее тексты вошли в учебные курсы нескольких колледжей США по современной литературе. Единственное, что Триша Уорден имеет сказать о своем творчестве — это что пишет она без заглавных букв не из фиксации на поэзии э.э.каммингса, а потому, что жать на клавишу «смена регистра» слишком долго.
Читать тексты Триши Уорден — своеобразная шоковая терапия, сродни чтению, скажем, возрожденческого художника Майкла Джиры. Лимб современного маргинального искусства примерно тот же, но там, где Джира реконструирует атмосферу тотального ужаса через нагнетание элементов сюрреалистической фантасмагории в пространстве сна, Триша «приземляет» читателя, вводя его в ткань казалось бы совершенно бытовых зарисовок. И только по мере погружения в текст ее истории мутируют в абсурд и бред, сохраняя в себе мощную лирическую ноту. Ее рассказы, монологи, наброски и стихотворения в прозе одновременно смешат, ужасают и восхищают ювелирной точностью интонаций и передачи отношений. А подход Триши Уорден — сильная и стильная смесь «высокого смеха» Германа Гессе и взрывного внепоколенческого «ангста», отношение глубоко свое и уникальное, на что бы ни упал ее блуждающий взгляд — будь то насилие над женщиной, современное общество «потребления страха», поклонение рок-звезде, детская порнография, одиночество, безумие, полицейский беспредел или же распад личных связей и самой психики. При всем этом, Тришу довольно сложно пометить каким-то однозначным каленым клеймом — например, «разъяренной феминистки» или «урбанистической панк-поэтессы». Перед читателем предстает целая галерея портретов эмоциональных инвалидов, монстров, уродов или просто очень несчастных или смертельно обозленных людей. Каким же через призму Триши Уорден нам увидится окружающий мир — об этом вообще лучше помолчать…
Пока не перевернете последнюю страницу этого томика современной «женской прозы».
Рассказчик историй
"Изобретение фотографии в Толедо", Гай Давенпорт

…Когда-то добровольцам американского Корпуса Мира, расквартированным в одной из африканских стран, пришла в голову блестящая идея: для просвещения местного населения одной из деревень снять фильм о том, что малярию переносят комары, комары плодятся в лужах, поэтому лужи на деревенской главной улице нужно осушать. Об этом перед камерой и должны были говорить старейшины племени. Когда фильм показали всем жителям, встречен он был гробовым молчанием, и лишь в одном месте раздались вопли восторга: «Цыпленок Нтумбе!» Озадаченных добровольцев Корпуса попросили показать фильм еще раз: некоторые дети во время сеанса вертелись и не смогли увидеть цыпленка Нтумбе. Покажите нам цыпленка Нтумбе еще раз! Выяснилось, что в одной короткой сцене, где сознательная мамаша, присев на корточки, вычерпывает лужу, у нее за спиной по самому краю кадра действительно бродит одинокий цыпленок. Эти славные странные американцы сколько угодно могут рассказывать о лужах, комарах и малярии, а тут, прямо перед ними вот в этой движущейся картинке на стене ходит живой цыпленок Нтумбе. Чего ж еще можно требовать от искусства?
«Тридцать лет, — пишет Гай Давенпорт, — я сочинял истории, в которых цыпленок Нтумбе приковывал к себе внимание слишком многих из моих немногочисленных читателей. Академики даже разработали целую критическую школу, призванную обучать людей видеть в них одного лишь цыпленка Нтумбе (или его отсутствие)... Один остроумный француз сказал, что я — писатель, исчезающий сразу же по прибытии. Мне хотелось бы недопонять его: как модернист я прибыл слишком поздно, а для диссонансов, известных под названием постмодернизма, — слишком рано».
Гай Давенпорт (1927—2005) — американский ученый, преподаватель, переводчик, критик, поэт и прозаик. Родился в Андерсоне, Южная Каролина, в семье транспортного агента Гая Мэттисона Давенпорта и его жены Мэри Фант. За исключением двух лет службы в воздушно-десантном корпусе армии США (1950—1952), занимался исключительно академической деятельностью. Получив степень бакалавра искусств в Университете Дьюк (1948), следующие два года провел в Мертон-Колледже, Оксфорд, где как стипендиат Роудза получил степень бакалавра литературы. По окончании службы в армии три года преподавал английский язык в Вашингтонском Университете Сент-Луиса и в 1961 году защитил докторскую диссертацию в Гарварде, после чего работал внештатным редактором в журнале «Нэшнл Ревью». С 1961 по 1963 гг. служил ассистентом профессора английской филологии в колледже Хэверфорд. С тех пор преподавал английскую филологию в Университете Кентакки в Лексингтоне, после чего вышел на пенсию и дожил там же до конца своих дней.
Один из его студентов вспоминал: «На студенческой попойке один из моих однокашников описал мне преподавателя, который во время лекций расхаживает взад-вперед, как петух, время от времени отворачивается к доске и пишет что-нибудь по-гречески или на латыни. Меня это заинтриговало, и я записался к нему в класс. И до сих пор помню охватившее меня ощущение чуда и изумления. В памяти осталась одна из лекций Давенпорта — об Эдгаре Аллане По, на которой прочерчивались векторы в готическую архитектуру, греческую эпическую поэзию, арабески. Другую, чтобы провести разграничения между началами американскости в пуританской Новой Англии и роялистской Вирджинии, Давенпорт посвятил «Географии Возрождения». Меня это зацепило на всю жизнь».
Несмотря на то, что еще в студенчестве Давенпорт получил премию за «творческое письмо», под псевдонимом Макс Монтгомери публиковался в журналах «Хадсон Ревью» и «Вирджиния Куортерли», и параллельно с преподаванием издавал свои переводы, литературно-критические работы и стихи, за которые получал премии, рассказы писать он начал только в начале 70-х годов, когда получил свой первый академический отпуск. Потом долго Давенпорт считал опубликованные работы не более чем «продолжением своих уроков», рассматривая поэзию как «уроки эстетики», рассказы — как «уроки истории», а себя самого — как «закоренелого толкователя», скорее пишущего учителя, нежели профессионального писателя.
Будучи преподавателем и критиком, он считал, что «Искусство — это внимание, которое мы уделяем цельности мира», и что «искусства предлагают нам память человечества в таком виде, в каком ни один другой континуум культуры свое полезное прошлое не хранит». Иногда Давенпорт, правда, утверждал иное: «Музей, эта пародия храма в двадцатом веке, — вот всё ... что у нас остается от прошлого физически». Однако в своих критических работах он отдает дань Раскину и Паунду — «двум яростным голосам... которые громогласно утверждали, что искусства — учителя морали»; и поскольку их голосами «легче всего пренебречь как голосами очаровательных чудаков», насколько трагично то, что преподаватели, как правило, отмахиваются от «поэзии, способной научить не только восприимчивости и тонким движениям духа, но и... подлинному, вечному, осязаемому знанию». Будучи южанином, он «принимает как должное некоторую раскрепощенную реальность» и остается «благодарным за тот день в Сент-Элизабет», когда уже одержимый паранойей Паунд подарил ему «Историю африканской цивилизации» Лео Фробениуса в вывернутом наизнанку переплете, чтобы он смог безнаказанно читать ее в поезде домой. Для Давенпорта, как и для Паунда, «прошлое — сейчас; его невидимость — это наша слепота, а не его отсутствие». Где Элиот и Джойс пытались создать Ад и Чистилище, Паунд, воспользовавшись тем, что Джойс сделать этого не успел, пробовал творить Рай, «град в уме» перикловы Афины или Новый Иерусалим, древний, как и обнесенный стенами «град вокруг храма... выстроенный музыкой и заклинаниями» Фробениуса, длящийся от «Иерихона до Патерсона, Нью-Джерси... от Трои до Дублина».
Другие писатели, которыми восхищался Давенпорт, либо практикуют вместе с Паундом «дедалическое» искусство, посвященное «Ренессансу архаики» (например, Чарлз Монтэгю Даути, Чарлз Олсон, Джонатан Уильямз), либо, подобно Паунду, Джойсу и Элиоту, считают, «что традиция поддерживается изобретательностью и нововведениями» (Луи Зукофски, Роналд Джонсон, Дэвид Джоунз). Когда Давенпорт ищет в литературе какого-либо яркого выражения «американскости», то находит лишь древние антитезисы и аналогии. Ворон По на бюсте Паллады — «это иррациональное, доминирующее над интеллектом», противоположность древней «богини полей и крепостей, венцом для которой служит святилище, выстроенное ее народом». Уитман, «архетипичный поэт Америки», «сочетавший созерцание природы с созерцанием цивилизации... в единое пьянящее видение жизни, поскольку никогда не упускал из виду мимолетности всех явлений», также связывается с «эротическим товариществом» — старым, как фиванская Святая Шайка Плутарха — сборище демократов-пифагорейцев, которые друзей считали просто «другими я». Классик современной американской поэзии Джеймз Локлин (основатель, владелец и единственный редактор издательства «Новые Направления»), «пышущий здоровьем американский бизнесмен и гиперактивный спортсмен», «пишет такие стихи, какие могли бы писать... ироничные римляне и соленые греки». А Юдора Уэлти, которую Давенпорт называет «величайшим из писателей» Америки, в своих романах представляет ему фигуру овидиевской Персефоны, метаморфирующей в Эвридику, а затем — в Орфея, в поступках «древних, как сельское хозяйство или грех». В одном из интервью Давенпорт признавался, что «величайшим его вдохновением послужила ему не сама Америка, а «Америка» Кафки, вымышленная, мифическая страна, не имеющая ничего общего с той, которую мы знаем, и вместе с тем — реальная.»
Интересуясь фотографией, кинематографом, живописью сюрреалистов, коллажем и фроттажем, Давенпорт ищет то самое «осязаемое знание» реальности в архитектонических структурах и в органических формах, веря, подобно Витгенштейну, что «смысл мира — снаружи», в мире воображаемом. Антропология и религия показывают, как человек трансформирует «биологический императив в обычай и ритуал; художник же обряжает его в аналогию и обнаруживает замысел в случайности и ритм в нечаянности». В искусстве «событие — узор, а сущность — мелодия». В поэзии и рассказывании историй Давенпорт всем сердцем предается «стилям, которые контролируются искусными уловками» — вплоть до эпической «суровости и архаической красоты» «Зари в Британии» Даути. Современные поэты, взыскующие «чистого родного английского языка» или извлекают пользу из размышлений Штейн или Витгенштейна о «разбрызганном смысле языка болтовни», также доставляют ему удовольствие, но, будучи переводчиком поэзии, он не доверяет «риторической косметике и произвольной мелодии для мелодраматической раскраски». Ему нравится «страсть к объективности», которую Паунд превозносил у Гомера, Овидия, Данте, Чосера — поэтических мастеров, «чья манера прозрачна, остра,... проста» и чье искусство, кажется, упразднило своего создателя. Личное вступает в такую поэзию только «раскраской, отношением и характерным вниманием».
В описательной прозе его восхищает «практическая экономия» Луи Агасси — «элегантно точная, тщательная в деталях», преподносящая «красноречие информации», «блестящей самой по себе, чье великолепие проистекает из глубокой чуткости и острого осознания прекрасного». Такие писатели заставляют Давенпорта искать учителей, готовых рассказывать о «научной точности поэта» и «поэтической точности ботаника... в одном контексте».
С тех самых пор, когда отец учил его уважительно относиться к наконечникам индейских стрел, найденным во время воскресных прогулок, Давенпорт испытывает радости, описанные им в эссе «Находки» — радости «поисков», «разведок», которые приходят к школьному учителю точно так же, как и к художнику или ученому, когда фрагментам, добытым из прошлого, или найденным обрывкам памяти придается новый контекст. В том же году, когда он составил, аннотировал и написал предисловие к книге Агасси «Образцы научного письма», чтобы доказать, «что достоверность имеет значение, что Агасси не нужно принимать на веру как разум, который освещал научные вопросы XIX века, а теперь должен остаться в истории с полностью вымышленной репутацией», журнал «Поэтри» опубликовал подборку переведенных им 14 стихотворений Архилоха. Некоторые критики сочли эти переводы настолько вольными, что приняли их за мистификацию, а многие читатели предположили, что и сам Архилох — изобретение переводчика, однако в «Заметках переводчика» к вышедшему год спустя более полному изданию «Carmina Archilochi» Давенпорт настаивал, что, работая с обрывками строф и строк (а в двух случаях — и с единичными буквами), разбросанными в цитатах по работам более поздних грамматиков, риторов и критиков, с обрывками александрийского папируса, некогда использованного для обертывания и набивки «третьесортных мумий», он был «буквален настолько, насколько могло позволить ему любительское знание греческого языка». В предисловии Хью Кеннер отметил «личную связь» с Архилохом, которая устанавливается у читателей благодаря способности Давенпорта «заново пробудить наше удовольствие от краткости и выразительности брани». Да и сам Давенпорт признавал, что потребность перевести этого сатирика, лирика и наёмника, используя «словарь десантного сержанта», произошла настолько же из «казарм 18-го воздушно-десантного корпуса», насколько и из университетской аудитории.
Хотя критик Хэрри Уиллз и счел давенпортовского Архилоха «узнаваемым», Ф.М. Комбеллак жаловался на «всепроникающую фальшь» этой работы, поскольку «добавления, модификации и комбинации» сделали этого древнегреческого автора «менее фрагментарным, чем он есть на самом деле». Такие же возражения вызывали и переводы Гая Давенпорта из Сафо (1966), названные критиком Чарльзом Фукуа «настолько же исторически неверными, насколько они эстетически двусмысленны», и расширенное издание «Архилох, Сафо и Алкман» (1980). Впоследствии к ним были добавлены переводы из Анакреона, Гераклита, Диогена и Геронда (сборник «7 греков»). Свой подход к художественному переводу Давенпорт любит иллюстрировать анекдотом о джазовом трубаче Диззи Гиллеспи. Как-то, едучи в машине, тот спросил, почему она едет, и нетерпеливо прервал ответ про поршни и свечи: «Да знаю я все это, чувак! Ты мне лучше скажи — почему она едет?» Так и его переводы из этих древних греков, собранные из обрывков и обломков речи, начинают жить собственной полнокровной жизнью.
Сам же Давенпорт свои рассказы неоднократно называл «образными структурами» (слегка иронизируя над термином, данным им неким сорбоннским докторантом — «фрактальные ассамбляжи»). Структурный же итог тридцати лет работы он подводит в послесловии к итоговому в каком-то смысле сборнику «12 историй», в который вошли рассказы из книг «Татлин!» (1974), «Яблоки и груши» (1984) и «Барабанщик одиннадцатого стрелкового полка Северного Девоншира» (1990): «62 рассказа, собранные в 8 книг, самые длинные — 130 и 235 страниц, самая короткая — половина страницы; каждая книга писалась так, как будто ей суждено было стать последней».
Воображение, наверное, — одно из ключевых слов при чтении Гая Давенпорта: «Не мудро слишком пристально вглядываться в то, что происходит, когда мы читаем и пишем, ибо и в одном, и в другом мы трепещем на границе мира явного, доказуемого и нерушимо частного мира своего разума... В то время как Гомер мог просить о помощи свою музу, мы вынуждены призывать воображение или собственную эстетическую волю... Но что бы мы ни призывали, мы зависим от внимания читателя». Вот и другой ключ к пониманию его текстов — доброжелательное внимание, позволяющее один за другим снимать метафорические и семантические слои текста, решая увлекательные исторические и литературные головоломки, реконструировать общий «замысел творца», некий Лабиринт мыслящей вселенной…
Рассказы Гая Давенпорта, собранные между 1974 и 1981 годами в книги «Татлин!», «Велосипед да Винчи» и «Эклоги», действительно в глазах критики поместили его в ряд видных писателей-неомодернистов, одновременно поставив новые вопросы как перед читателями, так и перед самим автором. В ответ на критическую статью по поводу «Татлина!», опубликованную Ричардом Пивером в «Хадсон Ревью», Давенпорт впервые задумался над «различием между рассказыванием историй и художественной литературой». В результате в 1978 году в «Нью Литерари Хистори» появилось его эссе «Давай серьезно, Макс Эрнст» (Ernst Machs Max Ernst), которое для автора стало осознанием себя в художественно-образном письме (что было темой выпуска альманаха) и позднее заключило собой сборник его художественной публицистики «География воображения» (1981). В этом ответе Пиверу Давенпорт давал обзор коллажей фактических и выдуманных образов в таких своих рассказах, как «Аэропланы в Брешии» и «Велосипед да Винчи», и утверждал правомерность веры автора в такие изобразительные детали для создания некоего символического значения, которое, насколько он ощущает, но не обязательно знает наверняка, там присутствует.
В то время как Пивер утверждал, что «богатство повествовательной изобретательности» Давенпорта остается в пределах искусства художественной литературы зачаровывать читателя своей «целостностью, связностью и убедительностью», сам Давенпорт чувствует, что всегда рассказывает истории, а не «проецирует иллюзорный вымышленный мир», который для Пивера является «наркотическим и пропагандистским». Среди основных тем этих его историй — и самая общая: «такое догонское ощущение, что человек — это фуражир, пытающийся отыскать полный план вселенной, составленный Господом Богом». Заглавный рассказ сборника «Татлин!» вырос «из политической позиции», принятой однажды Давенпортом, и из его «фуражировки» в поисках «истоков модернизма в живописи и скульптуре». Его Татлин считает себя Хлебниковым конструктивизма, сплавляющим воедино народное искусство с «самой революционной модерновостью», он мечтает распахнуть мертвый закрытый порядок архитектуры Возрождения и «статичную аллегорию» Статуи Свободы монументальной спиралью, посвященной Третьему Интернационалу, или «новым... Пегасом», который заменил бы «карету аристократии». Будучи художником-изобретателем, он пытается «все время переводить свои модели назад в первобытную реальность» — а этот метод близок и самому Давенпорту. Хотя автор-рассказчик и отводит себе роль эдакого «игривого кальвинистского Бога», которому известно будущее и который с иронией относится к надеждам Татлина на технику и общество — с иронией, которая может быть нацелена и на его собственное искусство, — вместе с тем в других рассказах он наделяет несколько исторических фигур более внушительной силой придавать слова бессловесному логосу, чьим языком является «гармоничный замысел, деревья, свет, время, сознание, развлечения вроде силы притяжения или воспроизводства». Гераклит в рассказе, названном его именем, и голландский философ Адриан ван Ховендаль в «Заре Едгин» обладают более богоподобным осознанием некой «согласованности всех диалектов логоса»; Кафка и Витгенштейн в рассказе «Аэропланы в Брешии» и аббат Брюи в «Роботе», рассказе о пещерной живописи в Ласко, а также протейский По, называющий себя Эдгаром А. Перри, в «1830» — у них всех есть более мучительная интуиция относительно того, «что говорят природа, желанье, замысел, и Бог».
Рассказ «Аэропланы в Брешии», за сюжетную основу которого взят одноименный газетный фельетон, написанный Францем Кафкой в 1909 году, вместе с тем проистекает также из очевидной очарованности Давенпорта необычайной для философа практической подготовкой Людвига Витгенштейна, как известно, не имевшего университетского образования, но изучавшего в то время аэронавтику. Он ставит вопрос сродни гипотезам, любимым научными фантастами: что было бы, если бы Витгенштейн и Кафка, два великих авангардиста ХХ века, вышедшие из одного мира ассимилированных Австро-Венгерской Империей евреев, два писателя, тем не менее, никогда так и не узнавшие о работах друг друга, встретились бы — или почти встретились бы — в той точке Европы и в тот момент истории, которые были единственно возможны: на воздушном параде в Брешии, — на территории, которой вскоре суждено будет стать фашистской и, следовательно, недоступной ни для одного, ни для другого, в атмосфере европейского авангарда последних спокойных лет перед Первой Мировой войной, искусства, зачарованного техникой, которая вскоре его и уничтожит. Недаром, видимо, в рассказе Давенпорта Витгенштейн то и дело массирует себе левую руку, будто она болит, а у Кафки после парада в глазах стоят слезы.
Рассматривая собственное повествовательное искусство, Давенпорт видит три вопроса, из которых возникают темы, подчиненные теме «поиска»: жива или мертва материя? чем она отличается в природе и машине? и как человеку примирить свою физическую животность с контрсилами механического века, чтобы «вернуть» себе тот дух, что в настоящее время проиграл цивилизации? В сборниках, вышедших после «Татлина!», эти темы продолжают развиваться. Критики ценят юмор и интеллектуальное возбуждение, которое им дарят сюрреалистическая образность и структура коротких рассказов Давенпорта, вроде «Робота», «Итаки» или «Деревьев в Листре». Другие же, более длинные и амбициозные работы («Заря Едгин» или «Au Tombeau de Charles Fourier»), вызывают нетерпение: «…в зависимости от состояния ваших нервов,» как сам Давенпорт написал по сходному поводу, говоря о прозе Гертруды Штейн. Коллажи сборника «Велосипед да Винчи», например, считались «до тошноты головокружительными» и «временами утомляющими своим сознательным всезнайством», в то время как другие сравнивали эту книгу, ни больше ни меньше, с «Дублинцами» Джеймса Джойса, а первое мнение критика Джорджа Стэйда свелось к тому, что они вторичны и устарели в своем «высоком модернизме». При повторном чтении, правда, Стэйд раскаялся, назвав их «очень хорошими по всем стандартам, если не считать немедленной доступности». И даже Салливан пришел к заключению, что «в самых своих лучших проявлениях Давенпорт принадлежит к той же компании, что и его «фуражиры»». Да и сам Давенпорт всех писателей считает «созданиями языка и прошлого». Однако Хилтон Крамер, критик, благоволивший к модернизму в искусстве, возражает против «враждебности к современному обществу», которую Давенпорт разделяет с Паундом; а Джордж Стайнер, ставящий Давенпорта в один ряд с Уильямом Гэссом, Борхесом, Раймоном Кено и Итало Кальвино, все же думает, что его «бойкая элегантность разряжает» очень важный вопрос: «что... делает высшую литературную грамотность столь уязвимой для варварства?» Почему, к примеру, большевистская революция называется «необходимым бредом», а участие Паунда в «тоталитарной фашистской бесчеловечности» замалчивается вовсе? И вместе с тем это не помешало тому же Стайнеру написать в «Нью-Йоркере»: «Гай Давенпорт остается среди очень немногих поистине оригинальных, поистине автономных голосов, которые сейчас можно услышать в американской литературе».
«Стратосферной» называли критики литературно-интеллектуальную прозу его сборника 1993 года «Стол зеленых полей», отдавая дань его «строгим, изумительно формальным фразам и богатым узорам памяти». Калейдоскоп героев — прежний, и все же непривычный: от художника Генри Скотта Тьюка до математика Джеймза Джозефа Силвестра, от жены Уильяма Уодсуорта Дороти до Кафки и Торо. Вполне в духе европейского модернизма между двух мировых войн, однако не отказываясь ни от сюжета, ни от персонажей традиционного рассказа, Гай Давенпорт строит свои изобретения, свои жюль-верновские механизмы — сложные многослойные события, в которых идеи и культурная история человечества — музыка сфер, под которую танцуют его персонажи, в конечном вычисляя бесконечность, намечая геометрические чертежи желанья, помещая закоснелый мир в потоки неожиданного света. Несмотря на фрактальность и синкопированность его стилистических коллажей, проза Давенпорта объективна, скупа и прозрачна: «Вообразите текст романа…, из которого вычли все, кроме диалогов,» — можно сказать, вот идеал, к которому стремится автор. Через всю книгу проходит одна постоянная тема: передача прошлого как акт воображения. Поэтому и название сборника — «Стол зеленых полей» — перекликается с предсмертным видением Фальстафа о «трапезе злачных пажитей»: бедняга, вероятно, недослышал что-то при пении 23-его Псалма, а досужие редакторы впоследствии подправили его, тем самым создав символ всей художественной литературы вообще — искусства, которому лучше бы точно передавать неопределенность.
Но, наверное, самое сильное противодействие критики вызвал сборник Давенпорта «Кардиффская команда», в котором автор развенчивает один из основных мифов современного американского общества — миф об асексуальности детей. Джордж Стайнер, например, видит в его рассказах «мир ficciones и рефлексий», «гомоэротизм», давление которого «на сами нервные центры современного искусства, мысли и общественного сознания» Давенпорту, по мысли критика, еще только предстоит проанализировать и высказать. Большинство критиков и обозревателей по выходе действительно поместило эту книгу в категорию «гомоэротики» и «мальчиковой любви», провоцируя еще более резкую волну «смешанных» рецензий, отражающих лишь пуританские и даже ханжеские взгляды их авторов на «проблемы воспитания подрастающего поколения в современном обществе», а самого Давенпорта зачислили чуть ли не в ряды певцов педофилии.
Действие почти всех его рассказов из этой книги, правда, перенесено в «растленную» Европу, но критику «Бостон Ревью» Кристоферу Кэхиллу это не помешало съязвить, что «если б Гаю Давенпорту довелось публиковать свою прозу, критику и рисунки в Интернете, им бы быстро заинтересовалось ФБР. Но поскольку пишет он всего-навсего книги, ко влиянию которых, как подразумевается, у американской молодежи иммунитет, то эксцентрике его ничего не угрожает.» И без помех проходят по всем его историям «люди без роду и племени», американцы, французы и скандинавы, стремясь прибиться к любой компании, к спортивной команде, к самим себе, к обществу.
Изящно выписанный в пуантилистской манере заглавный рассказ сборника начинается на бьющем через край жизнью метафорическом лугу, созданном самими актами языка и живописи, и заканчивается на лугу реальном, где читатель подслушивает восхитительный разговор о вещах ученых и не очень — беседу двух людей, признавших, наконец, и собственную человечность, и свою принадлежность к роду людскому. А между ними высокоразумные, эротичные, чрезвычайно любознательные и просто очаровательные персонажи — двенадцатилетние сорванцы, их матери-одиночки, их репетитор, сам невежественный даже в своем величайшем знании — постигают и преподают друг другу великую человеческую тайну, тайну желания и любви во всех ее проявлениях. Детей Давенпорта восхищают не только и не столько секреты анатомии друг друга — они приходят в восторг от всех граней вселенной, данных им в чувственном ощущении: от немецкой овчарки на проходящей по Сене баржи до технологических памятников начала века — колеса обозрения Ферриса и Эйфелевой башни, — от прополки грядок и игры света в ручье до живописи импрессионистов. Все они взрослеют и постепенно привыкают к собственной коже.
…На самом деле, конечно, все, что пишет Давенпорт, — в сущности своей изумительно здраво. В одной из статей, вошедших в книгу эссе и комментариев «Охотник Гракх и другие работы по литературе и искусству» (1996), он говорил: «Столетие закончится, и мы вынуждены будем допустить, что научились читать некоторые — однако, далеко не все — его письмена. Джойс и Паунд потребовали заново определить сам акт чтения… В одной из самых плотных кубистских картин Пикассо один ученый недавно смог различить фигуру «Библиотекаря» Арчимбольдо, и мы теперь можем наблюдать визуальную логику того, что раньше казалось абстрактной черепицей крохотных суетливых уголков. Это не поиски кролика в детской картинке-загадке; это признание эстетической организации… Для чтения… нам необходимо отыскать ту часть головного мозга, которой мы прежде никогда не пользовались, — ту, где синапсы имеют иное строение. Это очень буквальное подобие играющих в песочнице детей. Они счастливы, они заняты делом, они по-своему целеустремленны — но только лишь ангелам ведомо, что именно думают они о своей игре.»
Крупицы золота в реке литературы
Ричард Бротиган и не только

Наша большая новость этой недели — если вы случайно о ней еще не слышали: мы запустили кампанию краудфандинга на наш годовой проект «Скрытое золото ХХ века». Поучаствовать в нем можно (и нужно) здесь.
Вот то, что мы пока имеем вам сказать об этом проекте. А первый титул в нашей программе — последний роман Ричарда Бротигана «Уиллард и его кегельбанные призы», оставшийся неизданным в России. Сам же Бротиган был таким:
Это одно из его редких интервью (данное швейцарскому телевидению в 1983 году). Также осталось некоторое количество аудиозаписей и пластинок, где он читает свои стихи:
Именно это его стихотворение подарило название вот этому творческому коллективу:
А другое его стихотворение — «Страшила, навсегда» — стало названием пластинки группы «Field Guides», вот одна вполне литературная песенка оттуда:
Оно же подарило имя и целому коллективу:
А Джеймз Блэкшо вдохновился на сочинение красивой музыки на ту же тему:
Стоит ли говорить, что «Страшила» здесь — персонаж известного романа Харпер Ли, о которой (среди прочих — кстати, это задачка на внимательность: сколько писателей она здесь так или иначе упоминает, а?) поет Сюзанн Вега?
Вот так всегда с этой вашей литературой — начнешь с чего-то одного, и непременно вынесет на что-то другое. Но вернемся к Бротигану.
Это была песенка о необходимой для любого писателя горючке в исполнении дуэта «Рыбалка в Америке» (один из самых известных романов Бротигана), который исполнял песни как для взрослых, так и для детей:
Такой американский «Последний шанс», который тоже пел о кофе — ну, во всяком случае о кофейне, на стихи Юнны Мориц; очень бротигановская песенка, если прислушаться… да, бывали времена, когда имена этих авторов незазорно было писать в одной строке…):
Но вернемся к Бротигану еще раз. Великая Неко Кейс написала эту песню о двух персонажицах другого знаменитого романа Ричарда Бротигана, «В арбузном сахаре»:
А вот эти веселые японцы назвались в честь самого Бротигана, потому что «b-flower» — это сокращение ото «цветочек Бротигана»:
У них даже есть песенка «Нескончаемая 59-я секунда» — по фразе из романа «Рыбалка в Америке»:
В ней, как вы слышите, встречаются Боб Дилан и Харуки Мураками. Оба — писатели, между прочим:
Но паутина литературных аллюзий у Дилана уведет нас очень далеко, поэтому о нем — как-нибудь в другой раз; достаточно сказать, что в этой эпической песне, которую мы вам показываем в не самой известной версии, он упоминает Эзру Паунда и Т. С. Элиота. Но вернемся все же к Бротигану.
Эти «Прелестные яйца», как видите, умудрились срифмовать Бротигана с аккордеоном (цифровым), и это — далеко не предел безумия.
Ну и закончит наш сегодняшний литературный концерт по традиции просто литературная песня — а если точнее, то гимн художественному переводу Джима Стайнмена, выпущенный в этом году Мясным Рулетом, от которого никто уже и не ждал возвращения на большую сцену:
Не забывайте регулярно подключаться к нашему буквенному эфиру, настаиваться — и натурально отпадать от прекрасности литературы вокруг. И, конечно, участвуйте в нашей издательской феерии — и словом, и делом.
О скоте и людях
"Загон скота", Магнус Миллз

Понятно, что писать о книге, неоднократно описанной другими уважаемыми рецензентами, не очень просто — хотя бы потому, что некое отношение уже сформировано, — хотя, конечно, проще, поскольку нет необходимости вправлять конкретную работу в контекст творчества автора. Попробую обратить внимание на некоторые аспекты, так сказать, оставшиеся за кадром.
Мне в свое время эта книжка показалась не столько «производственным романом» о строительстве заборов и не столько детективной историей, сколько восхитительным экзерсисом т.н. "черного юмора", маскирующимся под привычные жанры. В этом, собственно, и прелесть Магнуса Миллза — в вышибании всех и всяческих подпорок из-под ног читателей. Миллз сознательно дезориентирует читателя и смешивает привычные представления о четком делении литературы на роды и виды, причем действительно делает это очень смешно и изящно. И мне представляется, что именно в контексте литературы абсурда и школы «черного юмора», к которой литературоведы прежних лет относили целую плеяду американских пост-модернистов (от Воннегута до Бартелми, Барта и даже Давенпорта), его и стоит воспринимать. Иными словами — последний "черный юморист" жив, здоров и живет в Англии…
Тогда все становится на место: берется очень условная ситуация и детально разрабатывается вполне реалистичная жизнь, которая в заданных условиях может происходить: есть некая шарашка, которая действительно ездит по стране, строит заборы, а по ходу дела случайно убивает клиентов. Но отличие Миллза от «барочных» "черных юмористов" — в том, что он намешивает в роман еще и элементов минимализма, что диктуется необходимостью создать образы собственно «скотов»: самих работников Тэма и Ричи, шотландских лодырей и недоумков, а также их десятника — автора — мало того, что англичанина, но и человека, судя по всему образованного и случайного в этой ситуации «хождения в народ». Естественно, весь роман напоминает эпизод «Москвы-Петушки» Ерофеева, когда его герои занимались «кабельными работами» — расклад (в т.ч. идейный) точно таков. Единственная разница — герой Миллза в конце становится таким же, как его подчиненные, поэтому нельзя сказать, что его образ ходулен и одномерен: но линии персонажей вычерчены именно по законам абсурда и минимализма.
Как любая развернутая метафора, роман замыкается на самом себе — он самодостаточен, и, подобно любой параболе, может прочитываться на многих уровнях: рассуждения о жестокой человеческой природе, о тупости народа, инструкция по возведению заборов, в конце концов. А может просто читаться и развлекать, ибо хорошо написан, легок по стилю, потрясающе смешон в деталях и диалогах. И, подчеркиваю, полностью дезориентирует, а тем самым дразнит и привлекает, вызывает споры рецензентов, поскольку неоднозначен и допускает множество трактовок.
У этого автора есть несколько романов, не переведенных на русский, — и мы работаем над этим (#скрытое_золото, помогайте издать "В Восточном экспрессе без перемен"!)
Приморский "пси-оп"
"Атомск", Кордвайнер Смит

Пришла пора наконец признаться, зачем я взялся за творчество Пола Лайнбаргера / Кордуэйнера Смита / Кармайкла Смита / и т.д. Подозрение-то у меня было и раньше, а в «Атомске» оно подтвердилось. Его следует рассматривать в контексте дальневосточной литературы. Американский китаист и спецпропагандист, крестный сын Сунь Ят-сена, понятно, не мог не написать роман, действие которого происходит в Японии, Маньчжурии и на территории Приморского края. Сам секретный атомный завод, на котором невесть что происходит (судя про тексту — русские просто облучают зэков радиацией и смотрят, что получится), располагается «в сопках недалеко от Владивостока», а точнее — где-то в тайге среди притоков Даубихэ, неподалеку от Яковлевки, Евгеньевки и Архиповки. Туда и отправляется из Благовещенска наш супершпион (сын ирландца и алеутки) — со всеми остановками по Транссибу…
Прелесть романа не в экшне, который там есть и вполне трэшовый (и с некоторой вполне развлекательной клюквой), а в темах «психовойны», которые занимали так или иначе автора. Первый важный посыл: чтобы выиграть войну, нужно возлюбить своего врага. Ты ее тогда, т.е., не выиграешь — само понятие войны уйдет из формулы. Это, как мы понимаем, вполне радикально для первых лет послевоенья, когда начиналась гонка вооружений. Подпункт первого посыла: русские клевые, а вот власть у них — говно. И всегда им была, потому что, будучи клевыми, русские — нация терпеливых рабов. Это тоже важное различение и замечание, потому что прошло сколько лет после «великой победы»? То-то же. Ну и третий элемент «пси-опа» — собственно сам майор Дуган, который исключительно психологическими методами мог становиться кем угодно — японцем, русским, уйгуром, китайцем, англичанином и т.д. Кое-какие методы в романе описываются, но мы обойдемся без спойлеров.
Необходимое пояснение. Информационный повод для этого поста в том, что роман издан силами липецких подвижников сокрушительным тиражом 30 экз. Что там внутри в смысле перевода, я не знаю, поскольку читал оригинал.
Платонический фантазер
"Усомнившийся Макар", Андрей Платонов

Начинать читать и перечитывать Платонова примерно в то время, когда у него предполагаемый день рождения, — иронично, но я, честное слово, не специально. Потом только заметил.
Первый том «Собрания» собран несколько хаотично, и логика выстраивания текстов в нем меня бежит, но тут, наверное, дело во мне. Три предисловия Битова — традиционное пустословие о том, как Битов три раза пытался написать предисловие. Ему не удалось. Биографическая статья Малыгиной как-то раздергана и пунктирна, а ее комментарии… ох, ну с ними придется смириться, они там везде.
Прежде я как-то не подозревал, что в ранних рассказах своих Платонов в такой большой мере — писатель-фантаст и так хорошо встраивается в широко пронимаемую плеяду жанровых и коммерческих писателей того времени (особенно это понятно, если ознакомиться с релизами издательства «Саламандра»). Только фантастика его причудлива, а замыслы — ну как-то совсем запредельные, несмотря на наукообразие (и даже относительно научно-техническую точность) подачи. Показателен в этом смысле рассказ «Лунные изыскания» — там и привет «Солярису», и корни гениального в своей нелепости фильма «Я был спутником Солнца». Читать фантастику Платонова — натуральный палеоконтакт.
Там же есть и ключевая фраза, ставшая одним из чудесных лейтмотивов всего последующего творчества Платонова: «…Люди ошибаются: мир не совпадает с их знанием». Бо́льшая часть его текстов — мучительные потуги ограниченного человеческого ума справиться с огромностью и непостижимостью окружающего (и довольно привычного) мира. И вот эта мучительность — большая ценность текстов Платонова. Мы же по-прежнему в массе своей позитивистски считаем, что мир познаваем, подвластен нам и нам в нем всё по силам. А вот хуюшки вашей Дунюшке, как бы говорит нам Платонов. Почти 100 лет назад он это прекрасно сознавал: отличительной чертой русского народа (а о других он и не писал, потому что всегда был честен и говорил только о том, что знал сам) является скудоумие. Исключения редки и только подтверждают правило — их, эти исключения, он тоже пытается нащупать, обрисовать и вывести: всех этих народных и пролетарских гениев, инженеров, строителей идеального. И с болью вынужден раз за разом признавать, насколько мало что у них выходит. Потому и большинство текстов у него заканчивается как бы ничем. Или вообще не заканчивается, а бросается буквально на полу-мысли.
Да и сами прожекты этого платонического фантазера — страшные, если вдуматься, и вполне человеконенавистнические. Видеть в них одну лишь поэтическую красоту увлеченного новыми веяниями романтика (как и считать его народных электромехаников истинными и безупречными героями) будет сильным упрощением в лучшем случае и крайней тенденциозностью в худшем. Они, фантазии эти — плод того же скудоумия, хоть и выведены с честностью и стилистическим изяществом; вот только от красоты изложения не становятся они гуманнее. Потому что Платонов — такой же, как его персонажи, он плоть от плоти народной, и в этом его удивительный парадокс. В ранних текстах первого тома сам автор, правда, за персонажами и рассказчиками не очень еще торчит — и вместе с тем виден очень хорошо.
Характерная черта прожектов его персонажей — деятельный идиотизм: им же не только нужно понять мироздание, его сразу же, непременно, надо переделать, подстроить под себя, так или иначе испакостить. Природа для них — враг. И списывать все на революционный задор или дикие времена и дикие нравы не получится.
Потому что бесчеловечны эти его не слишком разнообразные прожекты, как бесчеловечно было учение Федорова о воскрешении мертвых и этом вечном идеальном коммунизме: ничего гуманного по отношению к живым в нем нет. А следы и следствия его — и у Вернадского, и у Чижеского, и у Богданова, и у Платонова. Заразная, в общем, была штука. Все прожекты эти — от той же превратно толкуемой слабости человечьего ума и, как сейчас хорошо видно, нашей неспособности не только вселенную постичь — даже понять принципы оптимального устройства своего общества человек не очень в состоянии, как показывают его эксперименты над собой в последние 100 лет. Они-то известно к каким результатам привели, и ошибка там была системная. Не баг, а фича. Внутренний порок, так сказать. Поразительно же то, что Платонов уже тогда об этом догадывался, и гениальность его, тем самым, не только в чутком слухе и стилистическом бесстрашии, не только в глоссолалии и языковом шаманстве, и уж конечно, не в лубочном сказе, который виден лучше всего и замечается первым (а часто — и единственной чертой его творчества; хотя уже в первых рассказах видно, до чего протейски владел он разными стилями). Нет, гениальность — в этом натужном вытягивании самого себя за волосы из трясины русского скудоумия. И не забываем — 20 с небольшим лет ему при этом было.
А если о стиле — то вот вам пример опасности стиля для системы: и вроде все правильно для режима Платонов писал, а вроде как есть в этом какая-то подъёбка. Глум какой-то. Кто ее видит, кто нет — ну или предпочитают не замечать, — однако впаяли Платонову по самое не хочу. Для острастки, на всякий случай, чтоб неповадно было. Не иначе режим вот это собственное скудоумие в его текстах заметил (власть-то поистине народная), взял и обиделся на собственную кривую рожу в зеркале.
Вся история борений Платонова с режимом — как раз об этом. Сам он явно был уверен, что никакой подъебки в том, то он пишет, и нету (спервоначалу хотя бы). Просто у него матрица такая, перпендикулярная. Он так видит, иными словами. Ну и в этом второй наш урок — о пользе сотрудничества с властью. Пусть ты в нее даже веруешь, любишь ее как родную — ничего хорошего от нее со своими прекрасными идеями ты не дождешься. Потому-то желание Платонова «быть понятым своей страной» так и вымораживает сейчас, даже при чтении его первых рассказов, так и подташнивает от этой жажды признания разнообразной советской сволочью. И в этом-то его настоящая трагедия.
Нам-то сейчас, задним числом, легко видеть, что писал все это Платонов преимущественно для потомков и вечности.
Последний рок-н-ролльщик
Мемуары о Майке
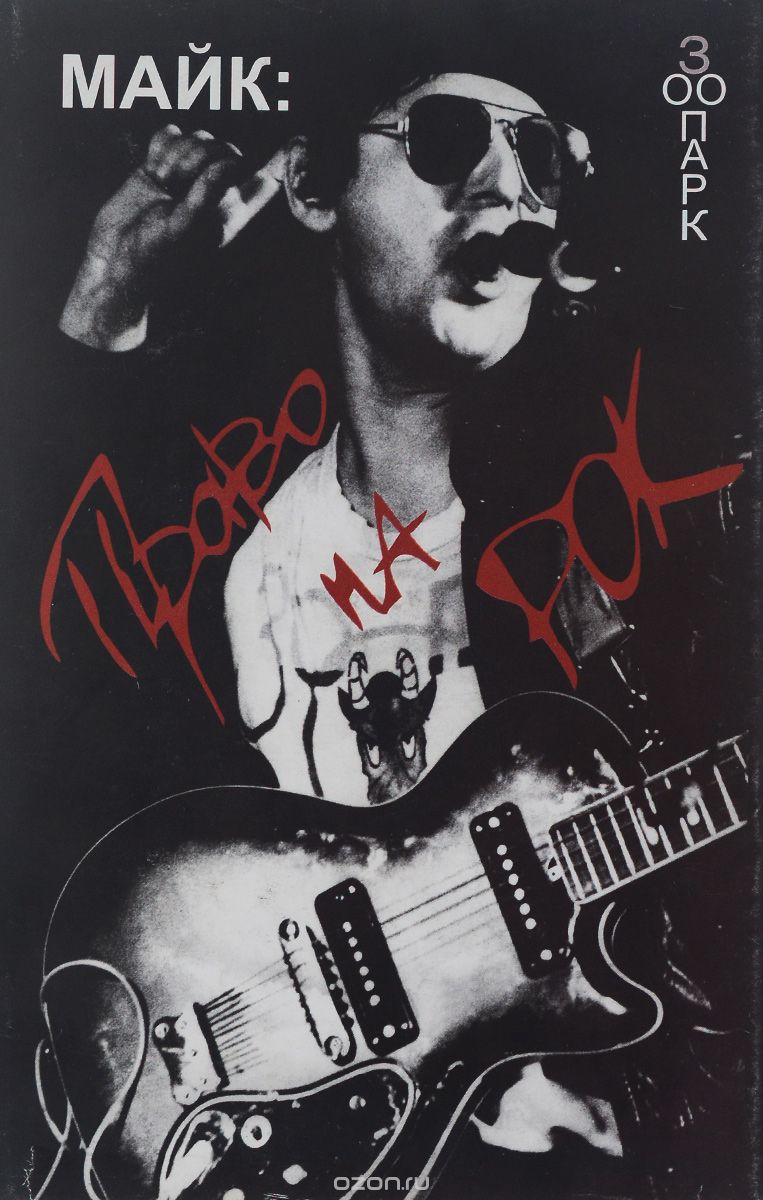
Майк был четкий.
Годы берут свое. Но на этот раз Майк был четкий.
— Это какой у тебя состав?
— Кроме барабанщика — первый.
— А по записям?
— Ну-так примерно третий. У нас, кроме барабанщика, все — с самого начала.
— Это за сколько ж лет, если с самого начала?
— С восемьдесят первого.
У них у всех оно было. У моторного барабанщика. У совершенного параноика Ильи Куликова — по сравнению с ним наш «Полковник» Некрасов [1] выглядит анемичным вьюношей, потеющим над своими учебниками по журналистике, забывая сходить в туалет. У гения гитарных соло Александра Храбунова, похожего на деревенского дурачка, однако, судя по всему, отлично знающего, куда по грифу бегут его пальцы. Ветераны, бля, рок-н-ролла. Все они были четкие.
— Майк, как ты думаешь, что сейчас происходит с рок-н-роллом?
— По-моему, так жив и здоров... Люди радуются, любят это дело. Рок-н-ролл как бы возрождается каждые несколько лет, а люди, которые его любили, — они всегда остаются. И появляются новые люди, которые именно рок-н-ролл любят.
Объяснить это трудно, но Майк был четкий. По-моему, впервые я осознал, что́ все это на самом деле значит, когда увидел кряжистого человечка с сальными седеющими волосами, в красной майке и чудовищных темных очках — зачем они ему, во имя всего святого? Он описывал руками уместные фигуры и под бой барабанов и гитар произносил со сцены свои обычные пустяковины о любви в большом городе и в нынешние времена. Иметь точку зрения простого человека в наши дни — крайне полезно. Он был четкий.
— Как ты себя сейчас чувствуешь наверху?
— Ну, не такой уж это и верх. Но чувствую нормально вполне. Сегодня — уже ничего. Большой неожиданностью было, что наш альбом — № 1, причем не по опросам, а по компьютерным сведениям ТАСС. Мы-так очень сильно удивились.
Внизу плавилась и горела оттяжная бладивостокская молодежь, ревела: «З! О! О! П! А! Р! К!» и «Рок давай!», а он на сцене почти не двигался. Казалось, ему совершенно нет до всего этого дела. Но после концерта я видел, как из его тишотки с надписью «Буги» выжимают ведра пота. Мне этого зрелища хватило. Он на самом деле был четкий.
— Как ты себя самого видишь в русском рок-н-ролле?
— В рок-н-ролле? Не знаю, мне как-то всегда было трудно себя определить... К какой-то категории себя причислять — пожалуй, это не мое дело даже. Кого-то другого. Ну, играем мы рок, рок-н-ролл играем, блюзы играем...
Потом, уже в разговоре, он подтвердил свою позицию. Его сдержанные ответы на мои идиотские вопросы, как это ни странно, убедили меня в его цельности больше, чем песни. Может, я и пытаюсь оправдаться сейчас (мне сказали, что мой провокационный подход его несколько обидел), но мне хватает тупости не ощущать честности в песнях «Зоопарка». Мне нужно что-то еще. И это Что-то я получил, когда отчаянно усталый Майк оставался четким.
— А рок у нас здоров или уже начинает пованивать?
— Ну, рок року рознь. Кое-какой здоров, кое-какой пованивал изначально. Есть хорошие группы, есть плохие — только и всего. А как таковой — я думаю, не так уж плох, собственно.

Я думал о русском роке. Он ведь асексуален до того, что это возведено в принцип. Они либо принимает себя слишком уж всерьез, либо озабочен чем-то поглубже. Либо уж настолько непроходимо туп, что не способен вслух ни о чем рассуждать. Исключения крайне редки. Рок-н-ролл «Зоопарка» — похоже, одно из них: группа расправляется с сексом с той же легкостью, что «Аквариум» — с дзэном и христианством.
Я держал заряженным свой пистолет —
Но, слава богу, не спустил курок…
Это из свежих примеров. Однако все это — лишь слова. Что в имени?.. Майк никогда не поигрывал мышцами, не вертел тазом перед микрофонной стойкой, не принимал маниакальных поз перед полумертвыми от восторга поклонницами. Ему всегда было некогда быть сексапильным. Он оставался четким.
— Когда ты поешь рок-н-ролл на русском языке, ты на что больше ориентируешься — на русский язык или на рок-н-ролл?
— ...Я думаю, что в идеале — это когда здоровый синтез происходит.
— Ты думаешь, у «Зоопарка» — здоровый синтез?
— Опять-таки, я говорю: не нам судить. Может быть, и нездоровый... А может быть, и больной. Со стороны оно слышнее.
Иногда клише ритм-энд-блюза и рок-н-ролльные стандарты казались немножко слишком уж очевидными. Я не о тех «пленочных временах», когда мы цитировали «Зоопарк» сплошняком, неимоверно радуясь, когда узнавали знакомые строки, звучавшие теперь по-русски. В 1983-м все это было еще в новинку. Сейчас же Майк иногда выглядел пародией на самого себя тогдашнего (особенно в номере «У тебя новый пудель», который есть не что иное, как «Новая коняшка» Дилана). Майк, скажи, куда ушли те времена… Четко, значит, да?
— А вот есть мнение, что, типа, «Зоопарк» с Майком продались там...
— Кому?
— Ну-у, «Мелодии», официозу...
— Во-первых, я могу честно сказать, что я пальцем о палец не ударил для того, чтобы эта пластинка вышла. Продаваться «Мелодии»? Так «Мелодия» вообще ничего не платит. Что же, все, у кого пластинки вышли, — взяли все и продались, что ли?
— Но говорят ведь, что нашему року лучше бы и не выходить из подполья...
— А почему? Конечно, лучше сидеть в подвале всю жизнь и играть там для трех своих знакомых — это лучше? Я думаю, что нет.
Но он так и не изменился. За восемь лет он не поменял в своих песнях ни одной ноты. По-своему он оставался честен, «нормально тверез». Не знаю, хороша такая последовательность или нет. Но на сей раз на сцене он был поистине четкий.

— ...Вот многие пришли и несколько разочарованы: вот, мол, тогда была легенда, «Зоопарк»...
— Когда сидели в говнище? Что ж, всю жизнь в говнище сидеть, что ли? Я не знаю, может быть, кому-то это нравится: подпольные вот такие художники, гении... там... А для чего это все появилось? Для того, чтоб играть для людей. Наконец мы получили возможность работать нормально...
Вероятно, единственный пример четкого отношения мне продемонстрировал Кот Соломенный из местной группы «Третья стража». На концерте в самый первый день, когда я еще не вполне врубался в происходящее, я увидел Кота — он стоял в танцующей толпе прямо перед Майком на сцене. Кот не прыгал. Не орал. И, само собой, не показывал «козу». На мой взгляд, то было идеальное взаимодействие артиста и слушателя: окаменевший Котик — и недвижимый Майк. Кот мне только и сказал: «Мне кайф». И все. Они оба были четкие.
— А как ты думаешь, чего они не получили? Вот они шли и чего-то от «Зоопарка» ждали. Чего не дождались?
— Это их нужно спросить.
— А ты как думаешь?
— А я не знаю!
…Майк швырял в ревущую и беснующуюся толпу свою старую классику — «Пригородный блюз» и «Ты дрянь». Даже под конец тура, когда потные бладивостокские обыватели торчали, как маленькие штыри, а у ментов началась истерика, охрипший Майк оставался четким. Экзистенциальная злость его выплеснулась лишь однажды — на «Праве на рок». И только…
— Ты не видишь противоречий каких-то идеалов рока с нашей зачаточной системой шоу-бизнеса?
— Рок-н-ролл изначально всегда был шоу-бизнесом — частью шоу-бизнеса.
— А отечественный рок?
— А у нас нет шоу-бизнеса в нашем отечестве.
Быть может, на этот раз в нашем богом забытом городе мы видели самого последнего живого рок-н-ролльщика.
Пусть себе поет в мире.
Пусть поет, что хочет.
Он свое право на рок заслужил.
Почти.
— Что ты будешь играть дальше?
— Те песни, которые будут написаны.
От автора. Этот материал, опубликованный "Букником", был изначально написан на английском языке и опубликован в пятом номере самиздатского журнала =ДВР= в 1988 году (тираж 7 экз.). Интервью, существенные выдержки из которого вошли в текст на русском, было взято у Майка Науменко во время гастролей группы «Зоопарк» во Владивостоке 1 июля 1988 г. Вопросы мы задавали дебильные и наглые — играли в гонзо, в контркультуру, во что мы тогда только ни играли, — но Майк был терпелив и снисходителен. А потом стало ясно, что по-английски сказать какие-то вещи о Майке — проще. Этого требовала сама парадигма, отсюда и подзаголовок "Экзерсисы в мейнстриме". Сейчас я смотрю на этот текст, переложенный на русский, и мне странно. Прошло почти 30 лет, а сейчас о «Зоопарке» я бы написал примерно так же. Видимо, дело во мне.
В 1990 году материал «The Last Rock’n’Roller» (подписанный псевдонимом Yermalafid) был перепечатан итальянским фанзином «Tommy» (куда его передал известный музыкальный критик Артем Липатов) и, говорят, еще где-то в Штатах. Мы даже шутили тогда, что надо весь журнал делать на английском — тогда у него будут читатели, а у нас — видимо, деньги и слава.
Додо новых встреч!
Наш августовский праздничный концерт
В эти дни мы отмечаем целых два праздника, а потому наш концерт будет состоять из двух отделений, и первое посвящено нам.
Надо думать, это самый известный поющий додо в мировой литературе… культуре… везде.
Но не единственный. Вот додо, поющий за завтраком.
А это додо, играющий джаз.
А здесь целый квартет додо поет песню о додо.
Песни о додо, как мы заметили, поют все — и дети…
…и взрослые.
Додо воспевают…
…и немножко запрещают.
Но главным образом воспевают, конечно.
Как вот здесь. А мы переходим ко второму отделению — оно посвящено человеку, который тоже родился в августе:
Грустно, правда, то, что Хэнк уже умер, но и смерть его стала темой как минимум одной литературной песни:
Ее исполняет коллектив, назвавшийся именем персонажа совсем другого романа — «Убить пересмешника» Харпер Ли.
А начитанный человек по имени Вишал положил на музыку одно его стихотворение.
В общем, просто — «Буковски», как спела литературная группа «Скромная мышь», о которой мы уже говорили в наших предыдущих концертах. А вот этот же прекрасный коллектив называл себя в честь одного из самых известных его сборников — «Музыка горячей воды»:
Да, как вы заметили, по традиции мы завершили наш сегодняшний литературный дивертисмент околокнижной песенкой — о бумаге. Ну, примерно. Это чтоб вы не забыли, как читать настоящие книжки, добыть которые можно у нас. Бумага — дело, как известно, конечно, тонкое, но вы не поверите, сколько прочтений она может выдержать. Додо новых встреч!
Из-под контроля
«Вселенная за пределом догмы», Леонид Геллер

Характерной чертой советской
космогонии является ее оптимизм.
— О. Ю. Шмидт
Меня еще в школе хороший преподаватель научил: вся литература делится на жизнеподобную и нежизнеподобную. Вторая — интереснее, и мы ее поэтому чаще и больше любим. Вот и все, что нам, по сути, нужно знать о литературе. А все остальное — жанры там, роды и виды — это наносное.
Так вот, чтобы сразу было понятно: это весьма обстоятельный очерк русской и советской литературы под тем ее углом, который «нежизнеподобен». Познавательный и с точки зрения подбора материала, и с точки зрения его интерпретации, потому что автор — хороший литературовед в исконном смысле этого слова: он ведает литературу, а не заведует ей. Его обзор заканчивается началом 1980-х годов (книга вышла в 1985-м), и заграничное он не трогает вообще. Вот это действительно жаль.
Зато он превосходно разбирает некоторые произведения советского «мэйнстрима» — собственно, одна из целей его работы в том и состоит: не вычленять сколь угодно «научную» фантастику из «основного потока», а показать ее в контексте (потому что для него такое вычленение одних текстов из других явно тоже дело не главное, а довольно искусственное упражнение). И одно из самых интересных мест в книге — это где Геллер разбирает мнимое, как он считает, сходство религиозного «канона» и «канона» социалистического реализма — через историзм и отношение к прошлому и будущему, и этот заход он делает, понятно, из НФ. Причем делает он его так, что мне бы очень интересно было почитать, что он думает насчет некоторых романов Томаса Пинчона. И заметил бы он сходство своих «слабых» недокоммунистов с претеритами-недоходягами? Потому что для меня, например, оно очевидно, что, конечно, подрывает «мнимость» сходства этих двух сортов литературы.
При этом Геллер затрагивает и психологию, и социологию чтения, среди прочего. Вот пример (стр. 200):
…К сожалению, в этом смысле жизни людей в советской стране похожи одна на другую. Вернее, все одинаково прошли великую школу судить, не зная, и принимать упрощения за истины; индивидуальность же проявляется в том, насколько заучен был преподанный урок.
Если интересно, говорит он это, анализируя «До свиданья, мальчики» Бориса Балтера, но вам ничего это не напоминает из нашей сегодняшней окололитературной жизни?
А самые занимательные откровения ждут нас в области языка и стиля. При чтении Геллера становится понятно, что в нынешнем «господствующем стандартном диалекте» мы наблюдаем возврат (хотя возврат ли? похоже, оно никуда и не уходило) к советской шаблонной речи, оживающей в журналистике (не обязательно «глянцевой»), в жаргоне психотерапевтов, маркетологов и СММщиков. Вот в этой всей штампованной хуйне «торговцев воздухом» происходит подмена живой речи, и Геллер тридцать с лишним лет назад обратил на это внимание. Зачем и как это делалось тогда, он как раз и объясняет, а мы не можем не отметить поразительного сходства с тем, что происходит вокруг сейчас.
Потому что советский шаблон, в котором лежат и корни пресловутой «гладкописи» «советской переводческой школы», обслуживал идеологическую реальность. Продолжает обсуживать ее и сейчас — о ней нынешней можно много чего сказать, почитав те же глянцевые журналы, призванные быть «понятными народу», заглянув в «дискуссии о переводе», инициируемые в соцсетях и тех же глянцевых (хоть и сетевых) изданиях нашими новыми белинскими, о том же самом «народе» пекущимися. Там видно, насколько реально и успешно, а не воображаемо, до сих пор работает репрессивный механизм подавления сознания.
В этом месте вы будете вправе меня упрекнуть, с какой это стати от советских фантастов я перетек к нынешним переводчикам. Попробую пояснить, почему и как у меня это сомкнулось при чтении книги Геллера.
НФ в этой стране традиционно считалась неким полусакральным, полуподпольным родом литературы, где вроде как можно затрагивать такие темы и проблемы, о которых молчат железобетонные совписы (и я даже не про «эзопов язык» — тут эзопов весь род литературы). Фантасты всю дорогу занимались контрабандой мысли, но даже по ним прошелся своей железной пятой диктат системы, причем, не (только) на сюжетах, темах и проблематике — здесь примером может служить Иван Ефремов, автор, идейно и идеологически далеко ушедший за пределы догмы, но кооптированный в систему лишь потому, что исключительно хорошо маскировался. Нет, более непосредственную и ощутимую угрозу для догмы представляет сама форма — стиль, язык; они заметнее, а потому опаснее (и недаром у Геллера не раз поминается Юрий Олеша — в частности, как олицетворение «пользы» сотрудничества с системой). В мыслях-то еще нужно разбираться, а непривычный синтаксис или непонятные слова — вот они, на странице.
А контрабандой формы до сих пор в нашей — не менее идеологической — реальности (подозреваю, в России просто не может быть другой; она не логоцентрична, как нас уверяли раньше, она идеологична) занимаются именно переводчики. Это они открывают форточки в окружающий мир для не владеющего языками большинства, это они проветривают затхлое литературное помещение, где смердит догмой. Поэтому реакция тех, кто по зову, что называется, сердца насаждает в головах «широкого читателя» духовную нищету, вполне предсказуема — и корнями своими уходит известно к кому — к самому вдумчивому читателю в советской истории, если не дальше. Я даже не об оголтелой цензуре здесь (которая с традиционно холопским рвением поддерживается здесь некоторыми издателями), а о вроде бы «независимых» «властителях дум», которые ныне называются вроде бы «тренд-сеттерами» и «топик-стартерами», — о критиках, обозревателях и солирующих представителях «широкого читателя», которые от говноштормов… пардон, дискуссий… о переводе плавно переходят к ним же о фантастике.
Вот Геллер цитирует Ленина (по Кларе Цеткин, поэтому все вопросы к ней, пожалуйста; стр. 209):
Должны ли мы небольшому меньшинству подносить сладкие утонченные бисквиты, тогда как рабочие и крестьянские массы нуждаются в черном хлебе… Это относится также к области искусства и культуры.
Дальше Геллер комментирует уже от себя:
Установка дана с первых дней новой власти: поднимать массы до утонченной культуры не стоит, им достаточно и «черного хлеба», «общепонятной» продукции…
Неслучайное слово здесь — «общепонятной». Спрашивается, далеко ли на втором десятке лет нового тысячелетия ушли от Богданова — родоначальника пролеткульта — и примазавшегося к нему Горького нынешние «литерати», призывающие к бойкоту (если не уничтожению) еще не вышедших книжек исключительно на основании того, что лично они в них чего-то «не поняли»? Дальше Геллер показывает, как это делалось в те неблагословенные времена — «сличайте, сличайте», как кричал много лет назад с эстрады известный комический дуэт:
Неожиданные метафоры, сравнения, эллиптическая речь, «неестественная» усложненность композиции, остранение — все это разрушает привычные заученные связи между предметами, явлениями, раскалывает цельную глыбу действительности, данную объективными законами природы [и выраженную в штампах]. Поэтому обвинение в «формализме» долгое время приравнивалось к обвинению в «идеализме» и звучало как смертный приговор. Поэтому все формальные новшества, все отклонения от штампа подлежат выжиганию каленым железом… Поэтому обрублена одна из богатейших ветвей русской литературы — сказ, поэтому униформизация тропов — самая характерная черта соцреалистической прозы (стр. 210).
Видите, ни слова об идеях или содержании. Зачистка начинается с того, что сильнее торчит. Нет, я не верю, конечно, что переводчиков будут сажать за превратно понимаемый «буквализм» по доносу литературных критиков (хотя сажали же читателей фантастики за чтение — как раз примерно в то время, когда Геллер писал свою книгу; странно, кстати, что об этом не упоминает). Но призывы «вон из профессии» или «запретите им переводить» уже звучат во весь, как говорится, голос, так что как знать — может, ждать шагов в коридоре в четыре утра контрабандистам формы уже и недолго.
Поэтому лично для меня один из уроков этого учебника литературы в том, что цементная посредственность соцреализма — в головах, а не в партбилете. «Простой народ Ирландии» по-прежнему до крайности незамысловат, а русский «широкий читатель» все так же широк, и ничем его не сузить. Оттого у этого текста и эпиграф соответствующий.
Наш маленький Пинчон
«Калейдоскоп: расходные материалы», Сергей Кузнецов
Милый дедушка Константин Макарович, во первых строках своего письма хочу сообщить, что ужасы и сложности чтения этой книжки сильно преувеличены людьми, до сих пор складывающими из букв ж, о, п, и а слово «хве-и-ле-и-пе-ок», поэтому об этом мы больше не будем. Пусть их. Это типично. Роман не для них, хотя и про них, в том числе.
Кузнецов совершил свой амбициозный и дерзкий заход на роман всемирных пропорций — роман синкретический, энциклопедический, универсальный, криптоисторический, в жанре того самого «истерического реализма», о котором нам так долго рассказывали исследователи постмодернизма. Разница между ним и нами в том, что мы можем издали любоваться и восхищаться такими текстами, даже изучать (те, кто более стоек духом) подобные работы Джойса, Пинчона, Гэддиса, Уоллеса или Соррентино, а Кузнецов честно попытался «сделать его дома».
Заход, надо понимать, не первый — сначала была трилогия «Девяностые: сказка», но там масштаб был ограничен психовременем, потом — «Хоровод воды», но там хоровод водился скорее вокруг метафизической территории. Поначалу (первые страниц 100) кажется, что в «Калейдоскопе» недостает толики авторского безумия — того неизрекаемого свойства, при наличии которого отрываешься от страницы и раскрываешь рот: бля-а, ну как, как он это сделал? Но это, становится ясно дальше, — наведенная иллюзия, дым и зеркала, свойственные любой настоящей литературе. Если не неизрекаемого, то уж, по крайней мере, неизреченного в «Калейдоскопе» навалом.
Потому что, среди прочего, автор бросает на историю вполне виконианский взгляд (не очень свойственный «великой русской литературе»). История у него не только спираль, но и фрактал, тот самый «калейдоскоп» в названии (а «расходные материалы» — намек на то, что «эта музыка может быть вечной», надо лишь периодически менять батарейки). Калейдоскоп этот вроде бы бессмыслен на обывательский взгляд, жесток и безразличен — он сложен из блестящих прозрачных cut-out-ов, по сути — симулякров (так, кажется, это называется), редко позволяющих читателю в себе раствориться. Но тем самым нам показывают вполне честный фейерверк, особо не скрывая, что драконы из шутих — не очень настоящие (в романе присутствует не одна самоссылка и даже пара рекурсивных определений стиля: хитрый автор прикрывает все базы). Хотя башку оторвать все же могут запросто.
Кузнецов вынимает из головы не пресловутый хрустальный шар, а диско-болл, оклеенный зеркальными блестками — в них отражается произвольное количество историй, фигур, сюжетов и реалий. В том числе — заимствованных (в диапазоне от прямого цитирования до творческого переосмысления). Получается эдакий мягкий извод литературного (не путать с философским) постмодернизма с человеческим лицом. Роман Пинчона, наложенный на структуру «Игры в классики». С персонажами, остающимися проекциями самого автора и его (немалого) житейского, читательского, кинозрительского и прочего опыта.
А от самой истории при таких спецэффектах натурально только блики по стенам, тени да разноцветные пятна от движущихся витражей, и только мы сами вольны сложить их в понятную нам картинку, линейный сюжет, некий текст, который по необходимости будет уникален, потому что похожих текстов истории не бывает. И другой истории, кроме той, что у нас в голове, тоже нет. Тот уникальный срез, который предлагает нам дешифровать Кузнецов, может быть не исчерпывающ и не всеохватен, но никто и не обещал «всеобщей теории всего». А те, кто станет претендовать на такой универсализм, все равно вам наврут.
В общем, это очень щедрый роман, и я благодарен автору за такой удивительный трип, занявший несколько вечеров. Вас он тоже ждет, если не поленитесь прочесть эти 800 с лишним страниц.
А для тех, кому не нравится название этого маленького текста, придется расшифровать аллюзию. Название навеяно музыкой — вот она, пусть тут будет, как «эпифания» в «Дублинцах»:
А здесь тоже будут призраки…
«Лето с чужими», Таити Ямада
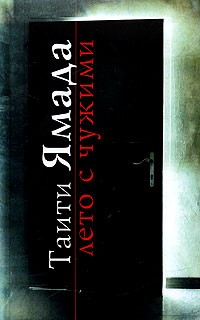
Жаркий август, вся Япония отправилась на каникулы по случаю родительского дня, но стареющему сценаристу Хидэо Харада — не до отдыха. Его терзают последствия развода и тишина пустого дома у шумной автотрассы, у него не ладится работа и не дают покоя интриганы-конкуренты… Но несколько загадочных встреч с чужими людьми, которые подозрительно напоминают давно погибших родителей, восстанавливают спокойствие духа. По крайней мере, так ему кажется тем странным летом…
Японские романы и фильмы соблазнили весь мир — это факт. Хотя в каждом главный герой — сама Япония, они мало что открывают западному взгляду и тем завлекают в свой мир, где сверхъестественное многократно вложено в реальность, будто набор лакированных шкатулок. Но реальная жизнь в наше время достаточно похожа — что в Калифорнии, что в Сибири, что в Токио. И книги Таити Ямады, как и его более известного коллеги и земляка Харуки Мураками, — прекрасные точки перехода от нынешнего жесткого реализма к потустороннему.
В первом романе Таити Ямады, вышедшем на русском языке, наверное, больше всего пугает удушающий цинизм современности. Где грань между подлинно сверхъестественным и глубоко личными призраками самого человека? Ведь главный герой книги — как и автор, довольно востребованный телесценарист средних лет, — даже не знает, какая нечисть его преследует: может быть, он ест и пьет с призраками, может быть, даже занимается с ними любовью…
Но в книге их гораздо больше, чем становится ясно в конце: призрачна не только его брошенная семья, не только фантомы, которых он выводит на страницах черновиков «по двести знаков на каждой», но сама его жизнь в многоквартирном доме рядом с автотрассой, где по ночам горят только три окна. Сегодняшние призраки сотворены нашими тайными страхами, намеренными заблуждениями и нечаянными маниями. Призраки Ямады — едва заметные помехи на телеэкранах современного общества, у которого непоправимо сбилась настройка.
Традиционные «сказки о призраках», как считают японцы, лучше всего рассказывать летом. Если вас от ужаса прошибает пот, в летнюю жару это не так заметно. Однако сейчас жуть модернизирована, и в дрожь нас бросает не только от скрипа дверей или всполохов молнии на башнях готического замка, но и от гула лифта и мигания лампы в пустом коридоре. Так добро пожаловать в современный кошмар многомиллионного города, где любая произвольно взятая душа по-прежнему инфернально одинока.
Жаркая жизнь
Наши горячие литературные новости
Пока мы все смотрели по сторонам, в мире произошло вот что.
Новости литературного кино:

У Памелы Трэверз послезавтра 117-летний юбилей (и у Туве Янссон тоже день рождения, кстати), и по этому поводу — наша первая новость. Студия «Дизни» подтвердила запуск продолжения кино о Мэри Поппинз (она возвращается). Саму поющую няньку сыграет Эмили Блант (раньше, напомним, это были Джули Эндрюз и Наталья Андрейченко). Но прикольнее всего, что в фильме также может сняться Мерил Стрип — в роли двоюродной сестры главной героини.

А Кирстен Данст намерена экранизировать «Под стеклянным колпаком» Силвии Плат. В главной роли, судя по всему, можно будет увидеть Дэкоту Фэннинг.

Брюс Миллер готовится снимать 10 серий «Рассказа служанки» по великому роману Маргарет Этвуд, которая сама выступил продюсером-консультантом. В главных ролях, судя по виду, будут заняты Макс Мингелла (Ник), Элизабет Мосс (Фредова) и Энн Дауд (тетя Лидия). Съемки начнутся в Торонто осенью, а сам сериал назначен к премьере в 2017 году.

Кроме того, Этвуд сочинила свой первый графический роман — вот такой. Первый том из трех выйдет этой осенью.
Мы не перестаем восхищаться этой женщиной. Графический роман, впрочем, сочиняет и другой уважаемый автор — Филип Пуллмен.

И еще немного о комиксах. Стильный Геннадий Тартаковский (если кому-то что-то говорит это имя), вписался к «Марвелу» делать вот эту красоту в четырех частях.

Еще немного мультимедии. Мэгги Джилленхал начитала… «Анну Каренину». Нам одним кажется, что это крайне уместно для актрисы, которая всерьез прославилась своей ролью в гениальной «Секретарше» Стивена Шайнберга? Читает Толстого она феерически, сами послушайте:
Теперь новости собственно книгоиздания:

Весной 2017 года «ХарперКоллинз» намерен опубликовать новый роман Майкла Крайтона «Драконьи зубы». Сам автор скончался в 2008 году, но это, как видим, не помешало известному литературному и кино-фантасту продолжать жить насыщенной творческой жизнью.

Энн Райс выпускает тринадцатую книжку о вампире Лестате — свою, в итоге, 36-ю. Ожидается в ноябре.
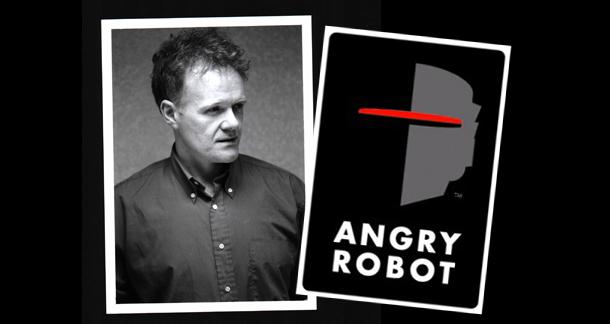
Ну и еще две книжки можно ждать от не менее великого Джеффа Нуна, который заключил договор с «Сердитым роботом».
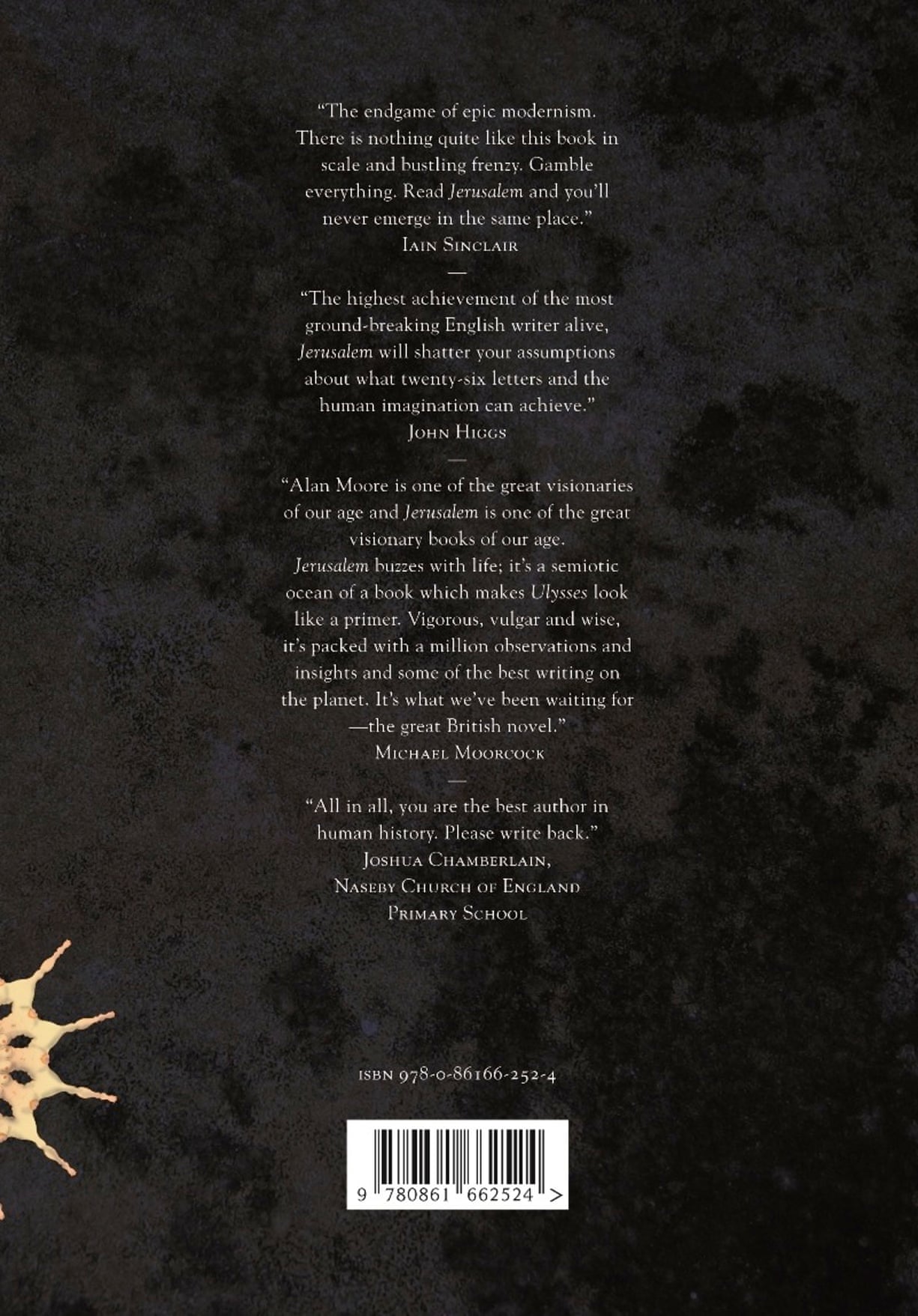
А это задняя страница обложки новейшего 1000-с-лишним-страничного романа непревзойденного Алана Мура "Иерусалим", который выходит вот уже совсем скоро, в сентябре, где воспроизведен блёрб 9-летнего мальчика, который некоторое время переписывался с автором. И это дорогого стоит — получать такие отзывы, поскольку литературные критики все равно ничего интересного не скажут и вообще выродились как каста.
На этом мы покончим с нашими горячими новостями и пойдем полежим с хорошей книжкой под вентилятором, слушая успокаивающий шелест страниц.
Нам подарили целый мир — и что нам с ним теперь делать?
«Барочный цикл», Нил Стивенсон
Чудесная — и очень длинная — фантазия о науке, религии, истории и политике. Вообще представлять развитие науки (да и чего бы то ни было — всю историю человеческой мысли) как деятельность тайного общества — она очень согревает, особенно если помнить, что не отдельными гениями-подвижниками наука двигалась, а клерками, гонцами, посланниками, от нода к ноду. Мысль такая, конечно, не нова — взять тот же «Криптономикон». И здесь Стивенсон тоже пытается создать в линейной развертке некий образ прото-интернета. «Барочный цикл» — либертарианский эпос о свободе мысли, сочлененный с авантюрным романом-пикареском (главным образом т.е., но экскурсы в другие жанры автор здесь тоже совершает), что постепенно перерастает в роман энциклопедический, криптоисторический, вполне пинчонианский.
Но есть разница. В мире, как его себе представляет Стивенсон, познаваемая система есть. Ее не может не быть — таковы его персонажи, таков этос натурфилософов. Оставаясь, в первую очередь, романтиком-гуманистом, Стивенсон верит в человеческий разум, он в широком смысле, я бы сказал, позитивист. Да и чего еще можно ждать от физического географа? Основное образование автора я упомянул недаром: для них, должно быть, вся окружающая реальность читается как карта — ну или должна. И, соответственно, все подлежит кодировке и нанесению на карту. В частности, «БЦ» — это вполне себе проекция Меркатора, где исторический период разворачивается так, что некоторые аспекты необходимо искажаются, что-то расширяется и привлекает больше внимания, что-то наоборот, уходит чуть ли не за край карты (и там будут чудовища). Некоторые, между прочим, считают, что это единственно верное представление об окружающем нас мире, какое и способна дать нам литература.
Вера персонажей в постижимость мира у Стивенсона поразительна — пусть хоть через сто лет, но все наладится, не раз говорят его ученые герои. Автор, конечно, отчасти лукавит, приписывая им такой модус мышления, ибо сам прекрасно знает, что случится потом и куда заведет пытливое человечество эта самая тяга даже не столько постигать, сколько стремиться исчерпывающе описать мироздание в понятных для себя терминах. То есть — по необходимости эту поначалу вполне умозрительную и сложную Систему Мира упрощать и подгонять под себя.
То есть, ко всему прочему, Стивенсон еще и совершает акт своеобразного шаманизма. Творит своего рода симорон: ретроспективное воссоздание современного научного, политического и экономического мышления и вообще мировоззрения, основанного на здравом смысле. Словно хочет нам показать: предки мало чем отличались от нас нынешних, рациональных людей, только парики разве что носили. Все это делается с немалым хитрым прищуром и ухмылкой в милю шириной, не стоит этого забывать: сочиняя свой неохватный роман-фельетон, он, надо думать, немало развлекался.
Серьезен он только разве что в финансовых вопросах: деньги — вот на чем держится его мир. Или не держится, потому что описывает он как раз тот рубеж, на котором они перестали быть реальными. Под конец романа ценность их окончательно — и вполне зримо — смещается в сторону напечатленной на них информации, чем окончательно закрепляется переход к основам современной финансовой системы (которая одновременно служит и для обозначения этой самой, не вполне Ньютоновой Системы Мира). Но вот это уже пускай изучают экономисты, пожалуйста.
Уже на середине «Барочного цикла» становится ясно, что это не командировка — это странствие. Иными словами, становится не важно, к чему приедешь (и приедешь ли), главное — ехать. Перестает иметь значение даже какую историю тебе расскажут. В общем даже не очень важно, как (хотя Стивенсон делает это хорошо и неизменно лихо). По сути, как и «Криптономикон», это тоже сериал, череда эпизодов, историй, сюжетов, вполне линейно нанизываемых друг на друга. В данном случае линейность авторского мышления — отнюдь не недостаток, на этом искони строились бульварные романы, пикарески и фельетоны, печатаемые отдельными выпусками с продолжением. Роман-сериал вовсе не новая форма развлечения, их авторы (любой перечень, в который непременно войдет Дюма) всегда были умелыми аналоговыми шоураннерами. И да, каждый в своем мире был господом богом. Это телевидение потом переняло формат.
Даже последний том эпоса не разочаровывает тех, кто до него добирается. Потому что вся трилогия (октология? хотя на самом деле романов в ней больше, чем обозначено на титуле) — прекрасный образец географии воображения, где можно затеряться очень надолго (я вот — на несколько месяцев с перерывами, потому что см. выше — романов, которые можно охватить умом за раз, там больше, чем титульных частей). Одна из задач… нет, не то слово — один из признаков по-настоящему хорошей литературы — в частности, приключенческой — дать читателю возможность пресловутого побега, но не в смысле эскапистского «от реальности» (окружающее сейчас не располагает к любви, это правда, но у меня, конкретного читателя, все хорошо, спасибо что уточнили). Я имею в виду побег как путешествие на машине времени/пространства, возможность побывать в тех местах и эпохах, где нас не было и мы б не могли оказаться. Такова может быть творческая сила хорошего писателя, это азбучная истина, вообще-то. Она позволяет нам поселиться в этих местах и временах, обосноваться, присвоить эти миры. Щедрый Стивенсон своей трилогией (ок, ок) дарит нам почти полмира и почти полвека — в полное наше владение и удовольствие.
Имя, сестра, имя
Наш литературный концерт о чудесах именования
Мы не забыли об этой теме, мы просто отвлеклись. Унесло нас, можно сказать, по волнам известно чего:
Переслушайте на досуге, это по-прежнему очень хорошая литературная антология. А мы продолжим рассказывать о некоторых не самых очевидных именах. Например, «Скромная мышь»:
…назвалась в честь первого опубликованного рассказа Вирджинии Вулф (1921 год). Вот этого:
Или вот «Опет» — примерно так назывался вымышленный финикийский город в любимом романе Уилбёра Смита «Птица Солнца» (1972):
Или вот эти девчонки:
— прямиком из «Чарли и шоколадной фабрики» Роальда Дала:
А классический сборник Уолта Уитмена дал название сразу двум творческим коллективам:
Первым был владивостокский состав саксофониста Юрия Логачева:
А потом появились казанские «Листья травы» — без китайской философии, зато с блюзом:
Кстати, о дальневосточной музыке — название коллектива, нанесшего Владивосток на карту мира (в который уже раз), тоже известно каким путем получено:
«Орикс и Коростель» назвались в честь известного романа Маргарет Этвуд:
Прекрасный коллектив «Цыганская рожь» свое название взял у полуавтобиографического романа английского писателя Джорджа Борроу (1857):
Про коллектив Марка Смита мы уже упоминали, поскольку он один из самых начитанных в рок-н-ролле, но тут было бы неплохо упомянуть, что и назвались они в честь романа Альбера Камю:
Ну и Моби — конечно же, псевдоним себе Ричард Мелвилл Холл взял в честь Дика, с таким-то именем:
Потомок или родственник он писателю, при этом остается вопросом открытым. А закончим мы, по традиции, общелитературной песенкой — точнее, в данном случае, узкограмматической. А еще точнее — пунктуационной, единственной известной нам, воспевающей особую постановку запятой:
К неочевидным именам, классикам и знакам препинания мы вернемся через месяц, а пока — не забывайте читать. Ваш Голос Омара.
Век расцвета одной книги
"Алмазный век", Нил Стивенсон
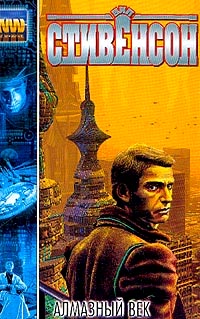
«Алмазный век» я читал, когда он только вышел, и ни о каких переводах на русский речи еще не было, но не помню, чтобы что-то запомнил про эту книжку — ну, т.е., она конечно смутно поразила воображение, но контекст, как я сейчас понимаю, был не тот. Потому что читалась она как «научная фантастика», а проходить в голове ей лучше совсем не по этой категории. Сейчас понятно, что за минувшие 20 лет вся эта прогностика слущилась — осталась псевдоанглийская литературная сказка, и на таких условиях роман и стоит воспринимать, мне кажется. В тот момент, когда литература подпадает под жанровый ярлык «фантастики», она успешно устаревает, о каком бы периоде предполагаемой истории ни шла речь. Ну, т.е. если литература в этой работе действительно присутствует. Тут как раз этот случай. «Алмазный век» имеет больше смысла читать, когда это уже не фантастика.
Хотя, конечно, в смысле литературы роман Стивенсона — не без недостатков, конечно. Иногда он тороплив и пунктирен, автор явно спешит донести до читателя все свои придумки про нанотехнологии, медиа-гаджеты и те или иные разновидности интернетов и распределенных биологических вычислительных систем, — в ущерб сюжету, который местами питается из обстоятельных нарративов Дикенза или кого ни возьми. Конец у него тоже скомкан и намеренно, я подозреваю, мета-ироничен. Сам по себе, конечно, это роман взросления и становления, а также освобождения и отчасти — того, что за неимением нормальных русских слов можно назвать «woman empowerment» (юная героиня — вообще благодатный элемент, как мы знаем от Льюиса Кэрролла). В общем, образцы для подражания у Стивенсона тут были что надо. И литературная фантазия у него вполне получилась.
В первую очередь — потому, что происходит действие на обломках национальных государств, и даже в смысле прогнозов это одна из самых красивых идей Стивенсона. «Филы» представляют собой культурно-архетипические анклавы, в которые можно вступить более-менее без национальной аффилиации, лишь дав клятву верности некой умозрительной идее, подписавшись на определенные стиль жизни и мировосприятие. (Только жаль, конечно, что нам не показали ниппонцев или индустанцев.) В общем, «филы», как нам сообщает их название, — это по любви, в немалой степени — по любви к литературе: викторианской, китайской, другим. Не вполне, конечно, рай библиофила, но недаром «букварь» там все-таки имеет форму книги, хоть и вполне себе «макгаффин». Каким были, например, «Маленькая красная книжечка» Мао или «Манифест коммунистической партии». Книга как сакральный объект — вообще понятие спорное, потому что ее содержимому лучше оставаться в голове, а не на руках.
Разбирать «Алмазный век» на составляющие литературной сказки (не обязательно, кстати, английской, викторианство там — просто могучий фетиш, хоть нам и нравится) можно долго и наверняка уже делалось не раз. Отметить стоит только одну черту родства: в этом «ином мире, где повсюду волшебство», роль магии выполняет криптография — некая мистическая сила, которой примерно все покоряется, но постичь ее простым смертным героям невозможно. Довольно забавно, с одной стороны, но ведь правда — нас всегда будет влечь к себе тайна. И мы всегда будем стремиться так или иначе повышать степени своей свободы.
Против лакировки истории
"Дом кукол", Ка-Цетник

Второй роман Ка-Цетника — чтение занимательное и вполне мучительное, это правда, хотя все это не настолько болезненно, как выглядит в пересказе читателей. Мучительно не потому, что о евреях в концлагере и Холокосте, а потому что, ну, в общем, это роман, в котором художественный вымысел в какой-то момент (а то и с самого начала) начал выдаваться за документальную правду. Ка-Цетник тем самым вошел (довольно рано в истории ХХ века) в эту странную плеяду авторов, кто врал о войне и Холокосте из, видимо, лучших побуждений: Ежи Косинский, Анна Франк (не сама, конечно, а ее папа), Миша Дефонсека и пр. Нам теперь не понять, как избывать эту боль и эту травму, — они, видимо, пробовали так, и нам их судить. Но воздействие странное.
На именно этот роман навешано культурного багажа — «лагерная» (или «холокостовая») порнуха, Joy Division, фильмы про Ильзу Волчицу СС и прочий палп и китч. Но анализировать особенности полового воспитания подростков на основе мастурбационных фантазий о концлагерях в наши задачи не входит.
А роман, меж тем, весьма традиционный, хорошо написанный и даже не слишком натуралистичный. Ощущение жуткого морока, серой зоны, из которой навеки зачарованный и травмированный ею автор никак не может выбраться, тем не менее, присутствует. Это как читать литературу шизофреников — и стыдно, будто подглядываешь, и никак не оторваться. Отсутствие каких бы то ни было нравственных координат и безопасности развращает — а автор находится в самой сердцевине этого кошмара и ни на шаг не выходит из него. И в этом, насколько я понимаю, одна из проблем восприятия этого (и прочих) текста.
И, конечно, автор этим своим видением никак не вписывается в санкционированную и санированную псевдоисторическую реальность. Он упоминает и юденраты, и кехиллу, и грайферов — все, о чем даже еврейские историки Холокоста вспоминать не очень любят, потому что оно выходит за рамки привычной позиции чистых жертв и переходит в категории общечеловеческого зла и человеческой подлости. Национальность здесь роли не играет.
Поминальный каддиш — вот основная стилистическая черта текста. Плач — вообще очень заразная интонация, и сила его нарастает, если использовать приемы экспрессионизма и смешивать реальность и ирреальность. В общем, мне понятно, почему мало кто стремится переиздавать романы Ка-Цетника: слишком уж неприятная это для системы тема и угол зрения на нее. Но только такие книги и нужны для освежения исторической памяти. Только не стоит выдавать их за документальные.
С русском переводом история странная. В середине 70-х роман перевел видный сионист, метростроевец и диссидент Израиль Минц. Перевел, подчеркну, для самиздата, потому что ни шанса опубликовать это в советской печати у него не было. И перевел из лучших побуждений — чтобы евреи не забывали своей истории, а прочие хоть что-то о ней узнали. Самиздат, да? Неподцензурная вроде бы тема. И однако тот текст, что вроде был опубликован потом уже в Израиле и распространился в сети из некой «Библиотеки Даниэля Амарилиса» (вроде был такой книголюб в Тель-Авиве, который опять же из лучших побуждений пиратски — я подозреваю — публиковал какие-то тексты на русском языке; точнее выяснить мне пока ничего не удалось, поэтому буду благодарен за поправки)… так вот, этот текст сокращен практически на четверть, если не на треть, и весь натурализм из него исправно вычеркнут. Не то чтоб его там было сильно много. Ну а порнографии в романе нет и вовсе никакой, ясное дело.
Непонятно, в общем, что это было. То ли первый в отдел в голове советского человека там силен, то ли книга претерпела и в мирное время примерно то же, что творили с ее персонажами в военное. В остальном текст вполне гладкий, только вот читать эту версию, по-моему, не стоит. Это не тот роман, который написал Ка-Цетник.
Одинокий голос человека
"Поэзия и перевод", Ефим Эткинд

Книжка — моя ровесница, но, вы удивитесь, полезна до сих пор, потому что написана она более вменяемым человеком, чем наш предыдущий оратор. Полезна она, в первую очередь, конечно, прикладным стиховедением и подробными разборами конкретных образцов, но также — и некоторыми нетехническими уроками.
Позиция Эткинда симпатична несколькими своими положениями. Во-первых, конечно, переводчики у него — против текста, а не против автора или друг друга: т.е. процесс — в первую очередь противоборство с текстом, хотя иной раз его и сносит в рабоче-крестьянскую риторику.
Второй прекрасный и важный тезис: перевод поэзии — приращение смыслов в первую очередь (ну или вычитание, но о грустном не будем; хотя у Эткинда и про вычитание обстоятельно есть). О судьбе лирического высказывания в веках и на языках можно писать трактаты и детективы (приключения строки, например). Проза в этом смысле несколько беднее, но не намного, как нам показывает наша разнообразная практика. Но вывод о невозможности — и, главное, ненужности — «абсолютного перевода» — он очень важный и вполне нам близкий. Больше полувека назад, между прочим, написано, а помнят о нем, похоже, немногие.
Ну и, конечно же, «чтение как работа» — в этом Эткинд ссылается на еще более ранние работы Асмуса.
Отдельное развлечение — страницы его полемики с Кашкиным, который призывал, как мы знаем, «прорываться сквозь текст» к «непосредственному авторскому восприятию», переводить «затекст» и прочую невнятную поебень. Эткинд верно замечает, что сделать это даже, что называется, in good faith, невозможно. Понятно, что для этого переводчику необходимо не перевоплотиться, а самому неким мистическим образом стать «Хайне, Гёте и Золя». Но — и масштаб личности не тот, не говоря о биологии, генетике и любимых тем же Кашкиным «классовых различиях». Да и знаний не хватит. Ну и вообще абсурд. Получается, что на ниве перевода продолжается война «школы Станиславского» с «методом Чехова», по которой все же перевод играется в действительности. Убежденность Кашкина в том, что передовой советский переводчик способен изменить своему «классовому чутью» и стать кем угодно (а не просто в него перевоплотиться) нелепа и смехотворна. Здесь и залегают корни всех этих пресловутых «сырников».
Теоретические позиции Кашкина Эткинд прямо называет «ложными» и иллюстрирует наглядными примерами передержек и искажений в кашкинских разборах переводов. Хотя и он пресловутый «буквализм» толкует несколько превратно в духе времени, а издательство «Академия» 1930-х годов прямо-таки недолюбливает. Но до истерических доносов все ж не опускается (говорю же — приличный человек). Однако упрощенчество Маршака и небрежности Пастернака все равно оправдывает презабавно: к примеру, Шекспир, дескать, «темен» был, а Маршак их сделал «светлыми» для советского читателя. И в этом еще один — странный — урок этой книжки: при желании оправдать можно все, что угодно. Перевод — не математика, еще бы.
За черт-те чем
"За чертополохом", Петр Краснов

Удивительный артефакт антисоветской литературы пера талантливого и писучего казачьего генерала (кстати, как ему удалось столько написать-то? начинаешь подозревать неладное). Начинается как злая антиутопия-памфлет, вышибающая все основы из-под ног: демократический тоталитарный режим, в Европе победили социалисты и даже коммунисты, поэтому, в общем, неудивительно, что режим этот списан с раннего совка, каким его представляли в пролеткультовских брошюрах. Сбивает с толку слово «демократия», в которой Краснов в 1921 году, натурально, ничего не понимал. Начало вполне ядовито, потому что наш автор — все сразу, в т.ч. антисемит, хотя работает преимущественно с мифами и стереотипами, что придает и этой части, и следующей оттенок пародийности.
Потом, уже «за чертополохом», начинается натуральная лубочная утопия. В ее традиционном русском изводе теократического самодержавия. Зубы сводит, настолько она у него сусальная, леденцовая и паточная. Оголтелые скрепы — если б у нас были данные, что нынешний кремлевский режим умеет читать, легко было бы думать, что все свои программы «духовного развития» и патриотизма они списали у коллаборациониста Краснова. Хотя тот, сука, был хотя бы талантлив, писал вполне бойко и красочно (дроча на детали, еду и одежду), знал много разных интересных слов (кокошники на высокой груди у него никто не поправляет) и явно был честно убежден в превосходстве самодержавия и православия (в его пуританском, я бы сказал, изводе — с подвижничеством, служением и нестяжательством), в отличие от этой нынешней сволочи. От него — прямая дорожка к Сорокину.
Третья часть — куртуазный мещанский роман с нотками унылой достоевщины (муки Раскольникова и прочая лабуда), это уже не так интересно, хотя местами и трогательно. Ну и как «фантастик» он вполне зажигал для своего времени и образования (в диапазоне от крылатых паровозов до элемента водия и видеотелефонов).
В общем, я получил свою долю умеренного удовольствия от романа — и Краснов вполне мог бы стать и более легитимной фигурой в русской популярно-массовой литературе, если б не трагическая судьба коллаборациониста (и предательство англичан, конечно). А то в учебниках у нас, я полагаю, до сих пор фигурируют авторы значительно бездарнее, про нынешних не говоря.
Время творить книги
«Вольное время. Воспоминания о Гренич-Виллидж 60-х», Сьюзан Ротоло
Стареть можно по-разному — красиво и не очень. Некоторым — особенно женщинам — это удается потрясающе. Особенно тем, кто долго был на виду у публики ХХ века: взять Марианну Фэйтфулл (баронессу Захер-Мазох), Патти Смит или Джони Митчелл. Некоторым — не вполне (Кэролин Кэссади, например, это удалось не очень). Не спешите пинать рецензента — вульгарных гендерных исследований не будет. Просто кажется, что к женщинам время беспощаднее. Но в любом случае обязательным номером программы старения звезд и знаменитостей рано или поздно становится написание мемуаров.
В прошлом году вышла книга, которую любители рок-музыки ждали едва ли не сильнее второго пришествия Элвиса. Почти полвека молчала Сюзи Ротоло — первая муза Боба Дилана. И вот — «Вольное время. Воспоминания о Гренич-Виллидж 60-х». Писатели «блёрбов» убивались об стену: «Пожиратели Дилана истекут слюной…» «Диланологам с богатейшим воображением и не приснится…» Как же — девушка с обложки «Вольного Боба Дилана», второго студийного альбома, который и принес славу легенде рока ХХ века, — раскрыла рот. Сейчас-то мы всё и узнаем: чем жил, что курил, каков в постели…
Обломись, читатель чужих дневников. Много интимных подробностей ты узнал от самого поэта, когда вышел первый том его «Хроник»? То-то же.

Итак, чем знаменита «девушка с обложки», кроме, собственно, обложки? Тем, что 20-летний Дилан познакомился с ней, 17-летней художницей, где-то через полгода после того как зимой 1961 года приехал в Нью-Йорк из своей глуши, и они провели вместе года два. Известно, что она раскрыла ему глаза на какие-то вещи в искусстве, без которых невозможно представить себе все его дальнейшее творчество (стихи Артюра Рембо, например, или театр Бертольда Брехта). Чем она занималась после 1964 года — да и жива ли до сих пор — из массового сознания как-то стерлось. На экранах радаров она появилась лишь после выхода фильма Мартина Скорсезе «Нет пути домой», где ей пришлось поучаствовать. Почему ее нигде так долго не было — вопрос отдельный. Чтобы ответить на него, Сюзи Ротоло потребовалось написать книгу. И хорошо, что издатели в какой-то момент сообразили, что не стоит писать в подзаголовке «Моя жизнь с Бобом Диланом».
Имеет смысл предупредить сразу: смачных подробностей — равно как и объяснений, «почему Боб Дилан такой», — в книге нет. Есть панорама эпохи и места — там и тогда многим из нас хотелось бы родиться. Нью-Йорк, Гренич-Виллидж, самое начало 60-х. Город, в котором было дешево жить, а люди помогали друг другу просто так. Время, чей «фасад был проломлен битниками, а мы, следующее поколение, хлынули в эту брешь». В книге представлена вся сцена, и она гораздо интереснее отдельного портрета. На страницах оживают культовые фигуры, без которых и Дилана per se бы не было: верховный трубадур Дэйв Ван Ронк,главный пропагандист и собиратель американского фолка 60-х Израэль «Иззи» Янг, Фил Оукс, Сильвия и Иэн Тайсоны, Пит Сигер, блюзмены, фолксингеры и просто колоритные персонажи «Деревни». Но главный персонаж этой книги — время. Вольное время. Хотя «вольное» — это как посмотреть.
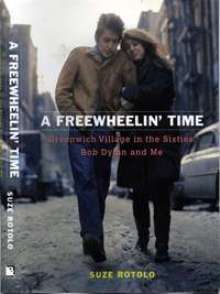
Сьюзан Ротоло родилась в 1943-м, и сама себя относит к поколению «красных подгузников». Так сами себя называли дети военных лет, чьи родители были коммунистами. Зачастую они — еще и дети иммигрантов. Можете себе представить, в каком котле варились Сюзи и ее сестра Карла: деды и бабки помнили Сардинию, откуда эмигрировали в «землю обетованную» в конце XIX века, и терпеть не могли ирландцев, которые отрывались на итальянцах за десятилетия собственных унижений; родители селились в еврейских кварталах, где становились «гоями» и «шиксами», работали в профсоюзах и читали Джона Рида, а о троцкистах и итальянских анархистах в присутствии детей старались не говорить. У многих родители сидели — за принадлежность к компартии или за сочувствие. «Плавильный котел» что надо: «красные под кроватью», антисемитизм, антикоммунизм, анти-всё. Детство сестер Ротоло прошло под тяжкой крышкой маккартизма, когда страх «Другого» (любого, кто хоть чем-то отличается от тебя и соседа) накрывал собою всё и мог быть угрозой для жизни — мог привести к погромам или визиту агентов ФБР в 5 утра с вытекающими последствиями. А тут — мало того, что чужие, итальянцы, но еще и красные… Какова у них может быть степень отчуждения?
Поэтому когда юная Сюзи Ротоло «села в метро из Куинса и вышла на правильной станции» в Гренич-Виллидж, где — так уж сложилось за 50-е годы — аутсайдерами, Другими были практически все, неудивительно, что для нее распахнулись все горизонты самостоятельной жизни. До встречи с Диланом оставалось несколько месяцев.
Да, Дилан в книге, разумеется, присутствует. И мы о нем даже узнаем что-то новое. Например, что он всегда «был нелинеен». Часто уходил в себя и подолгу не возвращался. Что в песнях его «не было ничего загадочного» (Сюзи не выдает, в каких именно присутствует она сама, но говорит, что некоторые ей трудно слушать до сих пор). Что «письма его были похожи на песни». Что в 1962 году был период, когда Боб Дилан думал, что он — Юл Бриннер:
Посмотрел еще одно замечательное кино [пишет он Сюзи в Италию] — «Великолепную семерку» — это же просто невероятно — как ни мерзко признаваться но я Юл Бриннер — боже просто вылитый — я стрелок — я зачистил городок мексиканских пеонов вместе с шестью другими стрелками — я застрелил Илая Уоллока — на какой-то миг мне показалось что я мог быть Илаем Уоллоком но как только увидел Юла — я просто сразу понял что я это он — никто мне об этом даже не говорил — я это с лету сам понял.
Да, ну и разве вот еще что: Боб Дилан обладал одним завидным навыком — пожалуй, только это и может быть отнесено к категории «интимных подробностей» его жизни:
…Мы вчетвером все допили, и нам удалось от Хадсон-стрит дойти до Уэверли-плейс. Там нас пригласили выпить еще, и мы согласились, хотя поддали уже хорошо. Бобби, сжав в руке ножку полного винного бокала, рухнул на тахту и через минуту крепко уснул. Вокруг продолжалась вечеринка, и все гадали, когда же он уронит бокал. Через некоторое время он проснулся; бокал по-прежнему держался прямо в его руке, не пролилось ни капли — этому зрелищу изумились все. Я потрясенно воззрилась на Бобби. "Чё?" — буркнул он, отхлебывая.
Читать о расставании «звездной пары Гренич-Виллидж» мучительно. Нет, дерьмо из вентилятора не летит, не надейтесь — просто на таком прекрасном фоне эпохи то, из-за чего, по мысли американских первоиздателей, книга и была написана, что составляет ее «уникальное торговое предложение», выглядит чужеродно. Версия Сюзи Ротоло в целом не противоречит версии Дилана, озвученной в «Хрониках»: он двинулся дальше, а Гренич-Виллидж и все ее обитатели — друзья, подруги, неприятели, музыканты, журналисты — остались «глотать пыль». Дело, что называется, житейское.
Только Ротоло смотрит глубже: это лишь согласно мифу ранняя фолк-сцена — нечто вроде «так здорово, что все мы здесь сегодня собрались». После «Вольного времени» рождаться там и тогда уже как-то не хочется. Тусовка первых фолкников была, ко всему прочему, средоточием нетерпимости (вспомним их реакцию, когда Дилан перешел в электричество: «продался шоубизу, а петь надо чисто, как наши деды в 20-е годы»), злословия (Ротоло наслушалась о себе всякого, вернувшись после вынужденной разлуки с любимым — несколько месяцев она провела в Италии по настоянию матери, которой, при всей ее рабочей закваске и идеологической выдержке, «певец протеста» Дилан как ухажер дочери активно не нравился) и вялотекущей бытовой мизогинии.
Последнее, по версии Ротоло, и стало едва ли не главной причиной разрыва (ну, помимо романа Дилана с Джоан Баэз, само собой, но обычная ревность в книге не педалируется). Тогдашняя фолк-сцена, вся такая передовая, раскованная и свободная, была плотью от плоти филистерской Америки. Даже в фолк-клубах женщина сливалась с фоном. Ей полагалось готовить еду и подавать выпивку, сидеть за столиком, украшать собой общество и не мешать мужчинам чесать языками или петь дедовские песни. А Ротоло со своей аутсайдерской-в-кубе закваской, видимо, уже тогда была кем-то вроде «прото-феминистки» второй волны. Мы не забываем, что движение за гражданские права еще не набрало оборотов: сегрегация касалась только черных, война во Вьетнаме еще не успела никому особо надоесть, да и лифчики никто прилюдно не сжигал. Все это случилось позже. Поэтому — итог:
Я никогда бы не смогла быть женщиной за спиной великого мужчины: мне недоставало дисциплины для такой жертвы… Я не хотела быть струной на его гитаре… [Гренич-Виллидж] стала тем местом, где надо быть, но я к тому времени ее покинула.

Жизнь «после Дилана» была, пожалуй, еще насыщеннее. Самые интересные страницы «Вольного времени» — о том, как в 1964 году Сюзи Ротоло стала участницей веселого политического хэппенинга: группы американских студентов летали на Кубу, чтобы доказать неконституционность государственного запрета на поездки туда. Эта часть истории радикального американского движения сейчас прочно забыта, да и тогда «министерства правды» не очень понимали, как все это преподносить, хотя без хайпа, конечно, не обошлось. Но мало кто знал, что поездки эти организовывались Албертом Махером, который тогда был другом и телохранителем Дилана (тому уже настоятельно требовался телохранитель — массовая истерия нарастала), а в одной группе одновременно с Сюзи на Кубе был студент-ботаник Джерри Рубин. Сложная многоходовая комбинация с заброской молодежи на «остров Свободы» через Лондон, Париж и Прагу читается сейчас похлеще любого «Ультиматума Борна».

Ротоло продолжала работать в театрах — причем не только художником сцены, она умела делать все, даже играла сама, — не прекращала участвовать в политических акциях, жила в Европе, преподавала. С Диланом они изредка пересекались, хотя прочнее оставались связи с другими людьми той эпохи и локуса. С немалой иронией Ротоло вспоминает, к примеру, что на исторических студийных сессиях при записи альбома «Снова Трасса 61» она сыграла две ноты: мультиинструменталист Эл Купер попросил ее придержать клавиши органа, пока сам играл какое-то соло, но она не помнит, на какой песне это было. Видимо, ее вклад в историю культуры — не в этом, как и не в пресловутой обложке, и даже не в «Suja-Baubles», самодельных фенечках, которые тогда, задолго до «моды хиппи» они придумали с подругой, чтобы вешать на сапоги.
И, чтобы у вас не оставалось сомнений, — Сюзи Ротоло жива. Она делает запредельно прекрасные книги, и я не имею в виду эту, массово-произведенную книгу мемуаров: книга для нее — средство выражения, арт-объект, алтарь, чудеснее ничего и быть не может. Сюзи состарилась изящно. Победила время и место: парадигма сменилась, «другие» стали «своими», завелись другие «другие», а она просто в какой-то миг, гораздо раньше современников, осознала неумолимость хода истории. Underdog оказался сверху. Что может быть утешительнее?
Видимо, еще и поэтому мы не вправе недоумевать, почему в конце книги автор сказала спасибо всем своим старым друзьям, кроме Боба Дилана.
Летние звуки, услада души
Наш эксцентричный литературный концерт имени русской поэзии (и немного новостей мировой литературы)
...и начнем мы его с песенки, которая могла бы стать гимном нашей буквенной радиостанции:
Как в прошлых месяцах главной темой наших музыкальных десантов был Уильям Шекспир — «всё» английской и мировой поэзии, — так сейчас самое время обратить наши уши к А. С. Пушкину — «ой, всё» русской:
Несмотря на некоторую архаичность его поэтики, в новых форматах имя его звучит громко и напористо:
Но не единым Пушкиным, конечно, жива мировая музыка. Есенина тоже пели не раз — вот интересный старый эксперимент: «Исповедь хулигана» в переводе Ренато Поджиоли (на актера Безрукова в фан-клипе можно не обращать внимания, он там придает колоритного безумия а ля рюсс: Анджело Брандуарди спел эту песню за год до его рождения):
Ну и вот ваш истинный шедевр — мини-опера Федора Чистякова «Бармалей» на стихи Корнея Чуковского. Наслаждайтесь, как наслаждаемся ею мы все:
А интересно, сколько литературных отсылок вы найдете в этой небольшой бесхитростной песенке?
Советская поэзия тоже никогда не была обойдена вниманием рок-музыкантов. В частности, Константин Симонов:
А вот несколько новых полноформатных литературных релизов последнего времени. Кинг Хан выпустил, гм, пластинку «Давайте я вас повешу» по мотивам «Нагого обеда» Уильяма Барроуза и с его же голосом. Это достойное пополнение любой фонотеки истинного читателя:
Группа «Трижды» издала релиз под скромным заголовком «Вайссу» — известно именем какой страны Томаса Пинчона названный:
А коллектив под названием «Rapoon» тоже принес свою дань творчеству этого великого американского писателя — переиздали расширенную версию своей пластинки 1995 года «Киргизский свет»:
Закончим же мы наш сегодняшний выпуск еще одной новой песенкой, так или иначе связанной с нашей радиостанцией:
Не забывайте читать книжки этим жарким летом. Ваши Рок-Омары.
Биография несогласного
"Конец нейлонового века", Йозеф Шкворецкий

Чешский писатель и сценарист Йозеф Вацлав Шкворецкий родился 27 сентября 1924 года в богемском городке Начоде. Отец его, Йозеф Карел, работал клерком в банке и одновременно выполнял обязанности председателя местного отделения патриотической организации «Гимнастическая Ассоциация "Сокол"». Как следствие, его арестовывали и сажали в тюрьму как коммунисты, так и фашисты. В 1943 году Йозеф закончил реал-гимназию и два года работал на фабриках концерна «Мессершмитт» в Начоде и Нове-Месте по гитлеровской схеме тотальной занятости населения Totaleinsatz. Затем его призвали в фашистскую молодежную организацию Organisation Todt рыть траншеи, откуда в январе 1945 года он благополучно дезертировал. В оставшиеся месяцы войны Шкворецкий тихо проработал на хлопкопрядильной фабрике.
Когда война закончилась, он год проучился на медицинском факультете Карлова Университета в Праге, затем перевелся на философский факультет, который закончил в 1949 и получил докторскую степень по американской философии в 1951 году. В 1950-51 годах преподавал в социальной женской школе города Хорице-в-Подкрконоши, затем два года служил в танковой дивизии, расквартированной под Прагой в военном лагере Млада, где впоследствии, во время советской оккупации, располагалась штаб-квартира советской армии.
Примерно с 1948 года Шкворецкий входит в подпольный кружок пражской интеллигенции, с которым были связаны Иржи Колар -- поэт и художник-авангардист, Богумил Грабал -- автор книги «Пристально отслеживаемые поезда», композитор и автор первой чешской книги по теории джаза Ян Рыхлик, экспериментальная писательница Вера Линхартова, теоретик современно искусства Индржик Халупецку. Будучи членом кружка и часто посещая полулегальные встречи группы пражских сюрреалистов на квартире художника Микулаша Медека, Шкворецкий становится довольно известен среди неофициальных литераторов начала 50-х годов.
Свой первый роман (а на самом деле -- третий), «Конец нейлонового века» Шкворецкий предложил издателям в 1956 году, и перед самой публикацией книга была запрещена цензурой. После выхода в свет в 1958 году второго романа «Трусы», написанного за десять лет до этого, его уволили с редакторского поста в журнале «Мировая литература». Книгу запретили, тираж конфисковала полиция; редакторов, ответственных за ее выход в свет, уволили, включая главного редактора и директора издательства «Чехословацкий писатель». Этот случай стал чуть ли не основным литературным скандалом конца 50-х годов и послужил предлогом для самой основательной «чистки» интеллектуальных кругов Праги.
Тем не менее, политический климат в стране слегка менялся, и через пять лет Шкворецкому удалось опубликовать повесть «Легенда Эмёке» -- несмотря на партийную критику, книга стала одной из самых значительных литературных удач середины 60-х годов. Слежка за автором, несмотря на это, не прекращалась; к примеру, Шкворецкого приняли в Чехословацкий Союз Писателей только в 1967 году -- и то, «через задний ход»: его выбрали председателем секции переводов, что автоматически означало избрание в полноправные писатели. В 1968 году он становится членом ЦК Союза Писателей, а чуть раньше -- членом ЦК Союза творческих работников кино и телевидения.
Последней книгой Шкворецкого, вышедшей в Чехословакии, стал роман «Прошлое Мисс Сильвер» (в 1968 году, причем за год до этого роман был отвергнут директором издательства «Млада Фронта», заменившим своего «вычищенного» предшественника), восьмидесятитысячный тираж второго издания которого был по приказу властей уничтожен в 1970 году вместе с рассыпанным набором другого его романа «Танковый корпус». Неудивительно -- «Мисс Сильвер» была ядовитой и обжигающей сатирой на чешский издательский мир, цинично приспособившийся к давлению коммунистического режима. Среди переведенных им в то время на чешский язык авторов -- Рэй Брэдбери, Генри Джеймс, Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер, Раймонд Чандлер и другие. В 60-х годах писатель активно работал с ведущими чешскими кинематографистами «новой волны». Его совместный с Милошем Форманом («Пролетая над гнездом кукушки», «Волосы» и т.д.) сценарий «Джаз-банда победила» был лично запрещен тогдашним президентом республики Антонином Новотным, поскольку основывался на рассказе Шкворецкого «Хорошая джазовая музыка» (Eine kleine Jazzmusik), который сам в свою очередь был запрещен за два года до этого вместе со всем первым номером «Джазового альманаха». Для завоевавшего Оскар Иржи Менцеля («Пристально отслеживаемые поезда») Шкворецкий написал два сценария, ставшие популярными комедиями: «Преступление в женской школе» и «Преступление в ночном клубе», а для Эвальда Шорма -- «Конец священника», представлявший Чехословакию на Каннском кинофестивале в 1969 году и прошедший по экранам США. Шкворецкого почитают не только за романы, но и за рассказы, статьи и эссе о джазе, детективные повести и даже критическое исследование 1965 года о детективном жанре вообще.
В Чехословакии Йозеф Шкворецкий получил две литературные премии: в 1965 году ежегодную премию Союза Писателей за лучший перевод («Притчи» Уильяма Фолкнера, в соавторстве с П.Л.Доружкой) и в 1967-м -- ежегодную премию издательства Союза Писателей за лучший роман («Конец нейлонового века», сначала запрещенный в 1956 году, но через одиннадцать лет после этого и через шестнадцать лет после написания увидевший свет).
После советского вторжения 1968 года Шкворецкий вместе с женой, писательницей, актрисой и певицей Зденой Саливаровой, известной по фильму «Партея и гости» и роману «Лето в Праге», эмигрировал в Канаду, где со временем стал профессором английского языка и кинематографии в Университете Торонто. За первые десять лет жизни в Канаде он написал и опубликовал больше художественных и документальных работ, чем за двадцать лет творческой жизни в Чехословакии. Вместе с женой в 1971 году они основали чешскоязычное издательство «68», опубликовавшее более 70 книг ведущих чешских писателей, как живущих в изгнании, так и оставшихся на родине: «Шутку» и «Прощальную вечеринку» Милана Кундеры, «Меморандум» Вацлава Гавела, «Подопытных свинок» Людвика Вакулика, «Бедного убийцу» и «Белую книгу» Павла Когоута, «Победителей и побежденных» Геды Ковалевой и Эразима Когака и многие другие. Многие критики считают собственную книгу Шкворецкого «Бас-саксофон», выпущенную в те же годы, лучшим романом о джазе всех времен.
Уже в Канаде Шкворецкий получил стипендию Совета Старейшин по искусству для создания романа «Инженер человеческих душ». В 1975 году он избирается почетным членом американского Общества Марка Твена за роман «Прошлое Мисс Сильвер». В июне 1978 году его радиопьеса «Новые мужчины и женщины» номинирована как «Лучшая пьеса месяца» в Германии, а в 1980 году он получил Нойштадтскую международную премию по литературе. Тогда же писатель назначается стипендиатом Мемориального Фонда Джона Саймона Гуггенхейма за начатый им роман о жизни Антонина Дворжака «Скерцо каприччиозо» («Влюбленный Дворжак»), законченный в 1982 году. Его «Танковый корпус» был экранизирован на родине только в 1991 году.
* * *
Книга послужила своего рода зеркалом, в которое официальной Чехословакии совсем не хотелось заглядывать. Темой, постоянно всплывавшей на поверхность, была жалость к немцам, разбитым и деморализованным войной. Русские поражают главного героя своим очаровательным примитивизмом (именно определение «монголы» применительно к ним вызвало самй большой скандал в 1958 году). Роман получился антипартийным и богоборческим одновременно: все чувствовали себя объектами авторской сатиры. События разворачиваются в провинциальном богемском городишке в мае 1945 года: гитлеровцы отступают, советская армия берет под контроль район, населенный, в основном, освобожденными военнопленными -- англичанами, итальянцами, французами, русскими («монголами», которых местное население считает не очень чистоплотными), еврейками-узницами концлагерей. Рассказчик, двадцатилетний Дэнни Смирицкий, выросший под сильным влиянием американского кино и музыки, и его друзья, музыканты джазового ансамбля, наблюдают весь этот поток власти, человеческой природы и смерти бурлящий вокруг, все основные мысли и энергии отдавая женщинам и музыке. В романе нет героев по определению. Персонажи обнаруживают себя пленниками фарса, который в следующую минуту превращается в кошмар. Группа, может, и мечтает совершить что-нибудь героическое во имя своей страны, но получается у них только музыка. Попытки же провинциальных бюрократов стравить местных сторонников коммунизма с фашистскими оккупационными властями по большей части оканчиваются трагически. В целом же книга стала трогательным и драматическим свидетельством глубокого социального напряжения, вызванного оккупацией Чехословакии советской армией.
Джаз персонажей романа, подавлявшийся фашистами и окрещенный ими «жидонегроидной музыкой», -- тем не менее, оставался политичен. Играть в то время блюз или петь скэт означало, по сути дела, выступать за свою личную свободу и спонтанность самовыражения, за все, что ненавидели и старались сокрушить нацисты. Во время гитлеровского «протектората» сам Шкворецкий тоже играл джаз. Автор до сих пор считает свою музыку чем-то вроде кнута, шипа в боку всех жадных до власти сильных мира сего, от Гитлера до Брежнева. Будучи в высшей степени метафористом, Шкворецкий часто использует джаз в его хорошо знакомой исторической и интернациональной роли как символ и источник антиавторитарных умонастроений.
Мы вновь встречаемся с Дэнни Смирицким в «Танковом корпусе», «Игре в чудо», «Бас-саксофоне» и «Инженере человеческих душ: развлечении на старые темы жизни, женщин, судьбы, мечтаний, рабочего класса, тайных агентов, любви и смерти». «Бас-саксофон» составлен из воспоминаний и двух новелл, первоначально порознь опубликованных в Чехословакии в 60-х годах. Как и в «Трусах», в воспоминаниях «Красная музыка» возникает атмосфера того смутного и унылого времени Второй Мировой войны в Европе, в которой совершалась странная карьера корневой американской музыки, перенесенной на совершенно чужую почву.хотя мемуары служат лишь предисловием к повестям, читать их едва ли не интереснее. В этом коротком, но страстном эссе Шкворецкий показывает, что, поскольку поклоннику джаза за Железным Занавесом приходится мириться с печалями, далекими от его собственных забот, музыка неизбежно несет для него не только ощущение оторванности и тоски, но и горько-практичное политическое неприятие окружающего.
«Легенда Эмёке», первая из двух повестей книги, хрупка, лирична, «романтична» и, как и ее заглавный персонаж, почти сказочна. Именно из такого материала ткутся притчи. В поэтическом образе Эмёке, ранимого и нежного существа с широким диапазоном духовных исканий, вся история обретает душевную глубину неравнодушия. Тем не менее, некоторые критики считали, что ее образ недостаточно ярок и жизнен для того, чтобы нести на себе бремя того, что она должна была по замыслу представлять. Убедительнее выглядел другой персонаж -- циничный и аморальный школьный учитель, символ типично «совковой» образованщины и двойного нравственного стандарта, так хорошо нам всем знакомого.
«Бас-саксофон» считается более удачной новеллой, вероятно, потому, что подлинная страсть шкворецкого, музыка, выступает лейтмотивом повествования, мощной символической и идеологической силой, в то время как в «Эмёке» она -- не более, чем подводное течение. История паренька, играющего джаз при гитлеровском режиме и мечтающего о настоящем бас-саксофоне в настоящем джазовом оркестре, -- чистое волшебство, парабола, притча на темы искусства и политики в той зоне, где они как-то уживаются вместе, а джаз в полной мере служит метафорой человеческой свободы и самореализации. Вся книга в целом стала пронзительным и освежающим явлением в современной чешской литературе -- в ней нет ничего, кроме труда воображения, и тем она восхитительна.
Последующее творчество Йозефа Шкворецкого продолжало отражать события его собственной жизни. Любитель джаза Дэнни Смирицкий постарел, эмигрировал в Канаду и устроился преподавать в маленький колледж Университета Торонто. «Инженер человеческих душ» (так хорошо знакомый всем нам сталинский термин) -- обширный, остроумный, однако фундаментально серьезный роман. Все прошлое Дэнни -- все его столкновения с фашизмом в молодости, его романы и романчики, опыт общения с собратьями по эмиграции -- и его настоящая жизнь переплетаются в нелинейном повествовании, почти обескураживающем по богатству и насыщенности. Разнообразие повествовательной ткани сообщает «Инженеру» ту широту кругозора, которая намного превосходит тему книги, обозначенную в солидном подзаголовке. Автор касается и опасностей догматического мышления, и политической наивности Запада, и несправедливостей тоталитарных режимов. По охвату реалий и Запада, и Востока, равных этой книге найдется немного. В полном, хотя и несколько старомодном, смысле «роман идей», она одновременно -- и повесть жизни самого Шкворецкого (он сам говорил, что Дэнни -- «фигура автобиографическая, смесь реального и желаемого») и, по выражению канадского критика Д.Дж.Энрайта, «Библия Изгнания».
Хотя цикл о Дэнни Смирицком, вероятно, приблизился с «Инженером человеческих душ» к концу, музыка по-прежнему звучит в следующем романе Шкворецкого «Влюбленный Дворжак». Беллетризованная биография композитора, посещавшего Нью-Йорк и испытавшего влияние негритянской народной музыки и джаза, дает автору повод поразмышлять о синтезе двух доминирующих музыкальных культур нашего времени -- классической европейской традиции и джазовой американской. Хотя синтаксически озадаченные американские критики сочли, что повествовательная структура начальных глав «Дворжака» слишком сложна, чтобы ими можно было наслаждаться, но традиционный юмор автора в дальнейшем оживляет книгу, и в целом роман -- достойная дань памяти Антонину Дворжаку и праздник той музыки, дорогу которой он проложил.
Стиль прозы Шкворецкого, пишущего и на чешском, и на английском, поэтичен, и сюжет в ней часто играет меньшую роль, чем игра слов и образов. Его длинные периоды виснут и уходят в бесконечность, а огромные придаточные в скобках паровозами грохочут мимо. Язык его в высшей степени музыкален, одновременно напоминая фуги и сонаты -- и бесконечные саксофонные импровизации свободного джаза. В нем -- и ностальгия, и горечь писателя, оторванного от родной языковой среды чуждой тоталитарной силой. Проза Шкворецкого не потеряла своего блеска и свежести и сейчас, через 40 лет. Сам он в предисловии к канадскому изданию «Бас-саксофона» писал: «Для меня литература постоянно трубит в рог, поет о молодости, когда молодость уже безвозвратно ушла, поет о родном доме, когда в шизофрении времени вдруг оказываешься на земле, лежащей за океаном, на земле, где -- как бы гостеприимна или дружелюбна она ни была -- нет твоего сердца, поскольку ты приземлился на этих берегах слишком поздно».
Пророки в наших палестинах
"Ролевые модели", Джон Уотерс
Нельзя ли потише? Я здесь пытаюсь гладить!
— Божественная в «Лаке для волос»
Да, нельзя ли потише? Мы здесь пытаемся говорить о культурных героях, культовых фигурах и ролевых моделях. Ну и вы, пророки, заходите.
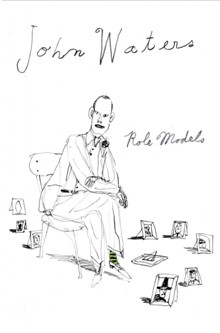
Путь русского паломника к истокам творчества Джона Уотерса достаточно типичен. В поздне- и постсоветском видеопрокате самыми доступными, понятно, были фильмы «мейнстримного» периода Уотерса — «Полиэстер» (1981), «Лак для волос» (1988) и «Плакса» (1990), чуть позже к ним добавилась «Мамочка-убийца»(1994). Это была тетралогия восхитительных визуальных поп-леденцов с довольно ядовитым привкусом. Она работала безотказно и радовала всех без исключения. Затем настал черед более ранней классики — изумительной «Дрянной трилогии»: «Розовых фламинго» (1972), «Женских неприятностей» (1974) и «Отчаянного житья» (1977). Они уже нравились далеко не всем «насмотренным» киноманам. Чтобы полюбить эти киноработы, требовалось… да, некоторое усилие. Но если обряд инициации преодолевался успешно, адепт научался с немалой и чистой радостью воспринимать и то, что не нравилось практически никому, — экзотику вроде «Мондо Дряно» (1969) или «Множественных маньяков» (1970). Фильмы последних лет — «Писюн» (1998), «Сесил Б. Девинутый» (2000) и «Стыд-позор» (2004) — можно, по-моему, смотреть уже только в контексте сорока лет работы балтиморского мастера, которого сам Уильям С. Барроуз обозвал «Римским Папой дряни». Про то, насколько любимы эти фильмы, я уже ничего не знаю, но сам неизменно им радуюсь.
Надо признаться, что я припал к этому источнику вечного наслаждения сравнительно поздно — когда в начале 90-х посмотрел «Невероятно странную кинопанораму», дивный, но, к сожалению, короткий документальный сериал Джонатана Росса о подвижниках современного киноискусства. Открывался он, как легко догадаться, увлекательным рассказом о Джоне Уотерсе. После этого уже стыдно было не ознакомиться с первоисточниками.
И вот — «Ролевые модели», новейшая книга человека, который даже признанному бяке мировой культуры Берроузу казался несколько чрезмерен. Фактически «Модели» продолжают мемуарную линию «Шизика: Маний Джона Уотерса» и искусствоведческие исследования «дурновкусия», намеченные в «Шоковой ценности». Книги эти, разумеется, необходимо читать всем, кому интересен сам Уотерс и его эстетическая система. Ожидать, что эти труды когда-либо издадут по-русски, не приходится, но я уверен — вы справитесь и так.
В «Ролевых моделях» речь идет о том, что во всех смыслах возбуждает самого режиссера и художника. Название вас не обманет. Но вы не найдете в этой книге воспоминаний о Хэррисе Гленне Милстеде или прочих «Дримлендерах». Вы отыщете здесь лишь самые мимолетные упоминания о том, как Уотерс «плясал джиттербаг с Ричардом Серрой, ужинал в День благодарения с Ланой Тёрнер, пил чай с принцессой Ясмин Ага Хан, бухал с Клинтом Иствудом и несколько раз встречал Новый год в гштадском шале Валентино». И, совершенно очевидно, здесь мало чего будет про кино. Обо всем этом можно прочесть и в других местах.
В этой книге, — говорит нам автор, — нет дурновкусия и нет иронии. И моих фильмов в ней тоже нет. Она — о людях, и я крайне серьезно прошу вас, по крайней мере, изучить каждого и взглянуть на него под иным углом. Все они важны для меня — даже те, кому довелось пережить нечто ужасное. Я нисколько не жалею, что с ними знаком. Поражает меня другое — поведение тех, кто считает себя совершенно нормальными, а неосознанно действует при этом так, что за них стыдно.
Вот те «ролевые модели», о которых автор пишет с большой нежностью и любовью.
Джонни Мэтис — сильно эстрадный певец, популярный в США с середины 50-х. У нас таких долгожителей нет, так что сравнивать особо не с кем (может, что-то вроде Эдуарда Хиля). Гей Мэтис или нет, так до конца и не ясно, но вот то, что он афроамериканец, для многих стало откровением.
Теннесси Уильямс — с ним автор знаком не был, но кому это мешает? Его мы знаем хорошо — но лишь в «дружелюбной» ипостаси. «Гадкого» Теннесси Уильямса почти не знают даже самые грамотные американцы.

Лесли Ван Хаутен — «хипповая феечка» из «семьи» Чарлза Мэнсона, давняя подруга нашего автора. Она по-прежнему сидит в тюрьме — уже гораздо дольше, чем провели в заключении нацистские преступники. Уотерс активно поддерживает движение за ее условное освобождение.
Рей Кавакубо — японская мастерица очень дорогой одежды для фриков и идеолог марки «Comme des Garçons». Рубашки с карманами, нашитыми изнутри, и галстуки, заляпанные спермой, нам все равно не по карману. Джон Уотерс это отлично понимает, но устоять перед такой одеждой не может и потому с радостью иногда демонстрирует модели CDG на подиуме.
Леди Зорро, Эстер Мартин и некоторые другие персонажи балтиморских баров — стриптизерши, владелицы и завсегдатаи. Это люди, которым Уотерс благодарен за какие-то жизненные уроки, — ну, если не им самим, то их детям, из которых вопреки всему получились крайне вменяемые люди. Кстати, страницы о том, какими стали детки самых неблагополучных мамаш — какой-нибудь стриптизерши-лесбиянки-алкоголички-героинщицы (да, это один человек в данном случае), — едва ли не самые поразительные во всей книге. Предметный урок по педагогике.
Сколько-то книг разных писателей, из которых я, к примеру, знаю только Джейн Боулз и Айви Комптон-Бёрнетт.
Литтл Ричард — это не самый очевидный выбор героя повествования и образца для подражания, но вот поди ж ты.
Крайне маргинальные гей-порнографы, вроде Бобби Гарсии, всю жизнь снимавшего только морских пехотинцев, или Дэвида Хёрлза, который специализировался на только что откинувшихся зэках.
Художники Майк Келли, Сай Туомбли, Ричард Таттл и еще несколько подобных «икон современного искусства» — их автор зовет своими «сожителями», поскольку их скандальные и/или противоречивые работы украшают все его жилища.
И, наконец, сам Джон Уотерс.
Пусть вас не обманывает краткость этого списка. Каждая фигура задает тему для свободных ассоциаций и воспоминаний. Например, в главу о Литтл Ричарде просачивается вставная новелла вот такого рода:
— А вы сейчас еврей? — осведомляюсь я и пересказываю сообщения о том, что Ричард пошел по стопам Сэмми Дэйвиса-младшего.
— Об этом я предпочитаю не говорить, — загадочно дразнит он. — Но скажу так. Я верю в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Я верю, что Бог заповедал шаббат на седьмой день. Верю, что мы должны есть одно кошерное. Позавчера вечером меня приглашали на вечеринку. К Роду Стюарту. Я не пошел, потому что в пятницу у меня начинается шаббат.
— Поговаривали, что в иудаизм вас обратил Боб Дилан, когда вы лежали на смертном одре после несчастного случая?
— Боб Дилан — мой брат. Я его люблю так же, как Бобби Дарина, а он — моя детка. У меня такое чувство, что Боб Дилан — мой кровный брат. Я верю, случись так, что мне было бы негде жить, Боб Дилан купил бы мне дом. Он сидел у моей кровати — не отходил много часов. У меня все болело так, что никакие лекарства не помогали. Мне вырвало язык, искалечило ноги, проткнуло мочевой пузырь. Я должен был умереть. Залечь на шесть футов под землю. Бог меня воскресил — именно поэтому я должен поведать об этом миру.
Ошибкой было бы думать, что «Ролевые модели» — всего лишь прекрасно написанный мемуар об интересно прожитой жизни или агиография незаметных героев американского дна. В девяти главах Уотерс как бы закладывает фундамент, подводит нас к сокрушительному финалу — эдакому выходу с кордебалетом и под фанфары. Готовы? Сейчас Сид Вишес споет вам «Мой путь». По-своему.
Да, автор не только намерен производить парфюмерию с собственной фамилией (которая у французов, например, ассоциируется лишь с той водой, которая в сливном бачке). Уотерс ни больше ни меньше предлагает узаконить новую религию — окрестить (в широком, широком смысле) ее «радикальной святостью»: «Дорогие единоверцы, — пишет он со своей традиционной возмутительной невозмутимостью, — мы разобщены, как бывшие католики или ленивые евреи, что до сих пор грызутся из-за допустимых пределов стыда или виновности. Или, что еще хуже, как протестанты, что обратились в спившихся атеистов или ссыкливых агностиков и что ни день уклоняются от действительно важных вопросов. Все вместе мы можем стать новыми святыми мерзости». Далее следует подробное руководство — примерно «Как превратить детские комплексы и фантазии в успешную карьеру и показать нос культуре и обществу».
О величине этой фиги в кармане можно лишь догадываться, но в любом случае человеку, снявшему «самый отвратительный кадр в истории мирового кино» есть что сказать не только о себе, но и об иконах мировой цивилизации:
А Иисус Христос? Нет, я верю, что он считал себя Сыном Божьим, но ведь невинную ошибку может допустить кто угодно. Вероятно, он был хороший человек. Определенно — законодатель моды. Несколько самовлюбленный. Чуточку помешанный, совсем как мы с вами. Но, как недавно отметила одна моя элегантная знакомая: «Мой муж умер от рака, и на то, чтобы наконец испустить дух, у него ушло лет пять ужасной боли и мучений. А Христос провисел на кресте одни выходные. И в чем тут подвиг?» Знаете, возможно, она права. Многие мои друзья по многу лет медленно и мучительно умирали от СПИДа. Неужели в наше время границы страданий так раздвинулись?
Возмутительно. Примерно так же возмутителен в свое время был пророк Элиягу, да? Приходил непрошенным, вразумлял идиотов, орал не пойми что, никто его не любил. А потом — фигак, колесница огненная. Так что вы поосторожней с ярлыками на всякий случай. К кинокритикам особо относится.

…Стало быть, вперед, мои бестрепетные читатели, — смотреть фильмы Джона Уотерса. Вооружитесь для начала этой книжкой и освежите свой взгляд на мир. Это от Шабтая Цви не осталось ничего, кроме ученических изложений, а нам все же есть с чем работать. Мировоззрение у вас никогда уже не будет прежним. Его ролевые модели — фигуры того среза культуры, которая нигде не популярна, везде малоизвестна и повсюду считается отвратительной, как недавно отметила одна моя элегантная знакомая.
Простите, но мне «Элвин и бурундуки» всегда нравились больше «Битлз», Джейн Мэнсфилд — больше Мэрилин Монро, а «Три придурка», по-моему, гораздо смешнее Чарли Чаплина.
Отнюдь не поза, но — сознательная позиция. Если вы еще не знакомы с фильмами Джона Уотерса, придется поверить мне на слово. Явился новый пророк. Честный, бесстрашный, с непривычным, но от этого не менее истинным мессиджем. Многая лета.
Взгляд окрест
Наши неторопливые литературные и мультимедийные новости
Скоро на экранах:

Итальянский режиссер (и друг редакции Радио Голос Омара) Томмазо Моттола представляет проект, чья подготовка заняла несколько лет: «Каренина и я». Это документальный фильм о том, как норвежская актриса Гёрильд Маусет готовилась к роли Анны Карениной, чтобы сыграть ее в постановке Приморского краевого театра драмы им. Горького во Владивостоке. Для этого она (и съемочная группа) проехала по всей России на поездах — ну правильно же, Каренина и поезда неотрывны друг от друга; кроме того, она выучила русский язык — и еще много чего пришлось ей сделать.
Получился удивительный фильм — не только об интерпретации русской классики, но и о любви к этой стране, и о том, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, и о женской судьбе. Когда премьера его состоится в России (а у нас есть данные, что скоро) — не пропустите. Оно того стоит. И не забудьте о том, откуда вы впервые об этом узнали.
Раз уж речь у нас зашла о кино, вот еще один любопытный артефакт:
Уилл Селф в конце мая на ретроспективе фильмов Андрея Тарковского в Лондоне представил «Солярис», снятый по мотивам известно какого произведения. Это вполне потрясающий монолог сам по себе. А вся ретроспектива из семи фильмов называлась «Запечатление времени» — по названию книги самого режиссера:
Возможно, вы слышали об этом проекте:

…но напомнить еще раз не помешает. «Цифровая библиотека Бекетта» — 757 томов, 248 статей, чьи физические оригиналы не найдены или не существуют. Плюс рукописи, конечно. Это воспроизведение парижской библиотеки писателя и материалы из архивов и частных коллекций. Уникальная возможность посмотреть, что и как читал гений литературы ХХ века.

Вот хорошая подборка материалов о Борисе Виане в джазе (на снимке он с Майлзом Дейвисом).
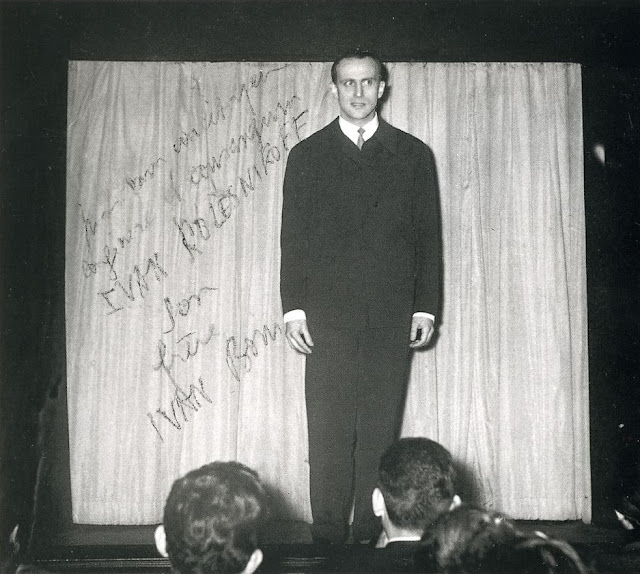
Если вы знаете, кто такой Иван Колесников, кому подписан этот снимок, сообщите в редакцию. Но вообще «Маленький мсье Кокосс» доступно объясняет, в чем величие Виана как музыканта, а не только как писателя, это имеет смысл изучить.
А вот здесь вы найдете удивительное:
Это плейлист с 8 часами записей Дилана Томаса для «Би-би-си» (не забывайте включать свои анонимайзеры, если хотите послушать из России). В видео, кстати, можно посмотреть на его внучку, но смысл не в этом, а в том, что Дилан Томас читает стихи — и свои, и чужие. Бесценно.

Если не полениться и пойти по ссылкам (мы понимаем, что это сейчас немодно), то здесь вы обретете удивительный архив испаноязычного сюрреалистического самиздата за 1928–1967 годы. Золотое у них было подполье.
А это Олдос Хаксли. В 1950 году он рассказывал, каким мир станет через полвека. Ну и как, похоже?
И вот еще диковина: видимо, первый в истории кино биопик — его в 1909 году снял Д. У. Гриффит. Эдгар Аллан По сочиняет «Ворона».
Англо-канадский журналист и писатель Мэлкэм Глэдуэлл запустил на днях собственный подкаст — «Ревизионистская история». Подписаться на него можно здесь.
В конце мая, в честь дня рождения Натальи Горбаневской мы показали вам удивительное произведение — песню Джоан Баэз о ней. Мало кто (статистически) нынче помнит, что великая американская фолк-певица вообще любила русскую культуру, а в особенности — правильную, антисоветскую. Вот и Булата Окуджаву она пела:
Ну и немного об искусстве:

здесь вы найдете удивительную галерею винтажных обложек к произведениям Рея Брэдбери. Насколько бы выиграли от таких его российские издания…
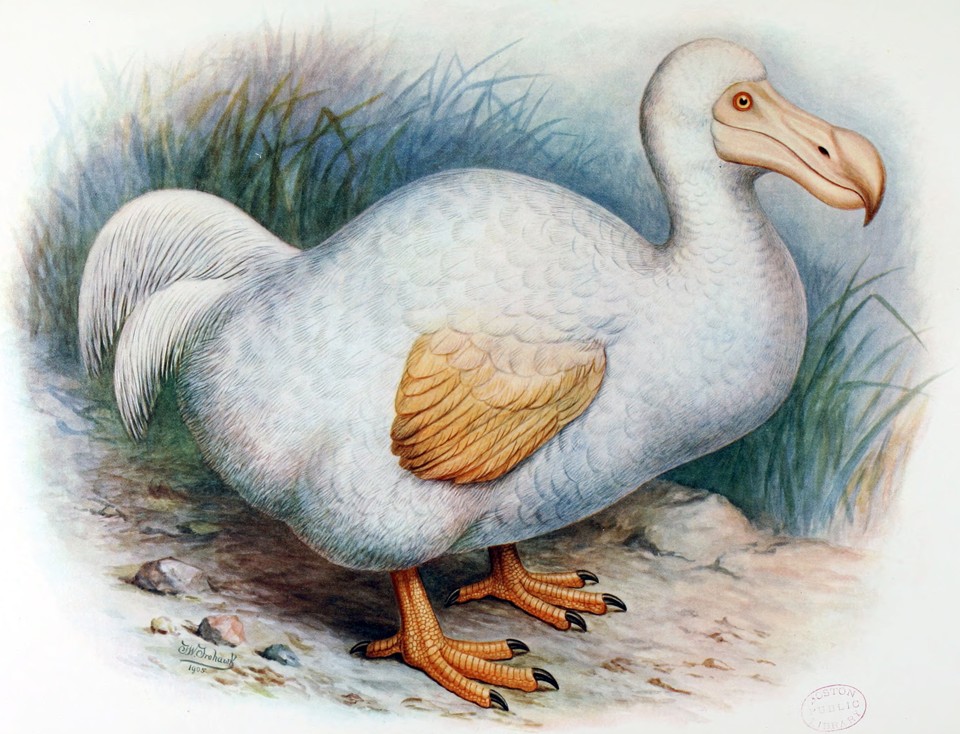
И напоследок — материал, посвященный птице, так или иначе подарившей нам имя. С названием, близким к универсальному: «Додо — мифы и реальность» (и панда, конечно).
Приятного чтения, смотрения и слушания вам в эти короткие летние ночи. Но главным образом, конечно, — чтения.
Телесериал на бумаге
"Криптономикон", Нил Стивенсон
Эпоха у нас такая, что перегруз информации транслируется по всем каналам, и предпочитаемой литературной формой давно стали «цитаты Раневской» и демотиваторы, а предпочитаемой формой потребления движущихся картинок — анимированные гифы. Клипы Ю-Тьюба — это длинно, досматриваются до конца сильно не все, а статусы Фейсбука считаются «лонгридом», если в них больше одной строки, и оставляются «на потом». Последние дни как бы уже настали.
При всем при этом, как ни удивительно, все постепенно свыклись с мыслью, что телесериал — это просто длинный роман: иногда бульварный, не всегда, прямо скажем, гениальный, но неизменно с продолжением, публикуется в газетных подвалах долгих вечеров. Работы и мозговых усилий на просмотр даже самой презренной жанровой шняги тратится столько же, сколько на изучение классиков марксизма-ленинизма или толстых томов модернистов.
А тут вам другой интересный пример взаимопроникновения жанров: книга в формате телесериала (напомню, что такого бума их еще не было, когда она писалась). Сценарий этого сериала мог бы написать Пинчон, но не написал, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Короткие эпизоды, не весьма тщательно проработанные характеры, киномонтаж, сюжетные арки, отступления и вставные новеллы, флэшбэки и флэш-форварды — все, как мы в последние годы привыкли. Сериальность — вообще богатый литературный жанр, и он, понятно, не одни ж там мексиканские мыльные оперы. В «Радуге», с которой «Криптономикон» часто сравнивают, Пинчон, видать, тоже что-то подобное делал — задолго до того, как это стало модно, — но этим, некоторыми приемами да некоторым родством натуры сходство этих романов и ограничивается.
Шедевр (как все говорят) Стивенсона — вполне увлекательная одномерная линейная развертка на занимательные темы. Тексты же вообще существуют в диапазоне от нуля измерений до энного их количества, но это тема для диссертации какого-нибудь литературного тополога: Бекетт, например, может быть представлен в виде точки, у Пинчона измерений явно четыре, ну и так далее… К огромному количеству книжной продукции такая метафора вообще неприменима, как мы знаем.
Анализировать или описывать «Криптономикон» без толку, мы и не будем — читать его вполне, конечно же, стоит, как стоит смотреть качественный телесериал. Жаль одного — что он пошел по пути экстенсивного накопления целей квеста / ядра заговора. Точка притяжения тут — не просто золото, а очень много золота. Это мило само по себе, но как-то уж очень банально.
То, что нам нужно для жизни
"Банда гаечного ключа", Эдвард Эбби
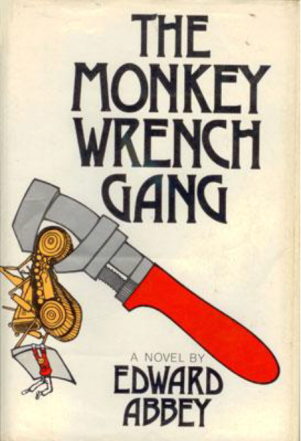
Это не сопротивленье, а война. И все мы прекрасно знаем, кто враг. Не мужчины, не женщины и не дети.
Этот роман написал идеолог и предтеча экотерроризма, анархист и энвайронменталист Эдвард Эбби (1927–1989). На его творчество и жизнь повлияли Торо, Гэри Снайдер и Кропоткин. В 1950-60-х он работал рейнджером в Службе парков. Облагораживал рекламные щиты и, видимо, занимался другими актами саботажа, иначе не смог бы все так детально описать в «Банде». Ну, пил, конечно. Похоронен по завещания так, чтобы не нашли, в пустыне Аризоны (чтобы удобрить собой почву). На ближайшем камне друзья вырезали имя и даты жизни + «Без комментариев». Найти его могилу действительно невозможно — его друг Роберт Редфорд, например, не смог.
А воздействие романа на жизнь замерить проще, чем для многих других произведений литературы. Уже в конце 70-х возникло радикальное эко-движение "Earth First!" и другие партизанские группы прямого действия (Фронт освобождения земли), которые вели борьбу только с собственностью, без кровопролития. Только в 00-х годах подобные организации нанесли ущерба больше чем на 100 млн долларов: их целью было — сделать уродование природы невыгодным. Методы были разные: от творческого усовершенствования биллбордов до борьбы с карьерным способом добычи ископаемых путем вывода из строя техники, с изведением естественных лесов в пользу плантаций древесины и проч. Противоречия, конечно, в этом были: возможные травмы (хотя они оставались на совести компаний-хищников), лозунг «мы так ненавидим хайвэи, что нет причин на них не мусорить», и т.д. Но все это не так существенно, как прекрасный героизм и безбашенная удаль персонажей Эбби, списанных с реальных людей и ставших реальными людьми.
В общем, это великолепный, музыкальный, пронзительный роман (и при этом натуральный кинематографичный триллер) о человеческом братстве, об истинном прайде перед отвратительной безликой массой Системы. Он абсолютно необходим для жизни, хотя по-русски его судьба темна. В сети обретается перевод Е. Мигуновой (неведомого мне качества), но была издана книга или нет, история умалчивает.
Шекспир и компания
Продолжение нашего необычайного литературного концерта о вдохновении
В прошлый раз мы немножко не допели Шекспира. Исправляемся и поем, а также немножко читаем.
Это были сонеты 20 и 10. На русском 40-й его сонет известно пела Алла Пугачева:
Ну и № 90, конечно, куда же без него. Сейчас самое время его вспомнить:
А вот 65-й сонет исполнял Валерий Леонтьев:
Микаэл Таривердиев в свое время написал небольшую песенную сюиту, которая так и называлась — «Сонеты Шекспира»:
Вот здесь и здесь немного из того же самого в исполнении Дмитрия Певцова. Ну и Офелию помянем заодно в своих молитвах:
А также самого Барда — хоть стрэтфордского, хоть толкиновского, хоть самого Гомера. Песенка-то хорошая и очень литературная:
После чего затем перейдем собственно к компании и вместе с «The Pogues» вспомним двух великих современных бардов — Леонарда Коэна и Брендана Биэна:
В связи с прошлогодним фильмом все вспомнили об американском писателе и сценаристе Далтоне Трамбо, но мало кто помнит, что вот эту песню вдохновил его антивоенный роман 1939 года «Джонни взял ружье»:
Вообще вдохновение — тема широкая. Кто бы мог подумать, например, что роман Джека Керуака «На дороге» вдохновит вот это:
И тем не менее, это так. А вот будущая культовая писательница Рикки Дюкорне стала музой для отличной песенки «Стального Дэна», о котором мы уже упоминали в свяфзи с чудесами литературного нейминга:
И Дори Дейвис, спевшая однажды у нас в концерте песенку про Дерриду, если помните, вдохновлялась еще и романом Фрэнка Херберта «Дюна»:
А коллектив под названием «Гламурные озера», вдохновившись чтением Томаса Пинчона, произвел на свет такое вот произведение:
О чудесах литературно-музыкального нейминга мы продолжим разговаривать в следующий раз, времени и материала у нас навалом, а закончим наш сегодняшний концерт знаковой песенкой Саймона и Гарфанкела с их классической пластинки, у которой тоже очень книжное название — «Подпорки для книг»:
Несмотря на хорошую погоду, не забывайте читать. Привет.
Где вы только ни побывали, сэр, все-то вы видели
"Мандала Шерлока Холмса", Джамьянг Норбу
Крайне удивительная книжка: написал ее вполне реальный тибетец по-английски, и повествует она о приключениях Шёрлока Хоумза, тем самым являясь частью канона «холмсианы», которая издавна выделилась в отдельный и крайне уважаемый жанр детективно-приключенческой литературы. Как известно по упоминаниям в классических трудах сэра Артура Конана Дойла, после поединка с профессором Мориарти и падения в Райхенбахский водопад, великий сыщик несколько лет провел в Индии и Тибете. Вот об этих потерянных годах и идет речь в мистико-историческом детективно-приключенческом романе — насколько мне известно, первом из Тибета вообще (кто вспомнит что-либо литературное из Тибета, кроме «Книги мертвых»?), не говоря уже про такой жанр.
Роман же довольно линейно повествует о приключениях сыщика, инкогнито приехавшего в Индию и решившего отправиться в Тибет за сокровенными знаниями в сопровождении другого литературного персонажа — Хурри Чандера Мукерджи, героя романа Радъярда Киплинга «Ким». Текст представляет собой откомментированные мемуары этого шпиона, авантюриста и знатока Востока. В Индии Хоумз блистательно распутывает несколько преступлений и покушений на свою жизнь (организованных приспешниками профессора Мориарти, ясное дело), демонстрируя свои фирменные методы дедукции и пользуясь знаниями о местных обычаях, почерпнутыми у своего проводника Мукерджи. После чего успешно перевоплощается в тибетца (кто, как известно по классике, тоже ему удается) и ухитряется проникнуть на запретную святую территорию страны и разыскать там… ну, примерно Шамбалу. От детективно-приключенческого динамичного романа книга плавно перетекает в динамичный мистический триллер. Заканчивается все, ясное дело, распутыванием всех узлов, грандиозным мистически-энергетическим взрывом (намекающим на то, что древние мудрецы Востока имели ядерное оружие), но все, понятно остаются живы и все завершается хорошо.
Книжка выстроена грамотно, наполнена массой полезных и бесполезных сведений об Индии и особенно Тибете. Это потому что автор, живущий в США в изгнании, — патриот, и цель его — помимо завлекательного сюжета еще и познакомить читателя с загадочной своей родиной.
Неочевидные книжки и нежданные радости. В картинках с подписями
Наши литературные новости, о которых вы больше нигде не узнаете
Сначала о новинках:

На днях выпущен долгожданный трехдисковый сет Аллена Гинзбёрга «Последнее слово о первом блюзе». Стоит ли говорить, до чего это прекрасно? Посмотрите лучше трейлер:

Еще одно пополнение корпуса литературы битников: новую книжку выпустил и Гэри Снайдер (он же Джафи Райдер в «Бродягах Дхармы» Керуака).
Новый роман выходит в июле и у Рикки Дюкорне — писателя великого, но совершенно недооцененного в России (потому что слишком хороша для русского читателя, что ли? На русском выходил всего один ее роман, да и то в таком странном виде, что автор бы его сама не признала). Но мы вам сказали об этом, и теперь живите с этим знанием.
Теперь жесткие новости:
На прошлой неделе свое 80-летие отметило издательство «Новые направления», созданное великом подвижником и отличным поэтом Джеймзом Локлином. Это одно из лучших издательств на этой планете, чтоб вы знали.

В Лондоне, как раз в эти дни (до 5 июня) проходит фестиваль Сэмюэла Бекетта, так что у вас теоретически есть шанс что-то посмотреть. Подробности здесь.

А В Дублине полным ходом идет подготовка к Блумздню-2016. Вот программа. Хайлайты: Джойс-автобусом, любимый завтрак Джойса и, конечно, бордель поэзии. Если вы там — не пропустите.
Наше маленькое телевидение:
Один из величайших клоунов, поэтов и музыкантов современности Херман ван Вейн сим объявляет о своих гастролях по Фландрии в 2017 году. Да, это литература, детка, и неважно, что книжки его стихов прилагаются только к компакт-дискам и DVD. В России его адекватно исполняла только Елена Антоновна Камбурова, если кому-то повезло ее видеть на сцене:
Но, конечно, ничто не сравнится с первоисточником - это один из самых известных его номеров:
О другом. Еще в апреле американский ПЕН опубликовал интервью, которое взял Майкл Каннингем у российского координатора издательских программ (и друга "Додо") Ильи Данишевского в рамках его (Каннингема) серии интервью, беромых у (взимаемых с) разных литературных людей по всему миру. Большого ажиотажа по этому поводу у русской публики мы что-то не наблюдали, но чтоб вы потом не говорили, что смотрели в другую сторону, вот все три его части. Обсуждают гомофобию, гомоненависть, цензуру и насилие в современной России, наслаждайтесь:
Теперь мы прекратим быть телевизором и немного побудем картинной галерей.

Угадали, что это? Техасская студентка Рейвен Джонсон у себя в уютном бложике коллекционирует — среди прочего — японские обложки. Вот эти — на «Финнеганов» Джойса. Вы знали, что роман переведен уже на 10 языков, включая, между прочим, турецкий? Стоит ли говорить, что российского языка среди них нет и пока не предвидится?

А вот это — красивый японский Франц Кафка, там же.
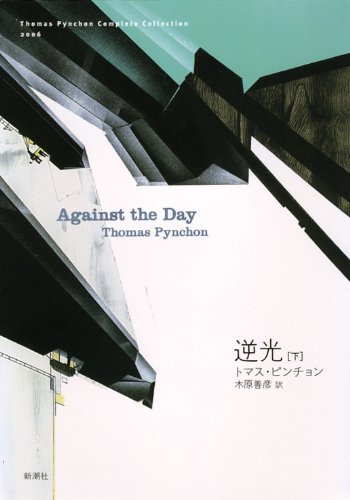
Красивый японский Томас Пинчон.

И наконец — красивый японский Габриэль Гарсия Маркес. Все это происходит в одной реальности с реальностью современных российских книжных обложек.
Вот на этой высокой ноте разнообразных эстетических переживаний мы и прекращаем наш сегодняшний сеанс литературного вещания. Не забывайте читать книжки.
О пользе водных процедур
"Купание голышом", Карл Хайасен

Не новый (но и не слишком старый) роман флоридского регионального (это тамошний аналог русских «писатеолей-деревенщиков», только лучше и гораздо смешней) юмориста Карла Хайасена «Купание голышом» не открывает новых территорий: действие происходит в любимом автором штате, а фон составляет опять же любимая благородная тема — охрана флоридских Болот от хищнического истребления всего живого. И сюжет, в общем-то предсказуем, и герои принадлежат к числу излюбленных автором типажам.
Интрига завязывается, когда биолог Чаз Перроне сбрасывает с борта круизного теплохода свою жену. Но Джои, вопреки надеждам супруга, не тонет, а выплывает, уцепившись ногтями за тюк контрабандной марихуаны, и спасает ее отшельник Мик Странахан, человек, что называется, сложной и интересной судьбы. И вот убиенная жена и ее добровольный помощник решают: а) выяснить, зачем Чазу захотелось прикончить супругу, и б) сделать так, чтобы этому подонку (а он несомненно подонок, хоть и наделенный исключительными сексуальными способностями) белый свет показался с копеечку — т.е. чтобы у него бесповоротно поехала крыша. С такой благородной целью они пускаются в целую череду веселых приключений, осложняющихся вмешательством факторов риска: чудаковатым детективом, расследующим предполагаемое убийство (ибо Чаз утверждает, что супруга покончила с собой в подпитии, начитавшись «Госпожи Бовари») и держащим у себя дома парочку не очень ручных питонов, мерзопакостным агропромышленником, отравляющим Болота химическими удобрениями (как выясняется по ходу романа, на него работает продажный биолог Чаз, скрывая истинные уровни загрязнения, — именно боязнь разоблачения его махинаций женой и послужила причиной убийства), его наемным убийцей, приставленным якобы охранять биолога (еще один любимый Хайасеном тип: тупой дикарь с золотым сердцем, коллекционирующий придорожные кресты, поставленные жертвам автотранспортных происшествий) и прочими занимательными персонажами. Натурально, происходит трудная, но остроумная любовь двух главных положительных героев, а все негодяи встречают свой жуткий конец. А в конце появляется знакомый по «Дрянь-погоде» персонаж: сбрендивший бывший губернатор Флориды, одноглазый отшельник, выступающий этаким добрым духом-защитником природы с нетрадиционными методами воздействия на подонков.
Предсказуемость — в данном случае основное достоинство Хайасена: книги его ровны, остроумны и читаются взахлеб: в довольно типовых сюжетах бездна изящных вывертов, диалоги смешны и афористичны. Ну и потом, много вы читали о Флориде? То-то же.
О взрывном чувстве юмора и его непростой судьбе в России
"Клуб Везувий", Марк Гейтисс

Английский автор Марк Гейтисс (вот как на самом деле произносится его фамилия) — человек в Европе известный: сценарист и актер телевизионного шоу «Лига джентльменов», пишет также в «Гардиан», работает на радио и ТВ, один из самых видных геев Великобритании. Среди последних его работ — участие в телевизионном «Шёрлоке Хоумзе».
«Клуб Везувий» — его первый роман (вернее, как гласит подзаголовок, «фигня всякая») с перспективой к расширению и сериализации: к сему моменту вышло еще, если не ошибаюсь два, не то три продолжения. Подобно «безумному профессору», автор живет в секретной лаборатории Северного Лондона и каждый день принимает перорально семипроцентный раствор чая.
В Британии времен короля Эдуарда существует тайная сеть правительственных агентов (контрразведчиков и диверсантов), которые маскируются под людей света и полусвета и, как правило, работают художниками-портретистами. Главный герой — этакий «Джеймз Бонд» по имени Люцифер Бокс – живет по адресу Даунинг-стрит, 9 (напротив, мы понимаем, резиденции премьер-министра, оправдываясь тем, что «кто-то же должен там жить»), дает уроки рисования красивым дамочкам, по ходу их соблазняет, а параллельно выполняет ответственные задания правительства. Его босса, между прочим, зовут Джошуа Рейнольдз (в книге фигурируют и другие известные персонажи, вроде Обри Бердслея). И вот одно из заданий — разобраться, почему по всему миру вдруг ни с того ни с сего начинают пропадать виднейшие британские ученые-геологи. Далее следует весьма зубодробительный сюжет с погонями, висением над пропастями, разнообразными техническими изобретениями в духе «паро-панка», непременной любовно-романтической историей (страсти в клочья и крайний цинизм в отношениях, потому что все вовлеченные стороны — те или иные тайные агенты). И, естественно, в финале выясняется, что на Земле существует некий сверхсекретный «Клуб Везувий», в который объединились поклонники вулканов и планету намерены к чертовой бабушке взорвать, устроив одновременное извержение всего, что может извергаться. Люцифер Бокс, понятно, всех побеждает и его ждут новые приключения в других выпусках этого крайне занимательного и обаятельного пародийного комикса.
Книга сугубо жанровая, разгильдяйская и уморительная, что делает ее необходимым для нас чтением. Перестать хохотать в голос и хихикать под нос над ней тоже трудно. Русские издатели (как и в случае со многими прекрасными и смешными современными англичанами) щелкают клювом до сих пор и Гейтисса не издают.
Опять отчасти о счастье
«Счастье™», Уилл Фергюсон

Не хотелось бы повторяться после предыдущего рецензента, поэтому детали жизни автора и хитросплетения сюжета, наверное, можно опустить. «Счастье» — это поразительно смешная, грустная и очень мудрая книга. Естественно, при первом взгляде на нее глаз останавливается на словах, подписанных именем одного из самых внятных и вменяемых английских писателей конца ХХ века — Джонатана Коу: «Злорадная сатира на индустрию самопомощи… Обязательное чтение для тех, кто еще помнит, как смеяться и не отключать при этом свои мозги». Один из тех редких случаев, когда рекламный текст не врет.
Книга — все это, но не только. Она не просто сатира на бессчетное количество руководств для желающих похудеть или бросить курить. Это одновременно и сатира на издательский бизнес вообще, «поколение Х», хиппи, политическую корректность и большую часть основных понятий западной культуры ХХ века, которые так быстро становятся заразными и в этой стране. «Эта страна», кстати сказать, также становится предметом нескольких очень остроумных шуток (в частности — священная для всех правящих у нас режимов торговля оружием). Если употребить популярное у критиков клише, от культурной (или поп-культовой) надстройки западной цивилизации Фергюсон «не оставляет камня на камне». Причем, автор высмеивает ее в таких говорящих деталях, которые будут легко понятны даже слегка тормозящему в отношении современной мировой культуры русском читателю (одно упоминание о популярном европейском графомане с итальянским именем, написавшем 800-страничный роман «Название тюльпана» и на волне его успеха ставшем записным произносителем афоризмов по 500 долларов за штуку, чего стоит). Цитировать и пересказывать их можно очень долго, но в целом юмор «Счастья» состоит, разумеется, не просто из череды гэгов и острых диалогов: в книге легко прочитываются аллюзии и пародии даже на такие бесспорные и любимые народом шедевры контркультуры, как «Странник в странной стране» (сиречь «Чужак в земле чужой») Хайнлайна или «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Баха.
Одновременно, это — гимн несовершенной человеческой природе, печальный и вместе с тем жизнеутверждающий. В самом деле, счастье не есть некоторое фиксированное состояние, которое можно обрести прочитав универсальное пособие по тому, как стать счастливым раз и навсегда. Счастье, наверное, — вечное движение, стремление к недостижимому идеалу, а именно оно является движущей силой любого прогресса. Фергюсон очень разумен и интеллигентен в изложении своего видения всей истории человеческой цивилизации вообще, но теоретические выкладки его героев не выглядят невнятным высоколобым бормотанием — они очень остроумны и афористичны. Сам сюжет выстроен так, чтобы подкреплять основной тезис автора: не надо нас подлечивать — любые попытки навязать нам идеологию довольства (или любую иную идеологию) оборачиваются тоталитарным культом, бессмысленностью и духовным опустошением; мы — в первую очередь люди, и мы сами способны «отработать свою карму».
Милые москвичи и все такое
«Среди милых москвичей», А. П. Чехов

Раньше до этого «тематического» сборника руки как-то не доходили, а тут пришлось вот — в связи с заходом на Чехова по делу. Читая его журналистские фельетоны, которые раньше мне не попадались, понимаешь — он вполне был русским Майлзом для Москвы 1880-х: эпоха, видимо, щедро дарила возможность смеяться над нравами (это потом все как было уже не до смеха) — да и роль резонера есть та, в которую впасть довольно легко. Чехову, как чужаку в Москве, это вполне удалось. Майлз, как мы помним, полвека с лишним спустя и в другой стране тоже оставался сторонним наблюдателем. А московские нравы, надо заметить, за полтора века изменились мало — и тогда, и теперь, Москва остается отвратительным, неудобным для жизни, безалаберным и веселым городом. Не хуже Дублина, я полагаю. Например:
«Кстати, о его высокоблагородии полковнике Петрашкевиче, взявшем на себя любезность поливать в дождливые дни наши мокрые улицы (за 60 000, кажется). Сей полковник отлично рассказывает анекдоты, превосходно каламбурит, и нет того кавалера и той барышни, которые видели бы его когда-нибудь унывающим. В этом же году он весел, как проезжий корнет, и каламбурит даже во сне. Говорят, что он рассказывает теперь чаще всего смешной анекдот об одном полковнике, который положил в карман 50 000 на за что ни про что, только за то, что все это лето шел дождь!» («Осколки московской жизни», 7 июля 1884 г.)
Узнаете трактора, что катаются вокруг домов московских обывателей — до сих пор в любое время дня и ночи — и больше ничего не делают? Разница лишь в том, что нынешние оборудованы GPS. Но отрадно понимать хотя бы, что это бардак с традицией.
По тексту вообще выходит, что «милые москвичи» — адский сарказм, ибо публика это, по преимуществу, неприятная. Чехов вообще пал жертвой советской вульгаризации. Все наверняка помнят расхожую цитату «Без труда не может быть чистой и радостной жизни» — этот лозунг вдалбливался всем школярам страны советов с кумачовых тряпок, растянутых в кабинетах литературы. Так вот, если присмотреться к контексту, это не лозунг — это пошлятина, применяемая Лаптевым в «Трех годах» для того, чтобы охмурить провинциальную барышню. За эту фразу Лаптев потом корит себя еще целую страницу.
Впрочем, дело не только в советской вульгаризации — парадигма за эти полтора века вообще сменилась так, что ее мама родная не узнает. Например, в «Попрыгунье» нет ни грана «юмора», за который этот рассказ превозносил Толстой. Или граф имел в виду «гуморы»? Поди знай теперь. Рассказ же исполнен звериной прямо-таки серьезности, да и бровки там всю дорогу пресловутым домиком.
Вообще, конечно, фирменные чеховские персонажи теперь ужасно раздражают. Нет бы заняться чем-то осмысленным и полезным, да? Вполне нормальна и современна, пожалуй, лишь персонажица «Хороших людей», уехавшая куда-то «прививать оспу» (да и то на это решение у нее уходит несколько лет и весь рассказ), да «особа» из «Трех лет», которая занимается хоть чем-то и особо при этом не ноет. Несомненно положителен и Дымов из "Попрыгуньи", но подан он косвенно, чужими глазами и так же редок в чеховском пантеоне персонажей, как редки такие люди и в реальной жизни. В любом случае, он много не разговаривает и вообще тютя и рохля. А это, см. выше, раздражает.
Я, конечно, в курсе, что Чехов и был «певцом» бессмысленности русской жизни, но именно здесь и сейчас это стало наглядно — бессмыслен весь спектр русского существования, от мужиков и люмпенов до мещан, купцов, разночинной интеллигенции и дворянства. Все они мало чем отличаются друг от друга — разве что речевыми характеристиками. И сострадания в изображении всего этого зверинца как-то тоже не очень заметно, я не знаю, куда смотрели критики былых времен. Ничего человеческого.
Сплошной, в общем, натурализм, вполне беспощадный. Не жалко при этом никого. Чехову персонажа вывести в тексте — что лягушку препарировать, с холодным интересом натурфилософа. А весь гуманизм остается на уровне прокламации — он провозглашается либо просто обозначается, верится же в него с трудом. Вестись на него могли разве что прекраснодушные «народники» (этим лишь бы за «идею» зацепиться), да обманутые троцкистско-пролеткультовским образованием учительницы литературы. А уж сколько юношеских судеб скособочено навязанными им стереотипами уродливых отношений, даже не перечесть.
Однако программу свою — описать весь русский экзистанс так, чтобы «возбудить отвращение к этой сонной, полумертвой жизни», по выражению Горького, — Чехов выполняет превосходно, тут не поспоришь. Действует, как видим, до сих пор. Понятно, что Горький при этом реализовывал свою, вульгарно-классовую программу. Нет у Чехова раздвигания пределов реализма до невозможности, да и убийства реализма нету никакого — это все та же хоженая-перехоженная натуралистическая школа Золя (вот кто угорал-то). Чехом попросту перешагнул через социальный реализм, как мы привыкли его понимать, — своей невовлеченностью, отстраненностью, холодным взглядом препаратора и «объективными» методами клинициста Чехов стоит уже в модернизме. Эдаким незаметным звеном русской классической литературы, и ключ здесь — «полное равнодушие к жизни и смерти каждого из нас» («Дама с собачкой»). Проживи он дольше — «Улисса», может, и не написал бы, но к Бекетту был бы ближе, чем принято сейчас считать. А Флэнна О’Брайена я уже упомянул.
Дуб годится на паркет
Наш ослепительный (как обычно, впрочем) литературный концерт
В это последнее воскресенье апреля (месяца, который был, мне кажется, не особо жесток к нам, см. уместную поэзию —
— по этому поводу) нет ничего лучше как немного поговорить о литературной сказке. Наш маленький дивертисмент начинается с русской классики:
Перенесемся ненадолго в несколько иное Лукоморье: вся пластинка этого ирландского коллектива основа на кельтской мифологии и посвящена собственно судьбоносному угону быка, наслаждайтесь:
Сказочные персонажи возникают в песнях ХХ века не раз и не два — видать, велика тоска по Лукоморью. Вот дама Шёрли Бэсси спела песню Руфуса Уэйнрайта о жилищном вопросе — и в ней не обошлось без Золушки, конечно (как и некоторых других барышень):
Золушка вообще один из любимых песенных персонажей — в одной из любимых песен:
Но не только преданья старины глубокой (tm) вдохновляют — «13½ жизней Капитана Синего Медведя» Вальтера Мёрса превратились в прекрасный, как это раньше называли, диско-спектакль:
А иногда бывает так, что сказки сплетаются в причудливый узор. Взять, к примеру, группу «Мордор», поющую песенку группы «Потерянный рай»:
Мы плавно перетекли тем самым к чудесам литературного нейминга, и вот вам не самый очевидный пример: «Эсбен и ведьма» — датская народная сказка:
Группа «Серебряный трон» назвалась в честь четверного романа К. С. Льюиса из «Хроник Нарнии»:
Еще одна чудесная перекличка — название валлийского коллектива «Палки Пуха», в честь игры из романа Алана Милна (там, если помните, их с моста надо было кидать). Песенка тоже как бы доносится до нас из Тысячеакрового леса:
Без Льюиса Кэрролла, конечно, не обошлось — вот вполне забытый психоделический коллектив, впоследствии разделившийся почкованием на «Группу Стива Миллера» и «Странствие», смело взял себе названием имя, пожалуй, самого психоделического персонажа из дилогии об Алисе: «Злопастный Брандашмыг».
Ну и раз уж у нас, так вышло, год Шекспира (хотя у нас, к примеру, таков каждый год, noblesse oblige), помянем еще пару упоминаний: группа с незамысловатым названием «Офелии» (мн. ч., не дательный падеж… гм, скорее уж датский) поет песню о кролике. Каком — догадайтесь сами:
Сочиняя «Гамлета», Шекспир вряд ли думал, что его пьесы разойдутся на цитаты (хотя мог на это надеяться, конечно, ибо работал в театре). Но уж точно не знал, какие именно пойдут в народ. «Этот бренный шум» (по версии М. Лозинского) был увековечен не раз и не два, в частности — в историческом скетче «Монти Питонов» о дохлом попугае. Откуда оборот и был потырен одноименной группой:
Еще один коллектив с шекспировско-сказочным называнием — проект «Оберон». Сегодня они у нас в программе с песней о фениксе:
Раз уж у нас речь зашла о Шекспире и Руфусе Уэйнрайте, вот они оба, дуэтом — с 20-м сонетом:
Ну и по сложившейся традиции наш концерт мы заканчиваем манифестуальным гимном книгам, писателям и литературе. Признайтесь, этой песни вы ждали давно — и у нас она сегодня будет с неожиданными бонусами:
На этом пока все, увидимся через месяц. Всегда ваши, литературные песни.
О дедушке Ленине
"Ленин", Фердинанд Оссендовский

Я как-то обещал о дедушке-ленине (тм) - вот, извольте; сейчас как раз самое время.
Это одна из самых своеобразных книжек, что мне попадались в последнее время. Многое в ней объяснил бы подзаголовок, которого в русском издании (странного издательства «Партизан») нет, но оно присутствует в некоторых польских и английских — «Бог безбожников». Начинается он как детская агиографическая книжонка какой-нибудь Зои Воскресенской, но с самого начала речь идет о непростых отношениях маленького Володи Ульянова с господом богом и русским крестьянством. Эти маркеры и задают тон последующему адскому нарративу, который развивается в жанре экспрессионистского романа «с идеями» (экспрессионистскому до того, что местами напоминает «Два мира» сибирского писателя Зазубрина, который надо бы перечитать). С одной поправкой — «Володя Ульянов» в нем персонаж во вполне альтернативной истории ВОСР: подставьте любое другое имя, и будет вам вполне европейский роман о становлении циничного и отвратительного диктатора, не лучше и не хуже других подобных диплодоков. И как персонаж он вполне убедителен, пусть и неисторичен.
Эпиграфом к ней вполне могла бы служить известная строчка Летова «Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь» (цитирую по памяти). Продолжая цитату, конечно, ясно, что он — такое же говно, как «все другие остальные», но это мы и без Оссендовского знали. Автор, исходящий из незамутненной ненависти к большевикам, наглядно, хоть и не весьма достоверно реконструирует генезис чудовища, вся мотивация которого основана на мести царизму (за брата, понятно) и такой же ненависти к примерно всему живому, в первую очередь — русскому крестьянству, а уж затем, по ассоциации, всему народу, интеллигенции, демократии и западному парламентаризму. Он, то есть, сознательно лепит из себя тирана, хоть и несколько мучается при этом, вплоть до сознательного устройства гражданской войны как инструмента контроля масс (мы-то традиционно вроде как считаем, что оно само так вышло — хотели как лучше, а получилась гражданская война, ан нет — таков изначально был дьявольский план).
И пусть Оссендовский не поминает Инессу Арманд (а вводит каких-то других баб, помимо Надежды Константиновны) и сифилис — это, в итоге, не так уж и важно. Как ни странно исторический неисторизм его оказывается вполне правдив. Время все расставило по местам всего каких-то сто лет спустя. Сейчас становится ясно, что пропагандистская фантазия этого польского авантюриста вполне сбылась, вот только по пути произошла подмена: потомки чекистов и сталинских бюрократов, всей этой люмпенизированной сволочи кооптировали продажную православную церковь, которая теперь (в отличие от идеализированных представлений о ней у Оссендовского), подобно вокзальной бляди, вовсю подмахивает их интересам. Так что автор прав: разложить народ и развратить его вседозволенностью большевикам в 1917 году было сравнительно легко и вполне удалось.
Неизбывная притягательность непонятных текстов
"Загадка магического манускрипта", Джерри Кеннеди, Роб Чёрчилл
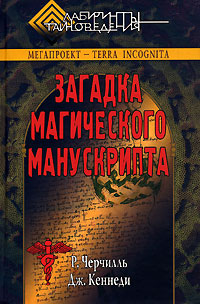
Нехудожественная книга, которая читается как увлекательнейший роман (что там в переводе изд-ва «Вече», правда, не знаю — сам-то читал ее (книгу, не саму рукопись) в оригинале и оторваться натурально не мог; оформление русского издания не внушает доверия). Труд Джерри Кеннеди и Роба Чёрчилла посвящен истории так называемого «манускрипта Войнича» — одной из немногих подлинных загадок, доживших до наших дней неразгаданными. Зато появилось ненулевое количество арт-проектов, им вдохновленных (типа «Кодекса Серафини» и тому подобной лабуды).
Уилфрид Войнич (супруг Этель Лилиан, автора «Овода») в 1912 году (после периода революционно-подрывной деятельности против царской власти в России) стал вдруг антикваром и приобрел (есть версия, что сомнительным образом) некий манускрипт, над расшифровкой которого бьются уже сто лет и ни на шаг не приблизились к разгадке. Текст написан на непонятном языке (или до сих пор не взломанным шифром или кодом), а иллюстрации повергают в смятение всех, кто их видит. Авторство манускрипта тоже практически не установлено.
Книга Кеннеди (дальнего родственника Войничей) и Чёрчилла (специалиста-криптографа) представляет собой изложение истории всех попыток расшифровать манускрипт, приводит практически все версии касательно его содержания, по времени — относительно свежа и обильно иллюстрирована кусками оригинала. На русском литературы о «манускрипте Войнича» практически нет, за исключением глухих упоминаний и отдельных поверхностных статей, между тем как во всем мире он остается культовой загадкой и ему посвящена довольно обширная библиотека трудов, как популярных, так и специальных (трактатов, посвященных разным версиям расшифровки). В последнее время наблюдается новый всплеск интереса к нему, поскольку библиотека Йельского университета, где хранится манускрипт, издала его в полном виде репринтом и вывесила сканы страниц в интернете.
А теперь прекратите грызть ногти…
…и послушайте нас
Да-да, это наши обалденные литературные новости, о которых вы вряд ли узнаете откуда-то еще.
Новости науки:

Всем читавшим «Барочный цикл» Нила Стивенсона небезынтересно будет узнать, что обнаружен еще один «псевдонаучный» манускрипт сэра Айзека Ньютона. Таким образом, его «Алхимический цикл» получил продолжение. Это вам не первый фолио Шекспира, это покруче будет.

Меж тем, «концептуальный биолог» д-р Саймон Парк (да-да, один из тех самых «британских ученых») вырастил из цветных бактерий экземпляр «Происхождения видов» Дарвина. Вот это действительно новое слово в книгоиздании, мы считаем. А здесь можно посмотреть галерею каляк-маляк, которыми дети Дарвина изрисовали его труды.
Новости театра:

Не очень новость, но вы знали, что по мотивам «Древних вечеров» Нормана Мейлера два года назад снята эпическая видео-опера? Древний Египет, Джеймз Джойс, Питер Гринуэй, Уильям Гэддис и Томас Пинчон намешаны в ней в равных пропорциях. Вот, кстати, хорошее интервью Нормана Мейлера.

«Космический триггер», пьеса Дейзи Эрис Кэмбл по мотивам работ Роберта Энтона Уилсона, намечена к перевыпуску на май 2017 года в Лондоне и Санта-Крусе. Дискордианцы всего мира уже радуются.
Новости синематографа:

Читателям Филипа Пуллмена приятно будет знать, что «Би-би-си» одобрили наконец разработку сериала по «Темным началам». Писать его будет вот этот счастливый паренек — Джек Торн, один из крутейших английских телесценаристов (на его месте мы бы тоже были счастливы — темные материалы-то благодатны). В «Песочном человеке» по Нилу Гейману он тоже участвует. Как, вы и про «Песочного человека» не слыхали? Вот видите, до чего полезны наши новости.

Не такая радостная новость, но поучительная. Сэр Иэн Маккеллен вернул издателям аванс в 1,4 миллиона долларов — он больше не хочет писать мемуары.
Новости музыки:

«Международная амнистия» собирается выпускать детскую книжку с картинками — песню Джона Леннона «Представь себе» в новом формате.
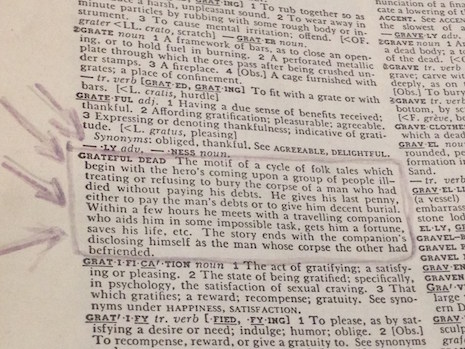
А это — словарь, из которого Джерри Гарсия почерпнул название для своего коллектива. Мораль — читайте словари, дети, и будет вам долгая творческая жизнь.
Новости литературы:

Еще одна находка, на которую не очень-то обратили внимание на этих территориях. Обнаружен немецкий оригинал романа Артура Кёстлера «Слепящая тьма». — книги, известной всему миру только в переводе.

Про Очень Дорогой Стул Джоан Роулинг слыхали, наверное, все (как будто литературный талант передается осмосом или через седалищный нерв), а вот про письменный стол Сола Беллоу — маловероятно. Его никто не купил даже за какие-то несчастные 10 тысяч долларов. Видимо, во всем этом для нас должен быть какой-то урок. Хотя с такой мебелью писательский кабинет мог бы получиться хоть куда.
Также занимательное окололитературное чтение — о глазах Франца Кафки и Париже Сэмюэла Бекетта.
Местные новости:

Как мы уже не раз сообщали, кампания по сбору средств на издание гениальной книги журналистской прозы Фрэнна О'Браена "Лучшее из Майлза" успешно завершена с горкой, но проект идет полным холом, и на следующей неделе книга уйдет в редактуру. Будем извещать.
Дружественный нам журнал "Пыльца" не только кино про Дэвида Фостера Уоллеса показывает, но и развил бурную деятельность по опылению окружающих пространств семенами правильной литературы: у них в разработке сейчас аж два следующих номера — "Секретный" (как сама интеграция) к грядущему всемирному празднику, Дню Пинчона на Людях, и следующий, посвященный Дону Делилло.

А уже завтра в Доме Черткова — встреча с Сергеем Кузнецовым, самым "пинчонутым" русскоязычным писателем, у которого вышел, без преувеличения, самый ожидаемый роман этого года. Там и увидимся.
На этом пока все, не забывайте умываться по утрам и настраиваться на литературную волну Радио «Голос Омара».
Ждем весны
"Подожди до весны, Бандини. Дорога на Лос-Анджелес", Джон Фанте
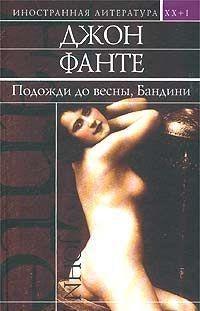
Джон Фанте родился в штате Колорадо в 1909 году. Учился в приходской школе города Боулдера и в средней школе «Регис» Ордена иезуитов. Также посещал Университет Колорадо и городской колледж Лонг-Бича.
Начал писать в 1929 году, а в 1932-м его первый рассказ опубликовал журнал «The American Mercury». Множество рассказов после этого печаталось в журналах «The Atlantic Monthly», «The American Mercury», «The Saturday Evening Post», «Collier's», «Esquire» и «Harper's Bazaar». Его дебютный роман «Подожди до весны, Бандини» вышел в 1938 году. На следующий год увидел свет роман «Спроси у праха», а в 1940-м — сборник рассказов «Макаронное красное».
Литературная атмосфера Америки тех лет отразилась на писательской судьбе Джона Фанте вполне типично. В 1933 году он жил на чердаке Лонг-Бича и работал над своим первым романом «Дорога на Лос-Анджелес». «У меня есть семь месяцев и 450 долларов, за которые я должен написать свой роман. По-моему, это довольно шикарно», — писал Фанте в письме к Кэри Макуильямз, датированном 23 февраля. Фанте подписал контракт с издательством «Knopf» и получил задаток. Однако, за семь месяцев романа не закончил. Только где-то в 1936 году он переработал первые сто страниц и несколько сократил книгу. В недатированном (около 1936 года) письме к Макуильямс Фанте пишет: «“Дорога на Лос-Анджелес” окончена и господи! как же я доволен... Надеюсь отослать ее в пятницу. Кое-что в ней опалит шерсть на волчьей заднице. Может оказаться слишком сильным; т. е. не хватает "хорошего" вкуса. Но это меня не волнует». Роман так и не был опубликован — видимо, тему в середине тридцатых сочли слишком провокационной.
Роман вводит «второе я» Фанте — Артуро Бандини, который появляется вновь в «Подожди до весны, Бандини» (1938), «Спроси у праха» (1939) и «Грезы Банкер-Хилла» (1982). Издатели не баловали Джона Фанте частыми публикациями — «...не лучшее время для литературы, знаете ли...», — и на хлеб он зарабатывал неблагодарным трудом сценариста: жить и работать в голливудских конюшнях возможно, однако о самовыражении и творчестве не могло быть и речи. Некоторые фильмы, в создании которых участвовал Джон Фанте, входят в классику американского мэйнстрима середины прошлого века: «Полнота жизни», «Жанна Игелс», «Мы с моим мужчиной», «Святой поневоле», «Кое-что для одинокого мужчины», «Шесть моих любовей» и «Прогулка по дикой стороне».
В 1955-м Джон Фанте заболел диабетом, и осложнения недуга в 1978 году привели к слепоте. Однако он продолжал писать, диктуя своей жене Джойс. Результатом стала его последняя книга «Грезы Банкер-Хилла», выпущенная в 1982 году издательством «Black Sparrow». Скончался Джон Фанте 8 мая 1983 года в возрасте 74 лет.
Честь «повторного открытия» его для американской читающей публики принадлежит, конечно, «Черному Воробью» — издательству, знаменитому своим почти безупречным литературным вкусом. Каталог Джона Фанте в нем относительно невелик — десяток нетолстых книжек и два тома писем (включая длившуюся более двадцати лет переписку с великим филологом и лингвистом Х. Л. Менкеном), — но стоит множества иных фолиантов. Стиль Фанте глубоко традиционен, без изысков, язык певуч и прозрачен, авторская речь так пряма и честна, что многие считают писателя предтечей американского литературного андерграунда 60-х годов. Чарлз Буковски, на всю жизнь благодарный Фанте, писал в предисловии к переизданию романа «Спроси у праха»:
«...Как человек, отыскавший золото на городской свалке, я пошел с книгой к столу. Строки легко катились по странице, одно сплошное течение. В каждой строке билась собственная энергия, а за нею — еще строка, и еще, и еще. Сама субстанция каждой строки придавала странице форму, такое чувство, будто что-то врезано в нее. Вот, наконец, человек, не боявшийся эмоции. Юмор и боль переплетались с изумительной простотой. Начало этой книги явилось мне диким и невозможным чудом...»
«Конечно же, это далеко не вся история Джона Фанте, — писал Хэнк дальше. — Это история кошмарной удачи и ужасной судьбы, редкого прирожденного мужества... Но позвольте мне все-таки заметить, что слова его и жизнь его одинаковы — сильны, добры и теплы...»
У меня есть мысль. И я ее думаю
"Думают...", Дэвид Лодж
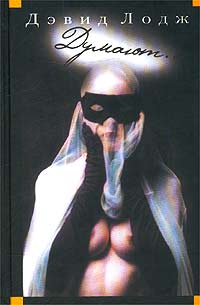
Одиннадцатый роман почетного профессора современной английской литературы Бирмингемского университета Дэвида Лоджа исследует с одной стороны хорошо знакомую автору территорию, поскольку действие его происходит в провинциальном английском университете, а с другой призван познакомить читателя с той дисциплиной современной науки, о которой вообще пока мало кто знает, кроме специалистов, — с когнитологией, наукой о мышлении.
Роман филолога и теоретика Лоджа естественным образом литературоцентричен. С одной стороны, это вроде бы бессобытийная романтическая история о романе между университетским профессором и одним из ведущих мировых авторитетов в области создания искусственного интеллекта Ралфом Мессенджером (одновременно — признанным донжуаном, свой интеллект использующим преимущественно, чтобы разработать тактику ухаживания за каждой новой женщиной и скрыть роман от жены) и популярной писательницей Хелен Рид, незадолго до этого похоронившей мужа, а теперь приехавшей в университет на один семестр вести курс творческого письма. Роман между ними разворачивается на фоне традиционно представленной «комедии нравов» академической среды конца 90-х годов: интриги преподавателей и администраторов, политиканство, сплетни, измены.
С другой стороны, «Думают…» — вариация «романа идей», когда сюжет, стиль, повествовательные техники призваны иллюстрировать, прояснять или комментировать какие-то положения научного дискурса. В этом автор по-своему изобретателен: он чередует автоматическое письмо или диктовку (аудиодневник Мессенджера), фрагменты литературного дневника Хелен (сознательное письмо) и элементы эпистолярного жанра (их переписка по электронной почте) с фрагментами «литературы факта» (безоценочное изложение событий в настоящем времени) и традиционной повестовательностью всезнающего автора, тем самым демонстрируя как разные модусы функционирования сознания, так и едва ли не полный спектр литературных стилей ХХ века (что усиливается остроумными стилистическими пародиями на ведущих британских писателей, якобы сочиняющих эссе и скетчи о проблемах сознания).
С такой точки зрения, прочитывать книгу, бесспорно, интереснее: Лодж использует различные методы повествования, чтобы показать, в конечном итоге, что не сколько наука способна дать ответ на вопрос «что такое человеческий разум и как он работает?», сколько прямая транскрипция процесса мышления или творческая функция сознания, т.е. искусство, в особенности — литература. По убеждению Лоджа, ни один искусственно построенный компьютер не сможет стать счастливым или заменить человеческий разум, в своих проявлениях гораздо более богатый: он способен на скорбь, на веру в бога, на прощение. Фактически, представляя читателям более-менее полную картину исследований сознания ХХ века, автор довольно цинично и виртуозно ставит эксперимент на своих героях — живых людях, — помещая их в разнообразные ситуации и проверяя реакции. Естественно, он не дает ответы на некоторые насущные вопросы современной науки, самой структурой романа заставляя думать над ними читателя. Насколько ему это удается — вопрос отдельный.
Их именами названо… что-то
Обещанное продолжение нашего поименного литературного концерта
В прошлый раз мы начали с более очевидных литературных названий и пообещали постепенно перейти к менее очевидным. Но это не потому, что у нас закончилась литературная музыка или истощились очевидные литературные названия творческих коллективов — и того, и другого будет еще в избытке. И вот первый тому пример:
«Мариллион» в свое время взяли название у Толкина, но сократили его, чтобы к ним не было вопросов у хранителей… авторского права. Раньше это была совершенно другая группа, но именно в этом своем составе они поют песенку, вдохновленную шотландским писателем Дж. М. Барри и его Питером Пэном. А вот еще воспоминание об одном старом коллективе с литературным названием: «Супербродягой» они когда-то назвались в честь книги валлийского писателя У. Х. Дейвиса «Автобиография сверхбродяги», вышедшей в 1908 году.
Но теперь о ней мы можем только ностальгически вздыхать, слушая песню Роджера Ходжсона о пользе школьного образования (про науку логику у него тоже есть, как известно, но ее мы прибережем для следующего научного концерта). А следующей в нашей сегодняшней программе будет еще одна группа с литературным именем. «Бархатным подпольем» называлась документальная книга американского журналиста Майкла Ли о парафилии, вышедшая в 1963 году. Отсюда и коллектив, про который говорят, что на их первом концерте было 400 человек, после окончания все разошлись, и каждый основал собственную рок-группу.
Началось же все с книжки. …Ну и «Венеру в мехах» Захер-Мазоха в памяти освежили. Так же не повредит вспомнить совершенно культовую группу, взявшую своим названием имя персонажа из «Нагого обеда» Уильяма Барроуза — Стальной Дэн:
Барроуз, как известно, стал крестным отцом еще одного коллектива — «Мягкой машины», названной в честь его романа 1961 года:
А вот уже из области причудливого: мало кто помнит уже, что потешный коллектив «Страйпер» не только играл "христианский глэм-метал" (или как этот извод у них там называется), но и название себе выбрал по Библии: Книга пророка Исайи, 53:5 — «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились».
Из-за хитросплетений канонических переводов ребята по-русски назывались бы «Ранетыми», и песенка про Яхве у них тоже имеется, но мы опасаемся оскорбить чувства каких-нибудь верующих, поэтому просто посмотрите на клоунов. А мы тем временем переходим к следующему номеру нашей программы — творческому коллективу из Петрозаводска с названием историческим и политическим, но зато о ком песня-то, а? а?
Дальше у нас одна из самых литературных групп в ойкумене — «Хоквинд». Какую роль при становлении их названия сыграл английский творец миров Майкл Муркок, — по-прежнему тема для обсуждения, но то, что они потом совместными силами создали вполне занимательную вселенную, по-моему, бесспорно:
Русская литература оставила много следов в мировой рок-музыке, а вот современная русская литература — как-то не очень. Один из примечательных примеров — «Река Оккервиль» в честь рассказа Татьяны Толстой:
Ну и по поводу успешно заканчивающейся краудфандиновой кампании по сбору средств на издание «Лучшего из Майлза» Флэнна О’Брайена — песня группы «Шрикбэк» «Король на дереве», вдохновленная его классическим романом «У Плыли-две-птички», почему-то больше известном на этих территориях под названием «О водоплавающих»:
А закончим мы, по традиции, песенкой о книгах вообще. Кстати, название этого коллектива тоже очень литературное: «Красотка и Себастьен» — это детская повесть французской писательницы Сесиль Обри о шестилетнем мальчике и его собаке, вышедшая в 1965 году и неоднократно экранизированная.
С новыми, еще более причудливыми чудесами литературного именования мы вернемся к вам через месяц. Не пропадайте из нашего буквенного эфира.
Идеальное экологичное чтение
"Зодиак", Нил Стивенсон
«Зодиак», вы удивитесь, — чтение, близкое к идеальному. Главный герой, он же рассказчик — человек знающий, что делает и что делать (мы уже давно для себя поняли, что профессионалы за работой в книгах — это лучше, чем распиздяи за бездельем; особенно если автор знает, о чем говорит; у Пинчона это освежало, здесь — тоже приятно). Мало того — он лихой балагур и отличный рассказчик (опять необходимый дисклеймер: я не знаю, что там в русском переводе творится). А главное, что помимо сюжета — вполне триллерного, с поворотами, подставами, теориями, догадками, тем и этим, присутствует по-настоящему важная и животрепещущая тема: защита природы. Т.е. животрепещущая — это пока еще есть что защищать.
Поясню. Когда следишь за перипетиями и хитросплетениями, подводящими к раскрытию какой-нибудь криминальной, финансовой или политической загадки, вскрытию интриги и т.д. у какого-нибудь прости-господи Гришэма или Дика Фрэнсиса, это как-то… ну, мелковато. С юристами Уолл-стрит (я обобщаю) или жокеями ипподрома себя не очень проассоциируешь (разве что с лошадками, читая Фрэнсиса), а тут понимаешь, что загрязнение Бостонской гавани, как ни странно, касается и тебя. Особенно если тебе подробно растолковывают, что с тобой после этого станет. Ну и натянуть государство или крупную корпорацию — вообще любимый аттракцион, особенно если изобретательно и с хорошим чувством юмора.
Кроме того, эко-террористы — излюбленный тип изгоев и героев (в т.ч. литературных), если они не идиоты, конечно, а такие, как у Стивенсона (да, я знаю, что в «Зодиаке» они подчеркнуто НЕ-террористы, сути это не меняет). Потому что у него они продолжают традицию Эдварда Эбби и выглядят двоюродными братьями и сестрами Карла Хайасена.
А еще из смешных черточек героя-рассказчика (только не сообщайте об этом автору, он явно не имел этого в виду, он явно не видит в этом никакой иронии, он этого никак не подчеркивал, для него это само собой разумеется) — защитник природы, эко-боевик, химик, ныряющий в самую гущу токсических отходов, если нужно, — сильно болеет, просто порезав ногу на свалке. Потому что, как все американцы, напрочь лишен иммунитета.
Трудное счастье
"Воспоминание о счастье, тоже счастье…", Сальваторе Адамо

Книгу бельгийского эстрадного певца Сальваторе Адамо «Воспоминание о счастье, тоже счастье…» никоим образом нельзя расценивать как автобиографию. Это первый — и пока единственный — роман одного из самых популярных исполнителей ХХ века, основанный на автобиографическом материале, но по сути — художественное произведение, и расценивать его иначе было бы грубой ошибкой в восприятии авторского замысла. История жизни сицилийского мальчика изложена весьма поэтично и нежно: родившись, как и Адамо, на Сицилии, «где солнце — в самих сердцах людей», его герой Жюльен отправляется на поиски счастья и лучше доли на север, в «землю угля и туманов». Оказавшись в индустриально-промышленной Бельгии, мальчик (по сути, инородец, хоть и с бухгалтерским образованием) устраивается в универсальный магазин продавцом в секцию женского белья. Его быстро увольняют, он попадает в похоронное бюро, где для работы не требуется особой подготовки. Развивается бесплодный роман с дочерью владельца бюро — сам по себе сюжет безысходный и никчемный, пронизанный экзистенциальным одиночеством и тщетой бытия, и все это — на фоне тонко прописанной микровселенной, где трагизм сочетается с абсурдом, а хохот — с тонкой чувственностью.
Чтобы избежать этого мрачного зверинца, Жюльен принимается за живопись, но от настойчивой наследницы похоронного бизнеса нет отбоя. Его же не оставляют воспоминания о своей детской любви — виолончелистке Шарли. Благодаря странному стечению обстоятельств они встречаются снова…
Как ни странно, архитектоникой своей книга больше всего напоминает компиляцию из Харуки Мураками (к примеру, «Норвежского леса» и «К югу от границы»), плюс что-то от интонации Сартра — но, разумеется, сюжет излагается поэтичным и музыкальным пост-прустовским языком, что, само по себе, беда небольшая — при внятном-то сюжете. А сюжет вполне строен и духовно оправдан. Для певца, поэта и композитора, никогда не занимавшегося прежде чистым литературным творчеством, «Воспоминание» — работа удивительной силы и красоты.
Искусство власти оккультизма
"Николай Рерих. Искусство, власть, оккультизм", Эрнст фон Вальденфельс
Автор, конечно, подставился в предисловии, сказав, что в 2004 году и слыхом не слыхал, кто такой Рерих, а Тибет полагал нерушимой твердыней. В 2011 году, напомню, книжка уже вышла, поэтому первая реакция нормального человека «с тем и этим в голове»: мальчик, кто ты такой, иди отсюда, да мы вместе с Рерихом вместе Берлин брали и в окопах Сталинграда мерзли.
Но по ходу выяснятся, что за отчетный период автор все же провел некоторую работу и написал вполне годный криптоисторический нарратив (неполный, конечно, о полном даже мечтать нельзя). Получилась нормальная контрарианская биография, в меру уважительная, в меру разоблачительная. Автор взял и проанализировал высказывание Рерихов, разложив его на составляющие.
Во-первых, что они говорили миру о нем: это понятно — они отвечали на широкорастворенный запрос заполнить лакуну в мировосприятии, голод по таинственному и «ультрадуховному», который не избылся и в 1980-х, когда их тексты и манифесты читали и изучали мы (и особенно в этом период, надо заметить).
Во-вторых — что они говорили миру о себе. Тут все несколько сложнее, потому что транслируемое высказывание довольно быстро (когда мы за него взялись, во всяком случае — и, судя по свидетельствам современников, даже когда оно произносилось) истощилось, ибо лозунги были довольно жидки и несамостоятельны. В сухом остатке оказалось, что мотивация далека от чистой и идеальной и сводится к двум простым вещам: деньгам и власти (хотя бы над умами, хотя и это уже немало).
В третьих — как они это говорили. Даже нам стало ясно, что за флером теософской ебун-травы (тм), стоит какая-то мистификация. Какая — нам ясно не было, ибо доступа к тому месту, из которого ноги растут, у нас, в то время — вполне «рерихнутых», — конечно же, никакого не было, как не было его ни у кого, только мы об этом не знали. По той простой причине, что такого места попросту не существовало — вернее, оно существовало в отдельно взятой голове не весьма вменяемой Елены Ивановны. Хотелось глубины и обоснования, а не патоки и риторики, но высказывание не пускало в себя дальше и глубже.
В-четвертых — к чему побуждало. По сути — лишь к верности «святому имени» Николая Константиновича (про «дайте денег» я не говорю, нас это не касалось). Потому что все остальное — в чистом виде ебун-трава, см. выше.
И так далее. В общем, книжка эта отвечает на вопросы, которые не давали нам покоя и в 80-х — и возникают вновь и вновь, ясное дело. Почему при всей прекрасности лозунгов из всего этого замысла (и Пакта Рериха, и агни-йоги) вышел только какой-то пшик? Что за странные отношения были у Рерихов с Советской властью? Почему под слоем лака ничего нет и высказывание какое-то одномерное? Отчего у нас натуральный культ личности? И прочее, уже гораздо более специфическое: а расскажите-ка нам про Морию и про Чинтамани — и вот с этого места, пожалста, поконкретнее: что это, откуда взялось, как выглядит и куда потом делось… Нормальные такие запросы пытливого ума. В свое время всея эта патока банальностей с ушей-то, конечно, стекла, мы перешли к иным аутлетам духовного шоппинга (или вовсе от него отказались), но вопросы остались. Как и декоративные и нарядные картинки, конечно, — которые лично на меня действовали, ну, скажем, не очень. Т.е. нарядность я ценил, но не более того — отторгала плакатность.
Потому что ключ высказывания — отнюдь не духовные глубины и вершины и призыв к ним, и даже не подковерная борьба в самой секте (а это явно она), а в контексте эпилога Большой игры , последних в первой половине ХХ века потуг перекроить карту мира и создать какое-никакое логичное национально-государственное образование посередь Азии. Что само по себе достойно интереса и даже, в общем, уважения (мы же стихийные сепаратисты, чего уж там). Проблема же в том, что Рерихи, не располагая реалистическим геополитическим мышлением, взялись за это не с той стороны, а напустили дымных словес, призванных замаскировать в первую очередь их личные амбиции и устремления. Желать красиво, спокойно и богато жить не запретишь, конечно, никому, это совершенно нормальное желание, но их дымовая завеса теософской пропаганды не выдерживает проверки на маразм. Кроме того, становится понятно, что калиостры заигрались и сами стали верить в фигменты нездорового воображения (что подкреплялось, я полагаю, цинизмом и железной дисциплиной ЕИ — поди пойми, как это сочеталось с физиологией ее заболевания, но, видимо, сочеталось). А про собственно искусство все рассказал еще Бенуа.
Понятно, что у нынешних организованных рерихнутых при выходе книги на немецком случился натурально родимчик, и издателю они стали писать письма (некоторые доступны онлайн, хотя там, по-моему, везде один текст с легкими изменениями) — перечисляя все мыслимые штампы восприятия и самые расхожие цитаты, но, как это водится, без контекстов (тем более социально-политических — зачем и в какой обстановке тот или иной Неру джавахарлал Рериха, к примеру). Снова повторяются тезисы о «предателях» и «защите святого имени» от всяческих покусительств и посягательств. Жил бы в 80-х, может, и сам влился бы в хор защитников. Мешает жесткая реальность: письма эти безграмотно написаны (и переведены), противоречат логике и являют скверное знакомство защитников с текстом, который они критикуют на основании того, что он не является агиографическим. После выхода русского издания, надо полагать, русские Общества Рериха оживятся, хоть Шапошникова и умерла, потому что, помимо общего несоответствия этой книжки "партийной линии", в издании этом, мягко говоря, есть к чему придраться.
О пользе внимательного чтения
«Мёртвые хватают живых. Читая Ленина, Бухарина, Троцкого», Дора Штурман

Дора Моисеевна — уже некоторое время мой герой. Прочие заслуги сельской учительницы русского языка и литературы, ставшей выдающимся советологом, можно пока оставить за кадром, но среди прочего написала она и не очень «маленькую лениниану» — собственно вот эту книжку, которая в совке, насколько мне известно, так и не издавалась. Это прекрасная текстология людоедской литературы — всё, как мы любим: очень грамотные раскопки той гнойной помойки, на которой мы живем по сей день. И развенчание мифов об «альтернативах Сталину», не вытравленных из мозгов и сегодня, хотя книжка вышла в 1982-м.
Портрет «вождя мирового пролетариата» в ней мало чем отличается от художественного портрета Фердинанда Оссендовского (о котором как-нибудь в следующий раз), надо сказать, хотя здесь он вполне документален. Даже критики Ленина (за исключением, пожалуй, самых оголтелых) исходят из представления, что «вождь» кое-где кое в чем бывал временами вполне искренен и честно имел в виду то, что пишет, т.е. хотел блага для народа, то и сё. WRONG! Вранье у него все от первого до последнего слова. Оголтелые тут правы. При чтении «классика марксизма» делить все до последней строчки нужно примерно на 500, если не больше. Это довольно утомительное мозговое упражнение, потому что ведь нет-нет да и хочется во что-то же наконец поверить, соединиться с чем-то. Такова уж особенность человека читающего. А читая Ленина, делать этого нельзя ни в коем случае, потому что верить у него нельзя ничему, даже цитатам.
А ленинская риторика поистине невытравима из сознания (это к вопросу об избывании из оного сознания советского — при жизни еще как минимум пары поколений это все ж невозможно). 70 лет качественной ебли мозга не прошли бесследно. Время от времени даже в «государственном дискурсе» этих полуграмотных упырей, что ныне у власти, мелькнет что-нибудь — те же пресловутые «сортиры», к примеру, которые «наш Ильич» поминал еще в декабре 1917 года. Впрочем, грамотность тут ни при чем — это и впрямь генетическое (в широком, не узко научном смысле):
Мы редко задумываемся над словами, которые слышим с детства. Особенно тогда, когда нам внушено определенное отношение к этим словам. Мышление наше, в основном, рефлекторно и лишь в малой части своей инициативно и самостоятельно (стр. 123).
Потому-то мы, в массе своей, и не задавали никаких вопросов, когда, что называется, «на голубом глазу» все это вранье и вилянье вождя и его присных выдавалось нам за тактическую и стратегическую гениальность и оправдывалось «исторической необходимостью». Нет, тактик-то он был изобретательный, а вот стратег из него всегда был никудышный. Дора Штурман наглядно здесь это показывает.
Вторая часть посвящена Бухарину — еще одному «теоретикоиду» «литературного марксизма». Штурман называет его идеологом, но он, мне кажется, в лучшем случае — агитатор и пропагандист. «Политик разговорного жанра» (стр. 187) — вот определение актуальное и для нынешних болтунов (хотя я сильно не уверен, что они сами пишут тексты своих убогих выступлений; Бухарин-то хоть грамотный был… хотя да, грамотность здесь опять не у дел). Но бесхребетность его тоже наследственна.
Третья часть — о Троцком. Среди прочего об «иудушке» (видите, опять ленинское чеканное определение) (к черту «перманентную революцию», это для безмозглых хунвэйбинов) следует помнить хотя бы то, что до нынешнего времени на его убогих «классовых» представлениях об искусстве у нас зиждется вся система школьного гуманитарного образования (в частности, понятно, литература).
Рыться во всем этом «окаменевшем дерьме» (согласно формуле продажного «певца революции») не просто guilty pleasure. Это, я бы решил, полезно для понимания кошмара сегодняшнего дня — того, как и почему к власти в этой стране пришла та невообразимая вроде бы хтонь, которую эта страна имеет (или которая имеет эту страну). Почему, спросите вы. А вот почему:
…крушение партократии в СССР не может не привести сначала к еще более глубокому хаосу, чем хаос марта 1917 года, а затем — к еще худшей диктатуре, чем советская партократия (стр. 79).
Напомню, написано это в начале 80-х, когда и Брежнев еще кони не двинул — и это не гениальное пророчество, это обоснованный вывод из внимательно прочитанного. И либеральной интеллигенции, как бы завещает нам Дора Штурман, надеяться особо не на что, кроме очередного «дворцового переворота» в «усеченном конусе» партийной верхушки. Потому что — ну да, люмпенизированная «крестьянская масса» по-прежнему никуда не делась и составляет собою весь «народ». Исключения по-прежнему в меньшинстве. Особый русский путь, куда ж с него сойти. Истинный демократический парламентаризм без октябрьского переворота здесь случился бы, по ее оценкам, проговоренным вскользь, лишь к середине 1960-х годов в лучшем случае, но история, как известно, сослагательного наклонения не знает.
…Но вообще читать «классиков» нужно именно так — только с комментарием, как «Майн Кампф». Разницы, по сути, никакой, настолько они токсичны. Хотя побочный эффект советской системы марксистско-ленинского образования — оно все ж окольным манером способно дать прививку от фразеологии: лично я, к примеру, до сих пор читать никаких философов не могу, во всей их софистике интуитивно чувствуется вранье. Потому-то я и не благодарен ни единому своему учителю истории (с 5 класса начиная), преподавателю философии, «научного коммунизма» или, простигосподи, «политэкономии», которые с таким упорством столько лет последовательно лили птичий помет мне в юную голову. Пусть они и были приличные и хорошие люди, но вот в этой вот своей (сущностной) функции — будь они все прокляты. Я мог бы потратить это время на чтение хороших книжек.
Что в имени тебе моем
Литературный концерт имен и названий
Сегодня мы немного поговорим про литературные названия различных творческих коллективов. Начнем с более очевидных и всем известных, а потом плавной перейдем ко всякой экзотике. Например, откуда взялось это название, известно любому школьнику, — из книги Олдоса Хаксли, который заимствовал само понятие у Уильяма Блейка:
Песня у них, понятно, очень литературная - в ней содержится привет "Лолите" Владимира Набокова, о чем помнят не все. Со следующими ребятами тоже все ясно — «Книга Бытия» как она есть:
Да и первая пластинка у них была весьма книжная — «От Бытия к Откровению». Про «Степного волка» тоже рассказывать никому особо не нужно — это роман Херманна Хессе:
Старые рокеры, как легко заметить, были начитанными чуваками — англичане уж, во всяком случае, своего Дикенза знали и читали «Дейвида Копперфилда»:
Про Шекспира и говорить нечего — вот вам «Тит Андроник»:
Это там, где все умерли, если не помните. А вот бодрая компания, назвавшая себя «Подземными» в честь известного романа Джека Керуака:
Они не одни такие — первая группа покойного Гленна Фрая из «Орлов» тоже так называлась. А вот еще одни «Подземные», но несколько другие:
Русские музыканты, понятно, тоже не лыком шиты. Один из прошлогодних шедевров литературного нейминга — группа «Александр Жадов и Доходное место» (давно ли вы перечитывали пьесу русского классика? а вот чуваки перечитали и самоназвались):
Названием творческого коллектива может служить и название романа — например, «Что-то гадкое в сарае», третьей книги Кирила Бонфильоли о Чарли Маккабрее, в свою очередь поименованной в честь фразы из романа Стеллы Гиббонз «Неуютная ферма»:
Если вы играете в подземном переходе, нет ничего лучше, чем назвать свою группу именем любимого писателя (и добавить к названию слово «блюз»):
Но если вы намерены выступать на одной сцене, например, с Мадонной, то к имени любимого писателя имеет смысл добавить слово «бордель»:
Очень популярны названия в честь полюбившихся литературных героев — вот, например, один из главных персонажей романа Томаса Пинчона «V.»:
Тут сплошь литература и Дикенз. В следующем номере нашей программы, собственно, - тоже. Концептуальные английские прог-рокеры некогда посвятили не только свою пластинку, но и всех себя культовому и классическому роману Мервина Пика. Вот он:
Ну и в конце нашего именного концерта по традиции — гимн книжкам вообще. Хоть и только для девочек. От коллектива, который вдохновился романом опять же Владимира Набокова:
А разговор об именах мы продолжим в следующий раз. Не забудьте спрятать под подушку свои литературные радиоприемники.
Повесть о невидимых китах
«Литературная мистификация», Евгений Ланн

Это книжка вполне (и незаслуженно) забытая массами, для которых Чуковский — единственный литературовед, а Кашкин — единственное светило «советского перевода». Написал ее великий оболганный «буквалист», поэт и переводчик Евгений Ланн. В книге Андрея Азова «Поверженные буквалисты» эта работа удостоена одной фразы, что вполне объяснимо — перед исследователем не стояло задачи написать творческую биографию Ланна. Но «Литературная мистификация», мне кажется, все же заслуживают большего внимания.
Начнем с того, что написана она превосходно — современным языком, адекватно, так, что забывается, что вышла она в далекую и вполне мрачную эпоху. Обычной советской белиберды там нет даже в «классовом» анализе — писал ее человек, которому было что сказать, он ясно выражал мысль и владел материалом; в отличие от многих, кого тут можно было бы поименовать, но мы, пожалуй, не станем. Читая «Литературную мистификацию», я словно бы слушал натурального брата по разуму.
С виду это вроде бы научно-популярная работа по конкретному аспекту истории зарубежной литературы, включая основы текстологии, но… По ходу чтения перед глазами и в уме постепенно пробивается исторический фон и проступает некая смутная глубина. Во-первых, конечно, накладываются особенности самого подхода Евгения Ланна к профессии — его стремление к точности и достоверности перевода, необходимости доносить переводимый текст по возможности без искажений (как у него это получалось — другой вопрос). Поэтому закономерен его интерес к такому маргинальному явлению, как искажения литературного текста сознательные, намеренные, призванные запутать, обмануть, мистифицировать читателя. Во-вторых, о самой эпохе забыть тоже все-таки не удается (как не получается отрешиться, собственно, и от трагических обстоятельств жизни автора).
Мне, честно говоря, неизвестно, какое место занимала эта книжка в контексте литературных баталий того времени и как к ней отнеслись читатели и критики (и отнеслись ли как-то вообще), но, читая ее, я не мог отделаться от ощущения, что в ней присутствует огромная фигура умолчания, лакуна прямо-таки зияющая. Имя Михаила Александровича Шолохова. С одной стороны это вроде бы логично — Ланн-то пишет у нас о зарубежной литературе. Но… Напомню, что первый том «Тихого Дона» вышел в 1928-м. В 1929-м поднялась первая волна сомнений в авторстве Шолохова, которая не сошла на нет и посейчас. В 1930-м выходит книжка Ланна, в которой имя Шолохова не упомянуто ни разу, но в полемику вокруг «гения социалистического реализма» она вписывается идеально. Тем самым «Литературная мистификация» сама обретает черты литературной мистификации — маскируясь под непредвзятый и вроде бы не имеющий отношения к злободневности научпоп, она, тем не менее, вносит свою лепту в анализ вполне острой (и не только в литературоведческом смысле) ситуации.
«Мистификация обнажает социальный генезис откровенней, чем подлинное произведение», — пишет, в частности, Ланн (стр. 35). Цитатами злоупотреблять не буду, сами найдете. Но и здесь, и дальше, вплоть до описаний текстологической методологии фальшивок и анализа анонимов и псевдонимов на последних страницах, в букете занимательных сюжетов и литературных анекдотов о подделках содержатся едва ли не прямые указания на происходящее в стране, откровенные намеки не только на подлоги в контексте литературы, но и на переписывание самой истории — что, как под увеличительным стеклом, уже начинало концентрироваться в «деле Шолохова». Пред изумленным взором читателя в невинном литературоведческом очерке начинает проявляться адская актуальность. Исторический фон выступает на передний план и становится если не самим предметом осмысления, то уж, по крайней мере, одним из главных героев этой книжки.
Богатая фактура, используемая здесь Ланном, служит для подкрепления в общем-то очевидного вывода: если такие звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Накладываем фигуру умолчания: подделка ли это, плагиат, иначе ли дутая неким манером фигура (а даже преданные поклонники Шолохова не смогут отрицать, что не все в биографии титана советской литературы чисто и прозрачно) — но она выгодна определенной социальной группе, классу-гегемону, правящей элите. Иначе бы просто не возникла. Шолохов требовался как пробный шар (ну или подопытный кролик) для грядущих, более масштабных и бесстыжих зачисток, подчисток, редактур и текстов, и самой истории, тех или иных «проектов НКВД». Цель в данном случае проста: требовалось доказать, что метод «социалистического реализма» — лживая «политкорректная» ебанина, лакирующая действительность и забивающая насмерть любое живое творчество, — есть способ истинно народного самовыражения, освященный вековой историей и русскими традициями. Ну и революция заодно легитимизируется.
Особенно, конечно, иронично здесь то, что не только советская литература со своим Шолоховым, но и сама русская литературная традиция стоит на ките сомнительного происхождения — «Слове о полку Игореве». Ирония эта становится совсем уж явной при чтении «Литературной мистификации», где, стоит ли говорить, о «Слове» тоже нет ни слова (зато подробно излагается история сходного памятника чешской словесности — «Краледворской рукописи»). И, разумеется, ошибкой было бы думать, что литературоведческая работа, изданная в 1930 году, не актуальна в наши дни.
Реликвии, картинки и еда
Наши удивительные литературные новости, которые вы вряд ли узнаете где-то еще
Казалось бы, пора уже смириться с тем, что люди смертны, однако в этом году все ощущается как-то особо болезненно. Но понятно же, что новости из мира литературы не ограничиваются некрологами.
Вот кое-что из случившегося за последние недели, о чем вы вряд ли прочли бы где-то еще.

Знакомьтесь, это Эми Тань. В ее честь назвали новооткрытую австралийскую пиявку. Это была новость не про еду.

А это — Уит Бёрнетт, великий американский редактор, основатель журнала «Story» (чтобы перечислить все его заслуги перед литературой, места нам здесь не хватит). Вернее, таким он будет в грядущей экранизации биографии Сэлинджера, написанной в свое время Кеннетом Славенски. Самого же Сэлинджера изобразит вот этот человек:

…что плавно подводит нас к следующей теме:
Это ТЕД-овская лекция о том, как писать смешно. Не знаю, поможет ли, но попытка достойная.
Еще о юморе висельников. В Англии поставили спектакль о последнем человеке в истории человечества, которого казнили за богохульство. Произошло это в Эдинбурге в 1697 году, а человека этого звали Томас Эйкенхед, и ему было всего 20 лет. Спектакль — «жестокая комедия с песнями» — называется незамысловато, «Я — Томас» (в честь Je Suis Charlie, понятно) и премьера его состоялась позавчера.
Чтобы подразнить сторонников «крепкой руки» в художественном переводе и издательской политике, не иначе, в Англии вышел новый перевод «Илиады» Гомера, пера Кэролин Эликзандер. Ознакомиться с отрывком можно здесь — чтобы потом, само собой, на всех углах кричать, что у Гнедича было лучше.

Изгибы сознания. Издательство «Сколастик» прекратило печатать детскую книжку «Тортик Джорджу Вашингтону на день рождения» писательницы Рамин Ганешман (о поваре Вашингтона Геркулесе; это не совсем про еду, но тематически близко) по причинам неполиткорректности картинок. А именно — рабы на них какие-то подозрительно довольные.

С аукциона продаются «Посмертные записки Пиквикского клуба». Нет, не книжка — реальные записки реального Пиквикского клуба. Не шутка.
А еще нашли останки вроде бы реальной Тэсс из рода д’Эрбервиллей (портрет этой реликвии мы не показываем сознательно, потому что дальше будет про еду). В Дорчестерской тюрьме эксгумировали Марту Браун, на чей казни присутствовал 16-летний Томас Харди; это так его впечатлило, что много лет спустя он написал роман. И это тоже не шутка.
Занимательное чтение: историк Рут Гудмен, рассказавшая некогда о том, как быть викторианцами, исследует гигиену Тюдоров, что станет ее следующей книжкой… вернее, путешествием на машине времени. Это к вопросу о том, чем могло пахнуть от Людовика Красное Солнышко. А про еду будет дальше.
Теперь разные новинки — странные и причудливые, но неизменно примечательные.

Американский художник Сэндоу Бёрк переписал (по-английски, но честно вручную) и проиллюстрировал «Коран». Теперь священная книга продается и стоит 100 долларов.
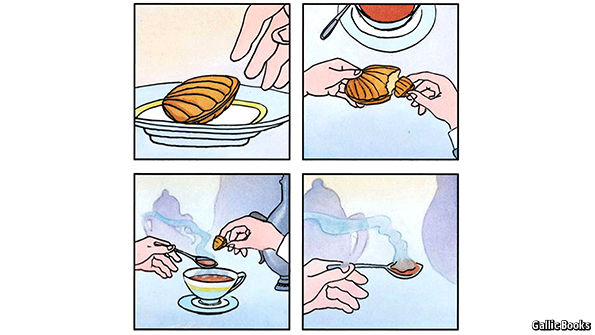
Еще одна занимательная книжка с картинками — на сей раз только это Марсель Пруст, "В сторону Сванна". Теперь зато мы знаем, как можно иллюстрировать Пруста. И есть мадленки.
«Мир природы Винни-Пуха» — взгляд на места боевой славы, брошенный ландшафтным дизайнером. С картинками, разумеется. Но без еды.
Также на днях вышел новый — долгожданный — роман Мэтта «Канализация, газ & электричество» Раффа, который называется «Страна Ктулху» и представляет собой сокрушительную смесь «Гроздьев гнева», «Хижины дяди Тома», «Убить пересмешника» и… я не забыл упомянуть Лавкрафта?
А вот эта новинка к литературе, конечно, отношения не имеет, но мы знаем, что некоторым нравится. В апреле выходит «Ватиканская поваренная книга». Тогда можно будет быть как Папа. Про еду как раз вот эта новость, да. А в заголовке еда у нас вместо котиков, сов и панды.
Вот так вот оно все как-то и идет, как не раз давал нам понять Курт Воннегут.
Я серьезно
Все, что найдете, Стив Мартин

Жить легко.
Если родился в августе 45-го, когда для всего мира все худшее в ХХ веке уже вроде бы осталось позади, жить легко. С другой стороны, родился ты в Уэйко, штат Техас, а это, поверьте, Очень Глубокие Свояси, поэтому что там за жизнь? С третьей стороны, 1993-й еще не настал, городок еще не прославился, так что жить можно. Тем паче что семейству повезло: они уехали в Калифорнию за три года до того, как на Уэйко обрушился самый жуткий в истории Техаса торнадо, стер с лица земли весь центр и погубил 114 человек. В одном месте у тебя моторчик, рот неизменно до ушей, а вместо языка — молотилка; с такими свойствами натуры жить не просто можно, а очень легко. Но — работаешь ты с 10 лет, а это трудная жизнь. Но — не где-нибудь на ткацкой фабрике работаешь, а в Диснейленде; по любым меркам и в любое время о такой работе можно только мечтать. Так что жить легко, хоть ты всего-навсего и продаешь рекламные буклеты. У тебя наличествует даже некоторая финансовая независимость. Но к ней прилагается папа — несостоявшийся актер, человек, с которым даже в таком счастливом детстве Очень Непросто.
В общем, все сложно.
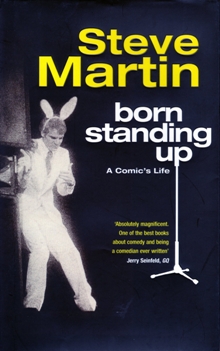
Хотя в б-СССР Стивену Гленну Мартину, можно сказать, повезло. Его знают и, в общем, наверное, узнавали бы на улице. Знают по фильмам, в которых снимался и которые ставил, писал или продюсировал: _________, — перечисляйте сами, тут у всех свои фавориты; у меня среди любимых «Отпетые мошенники» и «Человек с двумя мозгами». Знают по книгам: повестям «Продавщица» и «Радость моего общества» и сборнику чистой бредятины «Чистая бредятина», которая поначалу публиковалась в журнале «Нью-Йоркер» и заставляла ждать каждый номер, как в детстве подарок на день рождения. (Теперь все эти книжки проходят по категории библиографических редкостей, поэтому удачи вам с поисками, но не упомянуть о них мы не можем).
Повезло, да. В Орегоне вообще запретили его старую пьесу — про то, как Пабло Пикассо и Альберт Эйнштейн сидят себе в парижском баре «Шустрый кролик», просто выпивают и, можно сказать, чешут языками.
Повезло — да не очень. Потому что самой, пожалуй, главной инкарнации Стива Мартина широкий русский зритель так и не познал. А именно — stand-up comedian.
Да, поговорим о комедии. Приведенное выше сочетание словарь предлагает нам переводить как «эстрадный артист разговорного жанра». «Артист-сатирик», на худой конец, с пояснением: «артист разговорного жанра, выступающий без партнеров, театрального костюма, сценических декораций и ассистентов». Лингвострановедческий словарь «Американа» не иначе заимствовал формулировку из циркуляров какого-нибудь «Главконцерта», породившего формат выступлений, прости господи, «петросянов». Нет, с гениями русскоязычной комедии былых времен — Райкиным, Хазановым, к примеру, — все в порядке. Они в пресловутом «разговорном жанре» достигли не превзойденных до сих пор высот. Я к тому, что непонимание диктуется самим языком уже на уровне дефиниций.

Потому что Стив Мартин — это, извините за банальность, вам не Петросян. И вышедшая пару лет назад его книга «В полный рост» (так ее название тоже можно трактовать) и недавно переизданная в очередной раз, — еще одно тому подтверждение. Ее сложно называть мемуарами, потому что итоги подводить как-то рановато. Скорее это хроники первой половины жизни артиста — как раз той, что была «до кино». Легко и непринужденно (потому что, да, «писать легко») Мартин рассказывает в ней о детстве (неоднозначном), первой работе (благодатной) и начале своей жизни в искусстве (начале, прямо скажем, сокрушительном).
Мартин с детства хотел стать фокусником. Нет, не таким, как Гарри Гудини или Дэвид Копперфилд, не мастером выпутываться из смирительной рубашки, вися в наглухо запаянном сейфе в трех этажах над бассейном с акулами, или повелителем иллюзий, который на счет «три» убирает с поверхности Земли, скажем, пирамиду Хеопса, — нет, просто фокусником.
Эстрадным таким. Вроде пресловутого «артиста разговорного жанра», только с картами, кольцами, платками и кроликами. И не просто хотел, а без устали совершенствовался, оттачивал ловкость рук. С пятнадцати, заметим, лет. При этом учился он не в «эстрадно-цирковом училище», а, вы будете смеяться, в нескольких университетах — изучал философию.

…В Лонг-Биче у меня, — вспоминает он с некоторым даже изумлением, — довольно неплохо получалось осваивать символическую логику, поэтому в новой школе я записался на Высшую Символическую Логику. «Я изучаю Высшую Символическую Логику в Университете Калифорнии» — это звучало приятно; то, что в старших классах средней школы считалось чистой ботаникой, теперь обрело некий мистический флер. Однако в первый же день занятий я понял, что в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе пользуются иным набором символов, нежели тот, которому я выучился в Лонг-Биче. Чтобы не отставать, я добавил себе в расписание вводный курс, а это значило, что теперь я изучаю самые азы логики и высшую логику одновременно.
Помимо этого, были занятия и по актерскому мастерству, и по телевизионным сценариям. Но не это главное: вскоре Мартин понял, что фокусы — это как-то тухло, и начал разрабатывать комедийную составляющую своих выступлений, потому что паузы нужно было чем-то заполнять. Вот тут-то и началась истинная работа. Недаром «работа» в его книге — одно из самых частых слов.
«Разговорный жанр» — он же какой? Выходит мужик (реже — баба) и рассказывает примерно анекдоты или кого-нибудь изображает. У Мартина было не так. Работая с чужим, а потом и со своим материалом (не Жванецкий, само собой, у которого литература, но тоже ведь труд — подмечать смешное и чеканить из него несколько фраз, жест или просто интонацию), он понял, что скучно просто нагнетать напряжение, а потом выдавать соль шуточки, которая служит комической разрядкой. Поскольку формат к середине 60-х, когда в мелких калифорнийских театрах Мартин уже вовсю выступал со своим рагу из фокусов, анекдотов и пародий, в значительной степени устоялся, «панчлайна» ждут, его предвкушают и часто знают уже наизусть. А если, задумался Стив Мартин, напряжение, к примеру, наращивать, а разрядки не давать? Пусть смеются не запрограммированно, а просто так. Может, тогда станет понятно, что смешно само по себе, а что — потому что смешно соседу. Но для этого нужна дисциплина, изобретательность, находчивость, безошибочное чувство ритма и отточенная мелкая моторика.
И, разумеется, умение сделать смешным все. Даже вроде бы несмешное.

«Комедия для собак» — попробуйте рассмешить четверку псов, один из которых явно чучело. «Веселые зверюшки из воздушных шариков» — там что угодно, кроме собственно зверюшек, даже вирус сифилиса есть. «Счастливые ноги» — номер о частной жизни ваших ног. Неимоверно популярная «стрела в голове» — своеобразный мем 60-х. Царь Тут. «Дикий и чокнутый парень». «Давай измельчаем» — пародия чуть ли не на всю психоделическую контркультуру сразу: изобретен наркотик, от которого люди не улетают под облака, а становятся меньше. И, разумеется, знаменитое «Простите» — когда три слога произносятся как двадцать чуть ли не во всем диапазоне человеческих эмоций одновременно: от мягкого недоумения к праведному негодованию и вплоть до смертоубийственной ярости. Американским евреям такая манера извиняться некогда так полюбилась, что они адаптировали ее к словечку «слиха»: можно только воображать, как некогда извинялись в Иерусалиме. «Где смеяться-то?» — поначалу недоумевала публика. И постепенно начинала хохотать — не потому, что до нее доходил некий культурный код, а потому что никакого культурного кода не было. Заразительным в Стиве Мартине было все, и маску от актера отделить никто не пытался.
Так лет за десять и родился тот «коктейль Молотова», который к середине 70-х буквально взорвал мозги американской аудитории. Нет, мейнстрим «разговорного жанра» никуда не делся. Но с обочин — из мелких клубов, театров и кофеен Калифорнии и Чикаго, со сцен, задвинутых в дальний угол, — уже прозвучали новые голоса, возвестившие о явлении сюрреалистической «хиповой» комедии. Стив Мартин отлично помнит знаковый вечер:
[В Эспене, Колорадо] …вечером 11 октября 1975 года, включив телевизор и посмотрев первый эпизод «Субботнего вечера живьем», я подумал: «Блин… они это сделали». В Нью-Йорке в эфир пустили новый тип комедии — люди, которых я не знал, и удавалась им эта комедия прекрасно. Программа сильно ударила по моему внутреннему убеждению, что кавалерийскую атаку веду я один — и один несу знамя новой комедии. Тем не менее, нам с «Субботним вечером» суждено было встретиться.
Вскоре началась их дружба с Лорном Майклзом, но сложности тоже не замедлили возникнуть. Видимо, с «легкостью жизни» тут и пришлось расстаться. Потому что одно дело — клубы и придорожные театры, где посмеяться собирается человек сто, ну двести. И другое дело — когда свою лепту внесли регулярные появления в телепрограммах, вроде «СВЖ» или «Сегодня вечером с Джонни Карсоном», статьи в «Роллинг Стоуне» и «сарафанное радио». Народ валом повалил «на Стива Мартина». 2000 билетов продано. Гастрольные графики уплотняются. 60 городов за 63 дня. 72 города за 80 дней. 85 городов за 90 дней. В зале (вернее, уже на стадионе) — 18 695 человек. 29 000. 45 000. Это, видимо, рекорд для «артиста разговорного жанра». Сорок пять тысяч человек платят деньги за то, чтобы посмотреть на одного…
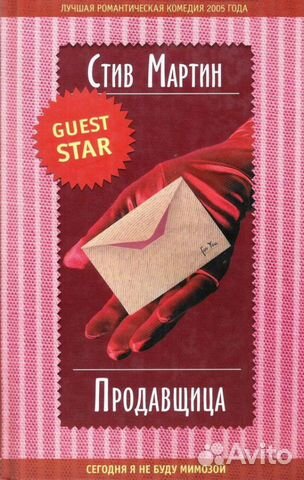
Понятно, что видоизменялась сама природа юмора, его подачи. 30 тысяч человек уже не выведешь из зала на улицу (так, бывало, заканчивались выступления Стива Мартина в клубах — владельцы даже принимали особые меры к тому, чтобы все зрители расплатились заблаговременно). Не отправишься с ними в «Макдоналдс», чтобы сначала заказать 200 гамбургеров, а потом быстро «передумать» и поменять заказ на одну «среднюю картошку» (другой любимый финал). И не во всякий бассейн они поместятся, чтобы можно было поплавать кролем у них по головам. Гэги мутировали от мелкой моторики первых дней к большей наглядности, к физичности вплоть до легкой атлетики (номера с «бесконечной рукой за киноэкраном» или «невообразимо усыхающим человеком», когда артист просит публику на миг закрыть глаза, а сам откручивает микрофонную стойку до высоты метра в три). Взять, к примеру, «самое короткое в мире соло на гитаре» — когда с небес под фанфары артисту спускается блистательный «фендер», артист принимает героическую позу и издает на нем единственное «трям», после чего гитара опять взмывает ввысь. Можно смеяться.
Кстати, о музыке. Как, например, постоянно упускают из виду, что гений еврейской кинокомедии Вуди Аллен — легитимный джазовый кларнетист, мало кто помнит, что Стив Мартин за свою игру на банджо в 2001 году даже получил премию «Грэмми» (совместно с Эрлом Скраггзом). Свою третью — две предыдущие были за комедийные альбомы (1978 и 1979 годы). Напомним также, что премию «Эмми» (уже за телевидение) Мартин получил в 24 года. Ну и, чтобы покончить с лаврами, отметим, что в 2005-м ему вручили «Премию Марка Твена» — за вклад в американскую юмористику. Тогда же он получил довольно диковинную награду — звание «Легенда Диснея»: не иначе, по совокупности заслуг — от продажи буклетов до производства комедий для семейного просмотра.
Нам же, кинозрителям другой страны, от былого буйства, вошедшего в историю и по заслугам отмеченного, досталась, пожалуй, лишь картикатурно-причудливая пластика артиста да отдельные шуточки из его программы, выжившие в съемочном процессе. Ну и элегантнейший белый костюм-тройка — просто потому, что его лучше видно издалека (а «жилет мне был нужен затем, чтобы рубашка из брюк не вылезала — я так скакал по сцене, что это случалось все время»). Костюм, ставший маркой его самого устойчивого образа — эдакого блистательного великосветского шлимазла навыворот, не теряющего присутствия духа и неизменно эффективного, когда дело доходит до высмеивания даже несмешного, включая самого себя. «Самого смешного парня на свете». За костюм и консервативную прическу его, кстати, критиковали друзья, менеджеры, агенты и доброжелатели: во времена разноцветных рубах с кружевами и цветов в длинных волосах не то что на сцену в таком виде неклёво было выходить — вообще выглядеть так было крайне стремно. Но Мартин в вопросе гардероба был так же упорен, как и в приверженности собственному имени, которое ему не раз предлагали сменить: дескать, «Стив Мартин» для комика звучит слишком уж по-еврейски. Упорствовал ли он из соображений мимикрии на поле американской комедии, традиционно ассоциировавшейся с еврейскими артистами, или держался своих шотландско-ирландских корней — вопрос открытый, но самость свою (и художественную, и национальную) он отстоял и остался Стивом Мартином. Самым еврейским из нееврейских комиков.

Все-таки, видимо, комедия — мимолетный жанр, способный выжить во всякий данный миг лишь на клубной сцене. Спортивные арены и телевидение — это, конечно, мило, но разрушительно. Недаром гении американской комедии уходят рано, как два великих революционера, Ленни Брюс и Энди Кауфман — насовсем, либо, как Джонни Карсон, — на иные пажити. Нам остается серенький мейнстрим, который так легко поносить за глупость, — он, как тараканы, вечен. «Просто понизьте свой коэффициент интеллекта на 50 баллов — и приступайте». А гениальная комедия… Для масс она — как пресловуто непереводимая игра слов, смыслов и культур. Чтобы смеяться над ней, требуется немало любопытства и упорной работы — вряд ли меньше, чем самому артисту для того, чтобы нас рассмешить.
Видимо, все это Стив Мартин и попробовал нам объяснить. Прямым текстом и своими словами. А я, зная шансы автобиографии Стива Мартина на публикацию в этой стране, вам ее пересказал. Понизив коэффициент интеллекта на 50 баллов.
Психопаты бывают разные
"Записки психопата", Венедикт Ерофеев

«Записки психопата» — текст поразительный, сам автор называл его «самым нелепым из написанного», но попробуем разобраться, так ли это в действительности.
Писался текст в конце 50-х (по крайней мере, датировка в нем отчетлива) и, если смотреть на него из нынешнего далека, выглядит вполне как отголосок прото-бита, русская карикатура на бит, утрированный, но, я подозреваю, весьма точный слепок жизни. Но по методу, тону и стилю его скорее можно отнести к той натуралистической и отчасти трансгрессивной линии «подпольной», «уличной» литературы, которая возникла в Штатах примерно тогда же. Вспомним, что издательство «Гроув Пресс» лишь в начале 60-х, через полдесятилетия начнет открывать для более-менее широкой публики такие имена, как Алекс Трокки, Хьюберт Селби, Джон Речи и проч. До них, понятно, были и Селин, и Хенри Миллер, и Херберт Ханке, но и на них в своих интервью Веничка не ссылается, надо думать — все же не читал, а к своим отношениям с советской реальностью дошел своим нетрезвым умом. Но если положить эти тексты рядом, параллелей будет много.
Корни их всех — и, само собой, этого романа — уводят нас к Достоевскому. И, в общем, понятно, что «новая», истеричная и надрывная исповедальность, сознательный и подчеркнутый отказ от цензурных самоограничений, желание говорить и показывать только правду и ничего кроме, неприятие окружающего — на все это ни русские, ни американские писатели патент не регистрировали. После войны этот «тренд» возникал повсюду, и это вполне объяснимо и не нами не раз анализировалось. Война закончилась, победители вернулись домой (хоть и несколько по-разному) — с надеждами на если не продолжение освобождения, то хоть на какое-то раскрепощение после огромного напряга всяческих душевных и физических сил, а дома — все тот же мрак и морок, если не по-прежнему Сталин, то Эйзенхауэр, общество косно и репрессивно, филистеры отнюдь не толерантны к фрикам и маргиналам, там сплошное потребление, тут сплошной пятилетний план… ну и так далее. Я по необходимости упрощаю.
В «Записках психопата» Ерофеев сформулировал отчетливо: «Ни одна книга и ни одна музыка не выразит моего чувства». Хтонь обрела голос.
Единственная разница — у тех американцев получилось заявить о себе, сказать свое слово громко и непосредственно, сделать литературу и войти, наконец, в ее историю (хотя цель, понятно, изначально была не такова), а советским подпольщикам, прото-диссидентам, из которых Ерофеев один, — не очень, и они оказались на много лет, если не навсегда «потерянными», забытыми, обойденными, подавленными. А иначе — кто знает, как выглядел бы нынешний учебник литературы для средней школы. Но это, конечно, фантазии.
Трилогия общественных работ и упоительного чтения
"Канализация, газ & электричество", Мэтт Рафф
Мэтт Рафф — современный и крайне остроумный, вполне культовый американский писатель, выпускник Корнелла, между прочим. «Канализация, Газ & Электричество» — его вторая книга, и несмотря на подзаголовок «трилогия», представляет собой одну цельную работу. Просто автору нравится трилогия как жанр: когда группы различных существ отправляются в полное приключений странствие завоевывать какого-нибудь повелителя темных сил. Вот он и написал такую героико-антиутопичную сюрреалистическую фантазию с нехарактерными персонажами, обилием абсурдных приключений — и истерически смешную.
Сюжет прост и сложноорганизован. Мир пребывает в 2023 году (это уже скоро), царит новый мировой порядок, а в канализации Нью-Йорка живут существа-мутанты, вроде гигантской белой акулы по имени Майстербрау (их из соображений политкорректности называют марками пива). Практически половиной США владеет мегамиллиардер Хэрри Гант, который отстраивает Эмпайр-Стейт-Билдинг, разрушенный протаранившим его самолетом (книга, учтите, написана в 1997 г.), возводит по всей стране небоскребы в милю высотой и собирается бурить нефть в Антарктиде. Ему противостоит группа веселых эко-террористов, возглавляемая одним из последних оставшихся в живых негром Филоном Дюфреном и его экипажем зелененькой в розовый кружочек подводной лобки «Ябба-Дабба-Ду»: они устраивают «дружественный теракты» (вроде потопления ледокола кошерной колбасой, разогнанной до скорости Мах9, после сбрасывания на него лимонного торта и бомбардировки взбитыми сливками). Тем временем в канализации убивают Уолл-стритского жулика, который намеревался перевернуть империю Ганта с ног на голову, и бывшая Гантова жена, работающая в Зоологическом бюро этой самой канализации вместе с не менее колоритными подругами (и призраком Айн Рэнд, поселившимся в шахтерской лампе) начинает собственное расследование. Понятно, что на поверхность выходит еще более масштабный и зловещий всемирный заговор. Среди персонажей — дочь эко-пирата Серафина, живущая в стенах (буквально) Нью-Йоркской публичной библиотеки, «фольксваген-жук», в который вселился дух выдающегося радикала 60-х Эбби Хоффманна, но в женском обличье, 181-летняя однорукая ветеранша Гражданской войны, которой никто не дает ее возраста и вышеупомянутая акула. А также лемуры и масса других прекрасных существ. В заговор оказываются впутаны знаменитый директор ФБР Эдгар Хувер, Уолт Дизни и банды роботов-убийц…Приветов от Томаса Пинчона тоже имеется во множестве.
Пересказывать роман бесполезно. Чтение уморительное и упоительное: текст остроумен, насыщен массой приколов, стиль парадоксален, сюжет непредсказуем. Для облегчения вхождения в роман в начале приводится список действующих лиц. Книга уникальная как на фоне нынешней сатирической фантастики (ибо отлично написана человеком, обладающим вполне шизоидной фантазией), так и в контексте современной прозы, ибо попросту очень смешна. Читайте, и будет вам счастье.
С новым годом, дорогие друзья! С новым трудовым счастьем!
Наш новогодний литературный концерт
Так, ну всё, скажете вы. Диск-жокей радиостанции Голос Омара окончательно слетел с катушек, соскочил с дорожки, а свободной бобины у него, видать никогда и не было. Какой еще новый год? Ты на календарь когда в последний раз глядел?
А какая разница? — отвечу я находчиво. Свеча по-прежнему горит, ночи длинные, зима еще не кончилась. Стало быть, с новым годом, дорогие друзья.
Ну а кроме того, оно же как было, вы хорошо помните последовательность событий? Сначала было Рождество, потом Новый год (ну это же логично, как поезд и море: сначала одно, потом другое, и никак не наоборот). А потом? Помните, что было потом?
...А потом было опять Рождество и опять Новый год. Ну куда это годится? Это что ж, у нас может быть сколько угодно рождеств и новых годов?
Хм, подумали мы. А ведь это, по сути, неплохо. Примерно как версий «Рождественского романса» — чем больше, тем лучше.
Поэтому что я хочу вам тут сказать. Будьте готовы к тому, что в течение всего следующего годы мы вам будет еще не раз устраивать новогодние концерты.
Это был привет от Патти Смит Михаилу Булгакову, ну а нам все же пора выносить елку. Или подождем еще и китайского нового года?
У нас завтра уже февраль, если не забыли:
Заодно сразу достаем чернил — и погнали, по традиции:
Так, чтобы в позвоночнике — пленительный февраль:
С железом в голосе
"Железная хватка", Чарлз Портис
Чарлз Портис (р. 1933) — живой классик «неизвестной» американской литературы, один из немногих великих затворников, автор пяти романов (два из которых были экранизированы). Живет в Арканзасе, с прессой не общается, хотя сам долгое время проработал журналистом, считается прямым литературным наследником Марка Твена, выдающимся стилистом и мастером комического романа. Интриге, связанной с его именем, способствует, например и то, что в Библиотеке Конгресса США официально действует Общество Ценителей Чарлза Портиса, состоящее из двух его друзей и куратора библиотеки.
Издание всего его творческого наследия в России могло бы стать заметным издательским поступком (в США, например, пресса до небес превозносит издательство «Оверлук» за то, что оно заново открыло этого прекрасного писателя), но не стало — вышла только одна, да и то, потому что кино. Меж тем, критики резонно замечают, что читать его книги — сродни переживаниям, когда вас прижимают к полу и до смерти щекочут.
Пять его романов различны по колоритной фактуре, хоть и сходны сюжетными линиями. В основе каждого лежит образ человека, пускающегося на тщетные или плодотворные поиски чего-либо и по пути встречающего бездну различных цветистых персонажей — жуликов, простаков, неудачников и трепачей. Схема понятная и опробованная веками, но действует безотказно.
Первая книга писателя — «Норвуд» (экранизированная в 1970 г. с певцом и гитаристом Гленом Кэмблом в главной роли) — рассказывает о безумных похождениях бывшего морского пехотинца из Техаса Норвуда Прэтта, которого так достала жизнь в крохотном городке, что он пускается через всю страну в Нью-Йорк за своим бывшим сослуживцем, чтобы взыскать с него долг в 70 долларов. Встречи с различными отбросами общества и — главное — разговоры с ними незабываемы. Роман считается классикой жанра романа-странствия.

Самым известным произведением Портиса, наверное, можно считать «Верную закалку» — историю 14-летней Мэтти Росс, которая в сопровождении маршала (судебного исполнителя) «Кочета» Когбёрна, вечно пьяного, но крутого омбре, бывшего налетчика, отправляется в конце XIX века на индейские территории в погоню за другим бандитом, который по злобе застрелил ее отца. Повествование ведется от лица девочки, потерявшей в приключениях руку, однако бандита собственноручно прикончившую. Этот гимн человеческому мужеству, упорству и чисто американскому индивидуализму и прагматизму больше всего критики сравнивали с «Приключениями Хаклберри Финна» и сходство действительно есть — книга это взрослая, но с упоением будет читаться и детьми, как уже неоднократно бывало с подобными классическими работами.
У этой книги довольно непростая судьба, о чем мы узнаем из послесловия Донны Тартт, которой в русскоязычном пространстве необъяснимо повезло гораздо больше. У названия этой книги — судьба не менее сложная. В основном — благодаря опять же непростым отношениям романа со своими экранными версиями.
Первая экранизация книги (1969, режиссер Генри Хэтауэй) по-русски именовалась либо «Истинной доблестью», либо «Настоящим мужеством». Вторая экранизация (2010, режиссеры Итан и Джоэл Коэны) по вывернутой прихоти недалеких русских кинопрокатчиков названа «Железной хваткой». Есть у фильмов такое свойство — они могут называться как угодно. Ни логика, ни здравый смысл главных ролей в прокате не получают. При этом мы понимаем, что оригинальное название романа и его экранизаций изменений не претерпело — оно всегда оставалось простым и ясным: «True Grit».
При работе над текстом у переводчика тоже было некоторое количество версий. Среди них: «Твердость характера», «Крепость духа», «Стопроцентная выдержка», «Подлинная стойкость» и даже «Стиснув зубы». Все это с разной степенью точности отражает многозначность первоначальных восьми букв с пробелом, но в конце мы с редактором перевода остановились на варианте «Верная закалка». И мы бы, видимо, предпочли, чтобы по-русски эта прекрасная книга называлась именно так. Почему не иначе? Есть надежда, это станет ясно, когда вы прочтете роман. А если это название вас чем-то не устраивает, мы предлагаем вам выбрать любое другое. Какое вам больше нравится. Ну, или придумать свое.
Самая смешная же книга Портиса — «Южный пес», где рассказчик Рэй Мидж отправляется по следам жены Нормы, сбежавшей от него к своему первому мужу Гаю Дюпре, но в драндулете самого рассказчика. Собственно, не жена Миджу, понятно, нужна, а машина, и в этой упорной погоне он проезжает все Соединенные Штаты и Мексику и оказывается в Гондурасе. Его партнер — некий доктор Рео Саймз, «человек с деньгами без счета», один из самых запоминающихся жуликов во всей истории плутовского романа: лишь немногие из его «схем честного отъема денег у населения» оказываются абсолютно легальны. И снова гений комедии диктует автору нескончаемые искрометные монологи, перетекающие один в другой и ткущие красочный ковер литературной реальности.
Два поздних романа Портиса балансируют на грани ядовитой сатиры. «Повелители Атлантиды» — история взлета и падения некоего культа Гномонов, основанного жуликом для легковерных дебилов: его цель — постижение тайного знания Востока, служба на благо общества и ношение дурацких колпаков. Каждого чудаковатого персонажа Портис рисует несколькими запоминающимися штрихами, и перед нами предстает парад уродов (тм) редкой красоты и выразительности. Мысль, к которой подводит автор: все тайные общества в истории человечества — от масонов до ЦРУ — суть продукты общественного самообмана.
И наконец последний — «Гринго» — рассказывает о сообществе американских эмигрантов в Мексике, которое отправляется на поиски Недостижимого Затерянного Города Зари, что, «как магнит, притягивает проходимцев и романтиков со всего Нового Света». В майянских джунглях все персонажи так или иначе обретают просветление и собственную «псише» — хоть и не вполне традиционным и приемлемым образом.
Это был наш очередной сеанс литературно-книгоиздательского шаманизма, ко всему прочему.
Вторая лучшая кровать и полное собрание сочинений
Романы о Шекспире, Роберт Най

Роман выдающегося британского поэта, критика и прозаика Роберта Ная — своеобразное предисловие к его объемному труду «Покойный г-н Шекспир». Если в «Г-не» Най реконструирует жизнь британского барда — весьма непочтительным и спорным образом, надо сказать, — от лица одного из актеров его театра много лет спустя после смерти поэта и драматурга, то в «Полном собрании сочинении г-жи Шекспир» то же самое происходит под несколько другим углом.
Книга представляет собой все, что когда-либо было написано Анной Хэтауэй, женой Шекспира, оставленной им в Стратфорде-на-Эвоне. Эта женщина, как известно из источников, всю жизнь хранила верность мужу, вырастила двоих детей и вообще вела жизнь образцовой домохозяйки того времени. И не прочла ни единой работы супруга. Кроме этого, о ней мало что известно.
Здесь же она предстает тоже с неожиданной и тоже провокационной стороны. Книга представляет собой нечто вроде ее мемуаров о муже через, опять же, много лет после его смерти. Ключевое событие — ее единственный за 30 лет приезд в гости к мужу в Лондон, где он показывает ей достопримечательности (весьма условные), приводит к себе и они там несколько суток яростно занимаются тем,
 чем и полагается заниматься
супругам. Рискованными (для нее) сексуальными играми. На «первой лучшей
кровати», подаренной ему за неочевидные услуги одним из его богатых
покровителей, они проигрывают все пьесы Шекспира — в сильно эротическом контексте.
И, коротко говоря, мы начинаем понимать из отчета этой суровой женщины, что
именно такова и может быть истинная любовь между ними — именно такой странный и
зловещий комплекс чувств и поддерживал ее все это время. И перед нами предстает
история непростой и жесткой, но большой и какой-то внутренне правильной любви
на все времена.
чем и полагается заниматься
супругам. Рискованными (для нее) сексуальными играми. На «первой лучшей
кровати», подаренной ему за неочевидные услуги одним из его богатых
покровителей, они проигрывают все пьесы Шекспира — в сильно эротическом контексте.
И, коротко говоря, мы начинаем понимать из отчета этой суровой женщины, что
именно такова и может быть истинная любовь между ними — именно такой странный и
зловещий комплекс чувств и поддерживал ее все это время. И перед нами предстает
история непростой и жесткой, но большой и какой-то внутренне правильной любви
на все времена.
Но главный крючок текста Ная, разумеется, не только в этом. В книге дается своеобразный ключ к будущему (на тот момент) большому роману: автор касается основных позиций «шекспировской мифологии»: истории про «вторую лучшую кровать», отписанную вдове в завещании, «потерянных годов» его жизни (куда он ездил в Европе, когда несколько лет скрывался от кредиторов), чем Шекспир занимался в Лондоне до того, как стал штатным драматургом, сам ли он писал свои произведения, кому посвящены его сонеты и кто, собственно, такая «смуглая дама» (образ инфернальной жути в некоторых его стихах) — и т.д. Текст этот спорный, спекулятивный, разумеется, пронзительный и крайне интересный не только для шекспироведов. С большим романом он составляет единое целое и как таковое должен восприниматься — помимо того, что это, одновременно самостоятельное произведение.
Роман с убийством
"Криппен", Джон Бойн
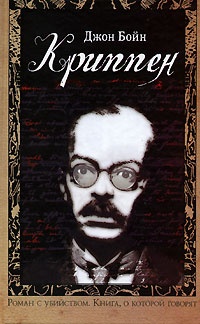
Июль 1910 года. В доме № 39 по лондонской улице Хиллдроп-креснт сделано кошмарное открытие: в его подвале нашли расчлененные останки певицы мюзик-холла Беллы Элмор, жены доктора Хоули Харви Криппена. Однако сам доктор Криппен и его любовница Этель Ле-Нев скрылись в неизвестном направлении. На другом берегу Ла-Манша, в Антверпене, капитан Кендалл отдает приказ команде парохода «Монтроз» начать двухнедельное плавание в Канаду. На борту — около 1300 пассажиров, в том числе властная Антуанетта Дрейк с дочерью, непритязательная Марта Хейз и загадочный Матье Заилль со своим племянником Томом Дюмарке. А также — незаметный мистер Джон Робинсон и его семнадцатилетний сын Эдмунд…
«Криппен» — роман одного из лучших ирландских писателей нового поколения Джона Бойна, воссоздающий подробности удивительной попытки побега самого известного убийцы в истории ХХ века. И сейчас, больше века спустя, в «деле Криппена» решены далеко не все загадки.
История — удивительная штука. Ее — как и закон — сейчас, пожалуй, актуальнее всего сравнивать с пресловутым дышлом: куда повернешь, туда и приедешь. Однако нам с вами в этом отношении легче: писателям охотнее прощаешь творческие игры с историей, чем политикам или журналистам.
Ирландец Джон Бойн стал заметной фигурой современной западной литературы именно благодаря своему особому взгляду на историю. Его первый роман «Похититель вечности» — по сути, одна большая мозаика объемом в три века, составленная из элементов, в общем, достоверных, но складывающихся в отчасти непривычную картину. Бойн работает с историческим материалом, как доктор Франкенштейн с деталями человеческого тела: не грубо, нет, но — по-своему. И результат точно так же впечатляет.
Исторический масштаб его знаменитого романа «Криппен» гораздо скромнее. Основа книги — знаменитая трансатлантическая погоня за самозванным доктором Хоули Харви Криппеном, гомеопатом с душой мясника, который, как полагали в 1910 году, «убил, сварил и съел» свою жену. «Дело Криппена» стало первым реалити-шоу ХХ века — не только потому, что выйти на след убийцы помогло модное техническое изобретение, телеграф Маркони, но и потому, что благодаря ему же превратилось в медиа-цирк: мир следил за погоней практически в реальном времени.
Джон Бойн создал достоверную реконструкцию этого сюжета, заполнив те лакуны, что остаются в деле до сих пор, ибо негодование и ужас общества в то время были таковы, что суд был скор, и Криппена повесили, но мотивы убийства, а также его подробности во многом остались непроясненными. Несмотря на расхождения версии Бойна с принятой ныне трактовкой событий (я думаю, читатель сам сможет определить в чем автор отходит от документальной канвы), реконструкция убедительна по одной простой причине. Ради любви мы действительно порой совершаем самые непростительные поступки.
Белочка, но не в этом смысле
"Таксидермист", Брайан Випруд

Первый роман американского комического детективщика Брайана М. Випруда «Таксидермист» (на таком — никаком — названии остановился издатель, хотя двусмысленная «Белочка» была бы гораздо лучше) — безумная и сюрреалистическая эпопея, оторваться от которой невозможно.
На «крутосваренный» детективный сюжет нанизаны похождения нью-йоркского таксидермиста Гарта Карсона, одержимого поиском собственно главного реквизита — чучела белочки, участвовавшего в детской телепередаче 50-х годов, посвященной угрозе вторжения русских (деткам-телезрителям в качестве игрового интерактива предлагалось прятаться под столами и запасать продукты на случай термоядерной войны). Белочку Карсон примерно находит, но в процессе сталкивается со всемирным, естественно, заговором неких ретро-маньяков (одержимых, в свою очередь, стилем жизни 50-х годов, свингом и черно-белым телевидением). Они отнюдь не уморительны, эти маньяки, они крайне опасны, но в поисках таксидермисту помогает его давно потерявшийся брат Николас, занимающийся частным сыском в крайне сомнительной теневой зоне, и русский беглец из ГУЛАГа по имени Отто, изъясняющийся на весьма приблизительном английском и совершенно корректно употребляющий русскую инвективную лексику. Смысл заговора, который приходится разоблачать нашим героям, сводится к тому, что нынче американские корпорации программируют массовое сознание с помощью цветного телевидения, и депрограммировать это сознание можно якобы с помощью перезвона трех сфер из металлического водорода, украденных, естественно из Советского Союза и как-то затерявшихся на просторах Америки. Одна из сфер, само собой, оказывается зашита в голову искомой белочки, поскольку главный заговорщик — ведущий той самой детской передачи, тоже беглец из СССР по фамилии Букерман, считающийся давно покойным. По ходу дела, в потасовках с ретро-негодяями во фраках и перемещениях по Нью-Йорку на — в том числе — велорикше, выясняется, что культ «джайва» ставит своей целью вовсе не освобождение массового сознания, а вовсе даже наоборот — его порабощение, плюс к этому Букерман вполне жив и правит культом, замаскировавшись индейцем-адвокатом (а получается это у него потому, что в советской своей жизни он был якутом — с еврейской фамилией и традиционным якутским именем Лось)…
В общем и целом, сюжет, конечно, пересказывать бесполезно, потому что это чистое безумие и потрясающая белиберда с развесистой клюквой, — но развлекает он неимоверно. В том, что я вам сейчас наговорил, даже спойлеров особых нет. У «Белочки» есть приквел — называется «Чучелко», на русском его не существует. Из него мы узнаем, откуда взялся Отто, почему Карсон стал таксидермистом и одержим ретро-стилем. Белочек там, увы, нет, но есть маринованные белые вороны, мертвые пингвины, которым нравятся мятные тянучки, и множество других живых и набитых опилками персонажей. В общем, все как мы любим.
Сеанс новогоднего книгоиздательского шаманизма
Любой роман Мартина Миллара
Британского писателя Мартина Миллара в России знают преимущественно под псевдонимом «Мартин Скотт» — как автора веселой трэш-фантастики «Фракс». Мы же считаем, что он гораздо интереснее выступает под своим собственным именем — как автор не менее веселых и не менее трэшевых романов из жизни современных английских и американских маргиналов (за что, как и за общий отвязный стиль повествования, а также за внимание к близкой нам жизни низов — рок-музыкантов, бездельников и прочей молодежи, вплоть до средних лет) он получил ярлык «брикстонского ответа Курту Воннегуту». Книги его, как правило, полны удивительных и неправдоподобных приключений, уморительных коллизий и крайне колоритных персонажей.
То, что последует далее — в известном виде нарушение правил игры радиостанции «Голос Омара», потому что три изданные книжки Миллара, представленные здесь иллюстративным рядом, вы, можете найти и сами, а я сейчас вкратце расскажу о том, чего все не читающие по-английски, лишены.
Сюжет романа «Мечты о сексе и нырках со сцены» вертится вокруг Эльфы — панк-рокерши, одержимой именем персонажа британской мифологии Королевы Маб в качестве названия для своей группы. Задача организации группы осложняется тем, что бывший бойфренд Эльфы тоже хочет оттяпать себе это прекрасное название. Поэтому девушка, которая принципиально не моется, нигде не работает, не ест, а только пьет крепкие напитки и изводит соседок по квартире, пускается в сложную интригу, чтобы победить в негласном соревновании: выйти на сцену и прочесть 46 строк монолога Королевы Маб из Шекспира. Она умудряется изобретательно и причудливо запудрить мозги большому количеству друзей и знакомых (как в анекдоте про русского Ивана и президента швейцарского банка), вселить в них доселе не слыханные надежды, разнообразно надуть и облапошить, но в конечном итоге — победить. Сквозь причудливый антураж лондонского маргинального дна пробивается основная — и довольно светлая — мысль романа: достаточная степень безумия и веры в свое дело способна творить чудеса и улучшать человеческую природу.
Следующий по времени роман Миллара «Мир и любовь с Мелодией Парадиз» — история о женщине, которую все знают и все любят. Женщины стремятся на нее походить, мужчины влюбляются в нее. Мелодия добра, высокодуховна и очень красива. А кроме того, у нее есть великая миссия. Ее общину путешественников по миру раздирает череда кошмарных и загадочных происшествий, поэтому Мелодия желает вновь собрать вместе единомышленников и обрести рай на земле. А с этой целью организует фестиваль искусств, на котором и разворачиваются поразительные и непредсказуемые события — с крайне неожиданным концом и рассказанные колоритным и афористичным языком.
«Руби и диета каменного века» продолжает серию книг Миллара о героях брикстонского социокультурного подполья. Поверье гласит, что истинная любовь расцветает, когда цветет Кактус Афродиты. Рассказчику Миллара смертельно хочется, чтобы он зацвел, но возлюбленная Сис покидает его — однако на смену ей приходит женщина-загадка Руби, босоногая, в сиреневом платье. Она всегда рядом, она всегда развлечет его историями об оборотнях, богах и богинях… И снова Мартин Миллар сплавляет в причудливом и грустно-веселом сюжете своей современной притчи мифологию, мистику и узнаваемую актуальную реальность.
«Поэт Люкс» — классический роман Миллара, также нашедший воплощение и продолжение в графическом романе «Люкс и Олби логинятся и спасают Вселенную»: главный герой, вооруженный лишь зубной щеткой с логотипом «Звездных войн» и внешностью звезды кино Ланы Тёрнер, спасает свою подругу Жемчужинку от разъяренных толп бунтующего Брикстона и после целой череды весьма активных приключений выводит ее прямо к камерам национального телевидения.
Ну а из самого свежего — массивная трилогия о Юной Волколачице Каликс (последняя часть вышла пару лет назад, и это отвал башки), а также роман, продолжающий его «брикстонскую сагу» — «Богиня лютиков и маргариток». Одни названия у него, как видите, чего стоят…
Все книги Миллара строятся на активных сюжетах, комических приключениях, узнаваемых персонажах и абсурдных ситуациях, что делает их идеальным чтивом XXI века. Они написаны живо, легко и афористично, их забавно цитировать и, что немаловажно, весело пересказывать друзьям. Такая разновидность умного юмора всегда востребована теми читателями, что поумней, и идеально совпадает с нынешним темпоритмом восприятия. Быть может, по результатам этого эфира на Миллара обратит свой взор и какой-нибудь русский издатель — история нашей радиостанции уже знавала такие случаи. Тогда у романов Мартина Миллара появится еще одно продолжение.
И эта "зима" скоро кончится
Наш позитивный литературный концерт
Настоящий рождественско-новогодний литературный концерт у нас был в прошлом году, и он, конечно же, незабываем: «Должно быть, Санта». У нас для вас хорошая новость — он по-прежнему актуален, поэтому смело включайте его себе в плей-листы и отправляйтесь праздновать.
А мы повторяться не станем — и начнем нашу программу с этой вот песенки, которая уже, пожалуй, чемпион по упоминаниям в разных произведениях литературы. Сегодня у нас — только хорошие новости. Что Рождество наступило, все помнят, собственно, уже тридцать с лишним лет:
Так что об этом особого смысла напоминать как-то нет, хотя вот эта конкретная песня, помимо своего правильного посыла, являет нам ненулевое количество давно знакомых лиц. А также наделена высоким индексом цитируемости в мировой литературе, как и первая песенка. Но есть у нас для вас и новые имена и лица, например — А. А. Милн, выступающий сегодня отнюдь не с Винни-Пухом:
Это Милн-то — новое имя? — спросите вы. И где здесь лица? Тут же только облака. Спокойно. На классиков можно положиться всегда. Отличных вибраций в это время года способен добавить даже Херман Мелвилл:
А что до новых имен — не беда, если вы не читали «Книгу снов» Питера Райха — достаточно того, что ее в свое время прочла Кейт Буш. Тут тоже про облака, к тому же:
А как же Алиса? Вы правы — без Алисы никак. Льюис Кэрролл — гарантия неизменно хорошего настроения. Особенно если и здесь новые лица.
Бертольт Брехт, собственно говоря, — тоже, особенно когда выступает укомплектованным Куртом Вайлем и Амандой Палмер (а не нам вам рассказывать, что она принадлежит к одной из самых литературных семей нынешнего столетия):
Да, с детства знакомые лица и романы — это, по большей части, всегда приятно. Вот и Сирены Титана это подтверждают:
А уж если обратиться к классике, тут предела радости не будет. Смотрите, какой сонет Шекспира № 43 прекрасный:
Даже сага о Глассах великого затворника Дж. Д. Сэлинджера может поднимать настроение и, главное — напоминать о лете, которое уже совсем скоро:
В общем, если мысли о лете (или других временах года) сейчас невыносимы, а наш маленький зимний концерт вас не приободрил — вы знаете, что делать:
Забирайтесь под одеяло с хорошей книжкой — и будем вместе ждать весны. А, да: с новым годом!
В краю Дерсы и Узалы
"Собрание сочинений в 6 т.", Владимир Арсеньев

Чтение Арсеньева — это возвращение в детство. Чтение Арсеньева сейчас — это дань детству, в котором Арсеньева, видать, не додали. Да и немудрено — издавали его тогда в детских пересказах, а в трехтомнике «Рубежа» (из заявленных шести, но черт его знает, состоится ли, и если да, то когда) — все настоящее, сверенное и восстановленное. Эти три тома — подвиг, в первую очередь, редактора Ивана Егорчева, который кропотливо все это делает. И что бы ни говорили вам в интернетах, первое полное издание Арсеньева после «Примиздатовского» шеститомника 1947 года — вот это (да, издательство «Краски», находившее по адресу пр-т 100-летия Владивостока, 43, — это какая-то разводка, их издания никто не видел).
Чтение Арсеньева очень успокаивает, как выяснилось. Особых головокружительных или зубодробительных приключений у него нет, места всё знакомые, регулярные списки флоры, фауны, горных пород и названий притоков — это, по сути, мантры. В общем, все монотонно, а писатель Арсеньев скверный (хоть и получше графомана Байкова — у ВК я насчитал всего с десяток повторяющихся клише). Противостояния человека и природы тоже как-то не присутствует, если не считать загадочной голодовки в 4-й экспедиции, когда у всех вдруг развилась алиментарная дистрофия. Поневоле задумаешься, не из-за смерти ли Дерсу это случилось. А сам Дерсу прекрасен, хотя и типичен — мы же понимаем, что образ это скорее собирательный, да и на его месте мог оказаться какой угодно гольд. Их потом и было у Арсеньева сколько-то.
Ну и да — при чтении двух первых книг его трилогии (они же и самые знаменитые), отчетливо понимаешь, кто на Дальнем Востоке хозяин. Это даже не китайцы и не маньчжуры, а несчастные затравленные и сведенные к ногтю туземцы этого неопределимого этноса. В русском же населении, за редким исключением (староверов, например), а особенно — у ебаной местной власти, — и до начала XXI века уживаются психология гастролера (урвать побольше и поскорей) и переселенца (пусть казна нас кормит). Вот это и есть доминанты всего политического дискурса Дальнего Востока, так что какая уж тут самостоятельность в диапазоне от автономии до независимости? Этими векторами у них все и ограничивается.

Том второй — продолжение путешествий Арсеньева после смерти Дерсу. Фактически это третья часть классической трилогии с дополнительными материалами + внезапно экспедиция 1927 года, а интервал в 17 лет пока остался незаполненным. Читать — как заполнять пустые места на картах Дальневосточной Атлантиды. Мантрический характер письма сохранился (и стиль чуть получше, чем в первых двух), а ритуальный характер хожденья по тайге придает определенный монотонный ритм повествованию, вкупе со списками пород (геологических, животных и растительных) и топонимов. Приключений тут тоже несколько больше — в силу того, что север Сихотэ-Алиня вообще место не благостное, все скитания Арсеньева и компании можно вполне рассматривать как квест по предместьям Мордора, без начала и с крайне туманной целью: смысл их — сам процесс скитаний. Все это и сообщает его книгам то самое обаяние непосредственно переживаемого опыта (как авторского, так и читательского).
Сам я в тех местах бывал лишь проездом из Хабаровска до Совгавани — можно сказать, что и не бывал вообще, но побережье Татарского пролива даже на меня в 80-х произвело самое тягостное впечатление (с другой стороны, на Сахалине, где я побывал позже, кстати сказать, — тоже; депрессивные эти места я до сих пор вспоминаю с некоторым ужасом). Арсеньев сейчас это мое тогдашнее мнение подтвердил (градус жути, каким бы ни был ничтожным, в этой части его записок выше, чем в первых книгах, чье действие происходит южнее). Как там выживали туземцы, понятно не очень, но у них с местными чертями явно было особые отношения. А места это неприятные то ли потому, что потоки ци с континента перекрываются Сахалином и образуют энергетические вихри, в которых это самое черт знает что может завестись, то ли еще почему. Но с летающим человеком Арсеньев, судя по косвенным данным, сталкивался. Также интересно и то, что именно огромное и тяжелое таскают по своему дну не очень глубокие и широкие дальневосточные реки.

В третьем томе Арсеньев предстает больше «человеком государственным» — здесь собрана часть его околонаучной публицистики и несколько ее жемчужин (исторических, мифологических, антропологических, этнографических и даже одна охотоведческая, как это ни странно). Ну и кроме того, мы не забываем, что он был «военным востоковедом» — все его экспедиции носили так или иначе секретно-рекогносцировочный характер, и в этом томе представлены некоторые результаты, не вошедшие в книги «для широкого читателя». Хотя он вольно пользовался «копипастой» и утилизировал многие куски из своих предыдущих работ, лишь слегка (или вообще не) их видоизменяя, мы едва ли будем вправе его в этом упрекать: посмотрим, как вы будете относиться к своей писанине, если писать станете урывками у костра в тайге после целого дня утомительных переходов по бурелому и снегам.
Как патриот Арсеньев, ясное дело, печется о благе страны, хотя забота его весьма умозрительна и наивна: он полагает, что кто-то, помимо него — и местных «инородцев», которых он искренне любит, — заинтересован в рачительном использовании таежных богатств. История наглядно показала, до чего он заблуждался: всем, от уездного начальства, до правительства в столицах, всегда было насрать, вымрет от бескормицы местное население, потому что пьяные переселенцы пустили неавторизованный пал, или нет. В этом смысле ничего не изменилось за прошедшие сто лет. Вопрос о необходимости дальневосточных колоний для империи по-прежнему висит в воздухе. В этом — и корни уже упоминавшего менталитета провинциальных обывателей.
Также крайне замечательно и показательно его отношение, например, к староверам. Он восхищается их несгибаемой нравственностью, порядливостью, однако тут же, не переводя дух, сетует на отсутствие у них «патриотизма»: переметнутся-де к японцам, если те не будут их обижать. С нынешней точки зрения такой очерк староверов и впрямь выглядит удивительно: они, похоже, умудрялись сочетать в себе косную традицию и здравый рационализм человека на (своей, но не всегда) земле, что делало их поистине космополитами — живи и давай жить другим, лишь бы в солдатчину никто не забривал. То же и с китайцами, при всей их неоднозначности на этих территориях: все, кто живет в гармонии с окружающей природой, вызывают уважение и восхищение Арсеньева. Хоть наш исследователь и служил, по сути, правящему режиму (и не одному), в глубине душе он оставался все же одиночкой и стихийным анархистом.
Теперь о грустном. Со-редактором третьего тома стал Владимир Соколов, а он, при всем моем к нему человеческом расположении, — прямо-таки явление инопланетного (в плохом смысле) разума. Статьи его, включенные в этот том, написаны «по методу Барроуза»: «Берем слово. Любое слово». Оттого то, что он хочет сказать, зачастую понять решительно невозможно. То, что было бы для этой книги, рассчитанной все ж не на читателей диссертаций, полезным (к примеру, очерк состояния русской этнографии и американистики в начале ХХ века или вполне оригинальные систематические соображения о «Маньчжурском мифе»), натурально тонут в потоках пустословия и того псевдоакадемического воляпюка, который, я полагаю, ныне канает за «исторический дискурс». Постоянное оправдывание присутствия России на этих территориях тоже, конечно, непростительно — и для историка, и для редактора (некоторые выводы Соколова впрямую противоречат впечатлениям и выводам Арсеньева, когда он его комментирует), и для жителя планеты Земля.
Тексты Соколова тут — обычный буквенный продукт современных «торговцев воздухом» и продажных политконсультантов. Такое камлание — помаванье руками и притягивание «мудей к бороде» — лучше всего воздействует на тупых чиновников и администраторов: они все равно не в состоянии понять 2/3 написанных слов и синтагм, для них там все звучит «по-научному», обильные сноски с еще большим количеством «умных» слов, набранных мелким кеглем, их гипнотизируют, и они замирают, даже не моргая. После этого, понятно, им можно продавать все, что угодно продавцу: рабский извод регионализма, например. Таков, по крайней мере, замысел, освященный традицией, — так делалось на Руси издавна (этим же порой грешит и Арсеньев, заметим в скобках, только он гораздо человечнее и порядочнее, да и «дискурс» тогда был не так изощрен). При переводе же на нормальный язык такие тексты усыхают в 5–10 раз, и читатель, подавляя в себе взрывы сардонического хохота (как в многостраничном трактате о связи «интертекста» и «гипертекста», например), то и дело ловит себя на мысленном вопле, адресованном автору: а теперь то же самое, но по-человечески! Предполагается, что эту книгу все же люди будут читать.
Очень жаль, в общем, что текстологические комментарии Ивана Егорчева (они, напротив, написаны нормально, информативны и уместны) стали жертвой этого «псевдоисторического шаманства»: на них постоянно встречаются отсылки, но сами они в томе отсутствуют. Другого объяснения этому косяку у меня нет, кроме того, что их пришлось выбросить в угоду статьям Соколова. Еще один системный недостаток: черно-белые репродукции цветных карт Арсеньева не имеют совершенно никакого смысла — разглядеть что-либо на них не представляется возможным.
И о названии этого краткого обзора. Это строчка из нашего студенческого коллективного творчества. Несколько лет в начале 1980-х я как раз и проводил по месяцу-полутора примерно в тех местах, по которым за 70 с лишним лет до нас ходил Арсеньев, — в долине реки Ваку Иманского уезда (ныне, понятно, река Малиновка, а район Дальнереченский), Да, в колхоз "на картошку" я ездил по любви. Ну и потом заезжал, в частности — в Картун, где он не раз останавливался (это сейчас называется Вострецово). Друзья у меня до сих пор там живут, чудесные это места. А полностью процитированный текст выглядел так:
В краю Дерсы и Узалы
Средь комариной погани
Люблю вязать себе узлы
На детородном органе.
Надо ли говорить, что поэтическая гипербола здесь все, кроме "комариной погани"?
Инуитские песни
"Триптих", Саша Соколов
Стихи эти щекочут нёбо, перекатываются на языке, от них сжимается горло и спирает дух. Читать «Триптих» нужно только вслух, хотя бы себе, иначе — нельзя, не выдохнется, не пролезет. Это три совершенно гениальных «проэтических» диалога (на самом деле — один, распределенный по времени и страницам), жанр почтенный и отчасти шизофренический. И при этом — совершенно ни о чем, какова и должна быть настоящая литература, вернее сказать — ни о чем в особенности и о многом сразу. На память приходят французы, но вот их «буржуазное мелкотемье» в сравнении блекнет, а тут хочешь не хочешь, а в очередной раз полюбишь родную речь и ее язык, цепляющий нога за ногу, слово за слово, звук за звук. Инуит-интуит Саша Соколов опять это сделал со мной. Вот начало:
Типа того, что, мол, как-то там, что ли, так,
что по сути-то этак, таким приблизительно
образом, потому-то и потому-то,
иными словами, более или менее обстоятельно,
пусть и не слишком подробно:
подробности, как известно, письмом,
в данном случае списком, особым списком
для чтения в ходе общей беседы, речитативом,
причём, несомненно, в сторону
и не особенно громко, по-видимому, piano,
вот именно, но понятно, что на правах
полнозвучной партии, дескать,
то-то и то-то, то-то и то-то, то-то и то-то
и прочее, или как отсекали еще в папирусах,
etc
и несколько ниже: и то-то...
Сказки о страшном
"Гретель и тьма", Элайза Грэнвилл
Книжка для людей. Простые люди, не знатоки, не идеальные читатели (тм) станут ее читать и ужасаться, увлекаться, а то и всплакнут наверняка. Смеяться будут вряд ли, потому что смешного в ней нет ничего, - она, среди прочего, о том, как нам наконец избыть боль и справиться с генетической памятью о Второй мировой. Казалось бы, сколько можно уже, да, но вот Элайза Грэнвилл нашла другой подход, неожиданный и вполне удивительный. Сравнивать ее с "Мальчиком в полосатой пижаме" или "Книжным вором" тоже не стоит - она все-таки немного о другом и иначе, хотя - попомните мое слово - сравнивать будут, с треском пустословия и под фанфары глубокомысленности. Выглядеть такие сравниватели будут, конечно, преглупо - а чего с "Горячим снегом" не сравнить или "Августом 44-го"? Тоже о войне, чо. Больше всего это похоже, мне кажется, на "Город воров" Бенёффа и "Мандолину капитана Корелли" Луи де Берньера, но этого вряд ли кто заметит.
А Грэнвилл водит читателя за нос практически до самого конца, подбрасывая новые повороты вроде бы незамысловатого сказочного сюжета, счищая все новые и новые слои повествования. Как, в самом деле, избывать боль, которая "надоела миру"? Только рассказывая сказки. Вот увидите - вы сами не успеете сообразить, как очень удивитесь, читая эту книжку. И не раз.
Люди среди людей 2
"Бен среди людей", Дорис Лессинг

Однако первая книга заканчивается на достаточно безысходной и неопределенной ноте, поэтому через несколько лет Лессинг возвращается к своему герою и вводит его, собственно, в мир. Ее интонация остается такой же ровной и невовлеченной, но по сравнению с психологическим макабром первой книги, «Бен среди людей» читается положительно как триллер. Пересказывать сюжет — значит пересказать всю книгу, поскольку она так насыщена событиями, выписанными с такой динамикой, что необходимости перегружать книгу «авторскими отступлениями» просто нет.
Бену 18 лет, но выглядит он на 35. В результате целой череды обманов (включая перевозку крупной партии героина во Францию, съемки в несостоявшемся фильме и спасение от бесчеловечных маньяков-ученых) он оказывается в Южной Америке, где ему обещают встречу с «его народом» (а мы к этому времени уже понимаем, что Бен — странная загадка природы, «потерянное звено» человеческого развития, «снежный человек», родившийся у современной женщины). И единственный способ примириться с окружающим миром — броситься в холодную пропасть высоко в горах. Дорис Лессинг строит сюжет так, что не сочувствовать этому странному и необъяснимому существу просто невозможно, а богатые литературные аллюзии (от «Кандида» до Маркеса) опять-таки обманчиво простого текста расцвечивают ткань повествования и придают ему глубину.
Со смертью матриарха английской словесности уже не спросишь, что она хотела сказать этой странной дилогией, но мы-то нам на что? Мы можем и свои выводы делать. И одним из них может быть такой: ну вот нарожаете вы детей, маленькие смешные люди, — и что с ними дальше делать, хоть знаете? То-то и оно. Сама Дорис Лессинг за свою долгую жизнь похоронила двух сыновей. А вот дочка жива до сих пор.
Что делать нам в деревне?
Как справиться с зимней хандрой при помощи нашего литературного концерта
Если вы не забыли, у нас — сплошное торжество крестьян:
Вопрос, как видим, прозвучал, поэтому честь книжных радио-жокеев велит на него честно ответить.
Можно уйти в Ривенделл, посмотреть на эльфов:
Можно уйти в моря половить китов:
Или побегать по двору с курами (как в романе американской поэтессы Сапфир, по которому сняли кино, по которому сочинили песенку):
Можно сходить в оперу и поохотиться там на призраков:
Можно слетать на Марс — ну или прилететь с него на эту странную и чужую землю и основать на ней культ:
Можно забраться с любимой героиней книги на чердак:
Можно спеть себе колыбельную и лечь поспать:
Можно повыкрикивать лот № 49, вдруг отзовется:
Спеть Дерриде о своей любви к нему тоже можно:
Ну или попрыгать с Зигмундом Фройдом по прибрежным камням:
А еще можно послушать ветер в ивах и напиться вина из одуванчиков:
Без кадрили с омаром в эти долгие зимние вечера тоже никак не обойтись:
Главное в эту пору (да и не только в нее) — не забывать добрый совет Книги, которую обычно так и пишут с заглавной: все не обязательно так, как оно выглядит в окно (ну или написано в книжке, если уж на то пошло):
А все почему? Правильно: потому, что мы тут все — пришпоренные читатели:
Люди среди людей 1
"Пятый ребенок", Дорис Лессинг

Странная дилогия выдающейся английской писательницы ХХ века Дорис Лессинг, хорошо знакомой российскому читателю еще с советских времен. В «Пятом ребенке» классик и нобелевский лауреат отходит от своего традиционного видения мира в духе «критического реализма» (как в массивной пенталогии «Дети насилия») и, как можно ожидать от большого мастера, талантливо играет с «популярными» жанрами.
Первая книга «Пятый ребенок» начинается с довольно долгого, обманчиво спокойного и подчеркнуто реалистичного повествования рассказывающего о средней семье и ее жизни, предшествовавшей рождению пятого ребенка — Бена. По ходу дела мы выясняем, что, родив четверых, мать пятого особо не желала, а тут еще и ребеночек получился странный — его пугались дети и домашние животные, которых (существует подозрение) он душил уже года в два. Ребенок практически неразвит, но очень силен, и в грудном возрасте сильно мучает мамочку — в частности, тем, что постоянно орет. Вплоть до того, что сердобольные родственники с вялого согласия матери сдают странного ребеночка в жуткую больницу для недоразвитых, где их медленно успокаивают и убивают. Через некоторое время мать, в которой проснулся наконец родительский инстинкт и совесть, вызволяет свое чадо из этого кошмара. Обширное семейство с годами вынужденно рассеивается (включая отца, который все больше времени проводит на работе — все из-за непонятного ребенка), и мать остается в доме одна с ним. Поскольку ребенок совершенно неуправляем, его держат взаперти, но находят ему кого-то вроде няньки — хиппи и байкера, который вводит его в свою компанию, и Бен все больше времени начинает проводить с этими «сомнительными» с филистерской точки зрения личностями, которые одни относятся к нему по-человечески. Роман заканчивается тем, что мать сознает, что ребенок, должно быть, — совершенно не от мира сего, чужой в этом мире.
Лессинг в этой книге делает одну очень интересную штуку — в традиционное ровное повествование (безоценочно рассказываемую историю) вправляет двойное дно, и не одно. С одной стороны, это привычный роман с хитрыми поворотами сюжета, изложенный ровным и спокойным голосом отстраненного наблюдателя, который лишь изредка позволяет себе вмешаться в жизнь персонажей (главным образом — второстепенных, например, сообщить об их дальнейшей судьбе). С другой стороны — жуткий готический сказ, создающий ощущение безысходного ужаса, растворенного в обыденности, этакий «новый Франкенштейн», чудищем коего и является, по сути дела, несчастный маленький Бен. С третьей стороны, это социально-психологический этюд, подвергающий пристальному пересмотру до сих пор актуальные проблемы материнства, воспитания и человеческих ценностей вообще, но при этом, книга не выглядит трактатом, ибо, как это свойственно хорошей английской литературе, идеологическая составляющая не выпячивается в авторских монологах или речах персонажей, а рисуется собственно сюжетом и его перипетиями (за что российские читатели и любят английскую литературу — за фантазию). И вот эта игра (в том числе, с чисто литературными темами и сюжетами) придает «Пятому ребенку» богатую многомерность.
От гроба господня до гроба ГУЛАГа
"Нэнуни. Дальневосточная одиссея", "От Сидеми до Новины. Дальневосточная сага", Валерий Янковский

Опять у меня эта тяга к несбывшемуся (ну и по работе надо). Да и к никогда не бывшему — это же столько то, как оно было при нас, сколько то, чего мы никогда не знали и знать не могли. Потому что такие мемуары — это то, как оно могло быть.
В очередной раз стало ясно, что Маньчжурия, Корея и Приморье должны были бы стать единой и отдельной страной, это было бы логично и красиво. Со столицей во Владивостоке и своей Шамбалой на горе Пэктусан. Но возможно это стало бы возможно только при японской оккупации. А так остается в очередной же раз жалеть даже не о том, что «Цусиму просрали», а о том, что просрали такую страну.
Это становится до боли очевидным при сопоставлении его «записок охотника» и «лагерной прозы» (говоря условно). Потому что все истории об «этапах» — мощная прививка от «любви к [превратно понимаемой] родине» (и нет, песня Башлачева про Абсолютного Вахтера — не просто поэтическая метафора: Янковский описывает «бал на все времена» в мерзлых трюмах «морковок» ГУЛАГа). И советские концлагеря, конечно, включая лагеря уничтожения, от нацистских отличаются только климатом, поэтому поговорите мне еще о гуманности советской исправительно-карательной системы.

А родина может быть только «малой» — натурально тем местом, где родился, со всей страной не породнишься. Вот я и, как выясняется, видимо, по-настоящему люблю только этот странный угол Азии, которого никогда не существовало. И еще раз очевидно, до чего отвратительно все стало после прихода туда красных и большевиков — вернее, когда вся эта дрянь всплыла со дна хтонического болота. Не обязательно, кстати, русского — корейцы после 1945 года тоже отличились, результаты видны до сих пор: а тогда было тоже не очень понятно, откуда поналезла вся эта партизанская сволочь; вероятно, в Корее приход советской армии попросту легитимизировал маньчжурских хунхузов (как большевики поставили в закон всю эту люмпен-уголовную мразь по всей России), которых японцы безжалостно истребляли и поддерживали в стране порядок. Ну и «грабь награбленное», а как же — универсальная отмазка подонков: ведь вся эта их «классовая борьба» вытекает из лени, зависти и жадности.
Что же касается самого могучего Валерия Янковского (прожившего, напомню, 99 весьма разнообразных лет — три, если не четыре совершенно несопоставимых друг с другом жизни), то он будет писатель посильнее Тургенева — и уж конечно стократ лучше мерзавца Пришвина.
Еще уроки истории
"Люди, принесшие холод", "Герои вчерашних дней", Вадим Нестеров

Без преувеличения, "Люди, принесшие холод" — лучший исторический науч-поп, который мне доводилось читать в последнее время. Я даже не знаю, с чем сравнить (книги Юзефовича - это все же несколько иное, хотя родство у них имеется). Тем более обиднее, что книга эта не имеет своей издательской судьбы и добывается только на сайте историков Вадима и Елены Нестеровых - хотя, с другой стороны, это ценное напоминание о том, что информация должна быть свободной, в эпоху, когда о таком вообще, похоже, уже не думают.
Действие "Людей" охватывает тот период который был до Большой игры (с точки зрения, насколько я понимаю, принятой в истории) — т.е. проникновение русских на юг при Петре и чуть позже, когда активное противостояние с англичанами еще не началось само по себе, но Индия уже была в прицелах. Мало того: Нестеров взял ту — самую, пожалуй, «литературную» часть этого эпоса, которая не сильно касается политики кабинетных стратегов, а происходит натурально «в поле». Это истории нескольких ранних русских дипломатов («переводчиков», что несколько прибавляет гордости за профессию) и разведчиков, которые действовали в Средней Азии и на юго-западе Сибири.
И ему удалось соткать такой исторический нарратив, который мне, например, натурально не давал оторваться от чтения несколько вечеров. Профессиональным историкам такое, как правило, не удается — они слишком уж в материале и теме. Больше того — все это написано лихо и нормальным человеческим языком (вплоть до того, что текст приятно читать вслух — я знаю, я пробовал), в то время как цель историков, я подозреваю, — лишь скрыть от нас правду, а общую картину и вовсе зажать.
Что же до морали, то ее в этом тексте нет, как не бывает ее во всех исторических событиях (см. романы Томаса Пинчона, если непонятно, как это). Есть некоторое томленье — очень хочется продолжения истории, как в детстве: а дальше? а дальше? что же было дальше? Возможно, Нестеров и допишет — насколько можно судить, этот документальный роман есть его способ отдать дань тем «гениям места», с которыми сам он вырос. И это, я бы решил, — лучший способ разобраться со своим прошлым. Жаль, что у Дальнего Востока и Маньчжурии до сих нет такого летописца-популяризатора.
А "Герои" - прекрасный исторический очерк об Албазинском остроге, эдакая маргиналия к "Людям". Хотелось бы верить, что и к этой маленькой книжке издательская судьба окажется благосклонна.
Уроки истории
"Большая игра, 1856-1907. Мифы и реалии российско-британских отношений в Центральной и Восточной Азии", Евгений Сергеев
 Любопытная и подробная монография, с привлечением источников на английском (что освежает) и свойственными русской историографии недочетами. Любовь к «традиции» в написании имен делает ее местами совершенно непроницаемой: часто решительно непонятно, о ком в тексте идет речь, помогают только сноски на эти самые источники. К тому же историк — не переводчик, но это полбеды, у книжки не было и редактора, судя по всему, отчего в ней возникают совершенно чудовищные конструкции и опечатки, хотя при тираже в 800 экз. этого вряд ли кто заметит (но обидно же, блин, материал-то благодатный).
Любопытная и подробная монография, с привлечением источников на английском (что освежает) и свойственными русской историографии недочетами. Любовь к «традиции» в написании имен делает ее местами совершенно непроницаемой: часто решительно непонятно, о ком в тексте идет речь, помогают только сноски на эти самые источники. К тому же историк — не переводчик, но это полбеды, у книжки не было и редактора, судя по всему, отчего в ней возникают совершенно чудовищные конструкции и опечатки, хотя при тираже в 800 экз. этого вряд ли кто заметит (но обидно же, блин, материал-то благодатный).
Пробралось в текст, я подозреваю, и некоторое количество глупостей, поскольку историк все же у нас больше монокультурен, чем нет. К примеру, автор явно не знает, кто такой сэр Хенри Нормен и называет его «журналистом Норманном Генри». Насчет Брюса Локхарта он тоже как-то не в курсе и в плену у доносов ВЧК, к тому же: считает его «Р. Локкартом» и обвиняет в стотысячный раз в организации «посольского заговора».
Кроме того, в книге омерзительный иллюстративный материал: карты такого качества, что лучше бы их не было вообще, портреты действующих лиц представлены методом случайной выборки (например, зачем там дурак-отмирал Алексеев, я так и не понял, в тексте он, по-моему, вообще не поминается), а основную часть представляют дурацкие английские карикатуры (хватило бы и пары). Ну, в общем…
Ну а нарратив несет в себе все недостатки препарата под микроскопом, потому что историк — еще и не писатель: он часто довольно бессвязен и написано все таким языком, что ма-ма (примеров не даю, лень и неприятно). Хотя книжка оказалась очень поучительна, тут спору нет.
Поначалу Большая игра с обоих сторон подпитывалась паранойей кабинетных стратегов и шизофренией полевых командиров, и авантюристов в ней было навалом, отчего и происходили все эти топтания по перевалам и пустыням в душе «школы танцев Соломона Глянца». В Маньчжурию, которая, по понятным причинам, занимала меня больше всего, фокус смещается только примерно к началу ХХ века, когда участники несколько охолонули и поняли, что они делают что-то не то (поэтому название труда несколько обманчиво). Но даже в узком контексте Большой игры становится понятно, до чего гениален был С. Ю. Витте — Маньчжурия прекрасно работала бы не только как колония России, но и как буферное государство. Итог же Большой игры для России, боюсь, оказался неутешителен, что бы нам теперь ни рассказывали историки. От похода на Индию отказались, железнодорожную концессию в Персии не получили, в порты Персидского залива их не пустили, Тибет они тупо и подло слили, а Маньчжурию в итоге просрали все равно. Закрепились только в Средней Азии, и тактически это был, конечно, плюс, наверное, а стратегически — достижение вполне сомнительное по нынешнему состоянию дел. Нормально, в общем, так поиграли, — вплоть до того, что «мыть сапоги в Индийском океане» сейчас ходят через Сирию.
Потому что нынешний реваншизм режима по всем параметрам — если и не пещерный, то уж точно XIX века. Век ХХ эту кремлевскую хуйню ничему не научил ни стратегически, ни геополитически. Ебаные двоешники, совершенно непонятно, чем тут гордиться: экспансионистский нахрап себя не оправдывает, даже в позапрошлом веке это был путь в никуда, и англичане сообразили это быстрее. Такой вот урок истории.
В поисках настоящих героев
«Самодержец пустыни», «Зимняя дорога», Леонид Юзефович
Как-то так вышло, что до «Самодержца» руки и глаза добрели у меня только сейчас, хотя у этой книги долгая история. Видимо, подтолкнул выход «Дороги», и должен сказать, что обстоятельства сложились удачно. Не знаю, имел в виду это автор или нет, но читаются они практически одним целым — и потому возникает вопрос, не намерен ли автор продолжать в том же духе в жанре, что называется, трилогии.
«Самодержец пустыни» — книга великолепная, скажу сразу. Юзефович описал и самого безумного барона, и, что ценно и немаловажно, миф о бароне, четко отделяя одно от другого. Такелажных крючьев нет, взяться вроде бы не за что: барон предстает нам исчерпывающе и грушевидно.

Вопрос здесь в другом: почему барон? У меня возникло подозрение — дело, конечно, не в том, что сам Юзефович из Перми и служил в Забайкалье, где ему про барона напомнили в начале 70-х, хотя это, конечно, повод взяться за многолетнее исследование этой исторической фигуры не лучше и не хуже прочих. (А мы понимаем, что все, кто привязан к местностям по одну или другую сторону Урала, природняют все эти местности безотносительно расстояний: мне, например, трудно ассоциироваться с историей московских удельных княжеств или сажанием Петербурга в болота — это все не моя история, — зато любой эпизод Большой игры, пусть даже в Средней Азии, — это уже свое, родное; так же, я понимаю по интервью, это выходит и у Юзефовича, в этом смысле мы с ним земляки.)
Дело, мне кажется, скорее в общем нынешнем (я имею в виду конец ХХ — начало ХХI веков) безвременье, с его дефицитом исторических личностей и натурально героев, сколь неуравновешенными бы ни были они. На этом фоне безумный барон — фигура благодатная. Мне, к примеру, импонируют его сепаратизм и автономизм для Дальнего Востока в широком смысле, равно как и буддизм, пусть и понимаемый с точки зрения полевого командира (что там говорить, барон был отнюдь не панчен-лама, к тому же в его рассуждениях слышится знакомство с теософией). Кому-то может понравиться, я допускаю, его психопатия, аскетизм или садизм, тут все непросто. Ну а Дугин и прочие ебанашки понятно что вокруг навертели. Так что урок этой книжки, я подозреваю, в самом выборе центральной фигуры.
Ну и сама напрашивается параллель с деятельностью Т.Э. Лоренса в Аравии: те же годы (действовали они практически параллельно), те же цели (национальное объединение и изгнание захватчика), та же геометрия («чужак в земле чужой» натурально), только лояльность и повестка дня несколько отличаются. Да еще, конечно степени безумия у них разные. А так познакомить Унгерна с Лоренсом в какой-нибудь Валгалле было бы крайне занимательно.
Потому что на примере Лоренса хорошо видно, до чего может довести романтическая любовь к другому этносу. Нынешняя история таких людей отчего-то не выдвигает — так что дело, видимо, в эпохе, когда еще можно было играть в «великие географические открытия», хоть и сильно запоздало. Теперь это уже как-то затруднительно, да и крови требует, видимо, больше. А когда вспоминаешь, что результатом этой «джентльменской кампании» стал передел всего Ближнего Востока и создание, в частности, государства Израиль, картинка обретает замечательную неодномерность. Глубину же ей сообщает наше знание новейшей истории, включая Пальмиру, разъебанную внуками и правнуками партизан Лоренса.
Но контраст между бароном Унгерном и полковником Лоренсом при генеральном сходстве этих фигур все ж разителен. Поражает совершенная личная незаинтересованность Лоренса в плодах своих партизанских и национально-объединительных трудов — он «просто выполнял свой долг» верного имперца и вставать во главе исламской империи, судя по всему, не собирался. Получается, что несколько лет он мотался по пустыне отчасти из собственной прихоти и странного удовольствия, кормил свои вполне кабинетные фантазии и детские увлечения — любовь к археологии, среди прочего, — и реализовал интерес к до-наполеоновским военным стратегиям. То ли дело Унгерн, хотя и в его мотивах и поступках много необъясненного, а с нынешней точки зрения — и необъяснимого. Но у обоих как-то получилось превратить свои жизни буквально в литературные сюжеты.
«Зимняя дорога», как я уже обмолвился, выглядит продолжением саги об азиатских / сибирских / дальневосточных сепаратистах / автономистах. Именно стремление к логике в кройке геополитических пространств, среди прочего, несколько объединяет харизматичного мерзавца Унгерна и не слишком литературно-обаятельного, но порядочного Пепеляева, который, судя по всему, человеком был крайне достойным.
А восстание в Якутии (вот именно это в череде прочих) и северный поход Пепеляева — удивительный и не сразу приходящий на память эпизод гражданской войны, в котором для нас нынешних уроков много, но сможем ли мы ими воспользоваться — отдельный вопрос. Понятно, что якутам в свое время вовремя кинули кость национальной автономии, но внутренняя логика осталась неразрешенной: Якутия — тоже не Россия, Россия — это то, что с запада до Урала, а после начинаются какие-то совершенно другие земли, так что Потанин был многократно прав. Не в этом ли смысл загадочной недомолвки Юзефовича о причинах того, зачем он в 90-х начал собирать материалы по этой теме, но потом сама тема как-то умерла? Облое, озорное, стозевное и лающее нечто само взялось перекраивать окружающее пространство — причем совсем не так, как этого требует логика и здравый смысл. Читатели понедалече или попродажнее, вроде Прилепина, не понимают (ну или делают вид, что не понимают) последней страницы книги. С другой стороны, «общественный заказ» сейчас таков, что и не поймешь, сколько платят за такое непонимание, да и платят ли — возможно, читатели не понимают написанного по зову сердца.
Но вернемся в прошлое. Владивосток в свое время, конечно, был «последним русским городом», но это касается городов больших. Довольно забыт тот факт, что до середины 1923 года старая Россия еще оставалась в Аяне и отчасти в Охотске — в тех не весьма приветливых местах на побережье Охотского моря, в общем. Потом же никакой России уже не осталось совсем, недаром даже название с географических карт исчезло. То что оно появилось потом — ложь и наебка. Мы и до сих пор вынуждены с этим мифом пропаганды жить.
А грустный пафос книги — в том, что история ничему не способна нас научить и вообще на нее, историю эту, лучше забить. Когда в человеке просыпаются и начинают действовать какие-то наджитейские (а то и надчеловеческие) силы (тяга к правде и порядочность, например), — вот тогда-то он и становится «над» историей, уж по крайней мере — в стороне от нее, выходит из ее потока, а то и принимается брести поперек или вопреки ему. Если индивидуальное в нем сильнее, ему что-то удается: одним из результатов может быть попытка строительства какой-нибудь утопии, например (зря автор стыдится этого понятия, по-моему — в историческом нарративе оно не утратило актуальности). А если нет — он тонет в хтони, сливается с исторической массой, плывет по течению. Понятно, что против «красного» «белым» было не выстоять, сколько б мы ни утешали себя альтернативными сценариями. Хтонь побеждает числом, умение одиночек тут — фактор временный. Примеров тому и другому по обеим книгам Юзефовича разбросано во множестве — такая вот дилогия о роли личности в истории, как ни банально это звучит.
Очень страшный концерт
О том, как нас пугает литература
Сезон настал, и мы пришли вас пугать. Вот:
Страшно? То-то же.
Мы предупреждали. Хотя диапазон авторов и литературных персонажей, способных по-настоящему нас напугать, не так уж велик, как нам, быть может, и хотелось бы, некоторые по традиции делают это качественно…
…и задорно, чего уж там. Но есть и по-настоящему жуткие персонажи — тот же Стирпайк из «Горменгаста» Мервина Пика. Ему посвятили песенку вот эти веселые хлопцы, о чем мало кто уже помнит:
Фуксия оттуда же была тоже местами вполне инфернальна:
Но чемпионом потустороннего ужаса, конечно, остается вполне безобидная и индифферентная птичка:
А вот некоторым литературным персонажам напугать нас не удается, хотя антураж вроде бы к этому располагает:
Зато кого-то могут по-настоящему пугать и очень большие пустые пространства. Пол Боулз — он ведь тоже мастер хоррора, если вдуматься:
А есть и такие умельцы, что чем угодно напугают. Понятно, что тексты Льюиса Кэрролла кого-то пугать могут, конечно, и сами по себе, но сцена с пирожками и пузырьками к ним вроде бы не относится. Это не так:
Тут же можно вспомнить и менее очевидные вещи. Вот, например, сейчас нам странно, но ведь когда-то и тигр пугал Уильяма Блейка:
А есть страхи и другого порядка — современные, так сказать. Я кстати, не понимаю, почему костюмы «заводных апельсинов» на День всех святых не прижились.
И вот еще один недооцененный персонаж страшилок. Можно одеться, например, деревом из топиария в «Сиянии» (Кейт Буш на эту песню вдохновило именно оно, если вы не знали):
Да что там — даже запахи пугают. Помните «Парфюмера»? Курт Кобейн его тоже запомнил:
Пугают нас крупные животные:
Они по традиции служат воплощением темных и стихийных сил в самом человеке:
Призраки тоталитарных обществ пугают нас еще как:
И это не шутка. «Рассказ Служанки» Маргарет Этвуд — одна из самых страшных книг современности:
Но, конечно, и наших детских страхов до сих пор никто не отменил. Вот до чего, например, способен довести творческие натуры Морис Сендак:
Ну что, хорошенько испугались? Не выключайте свои литературные радиоприемники, мы еще вернемся к вам под покровом темной ненастной ночи.
Трэш, который мы иногда любим
"Седьмая пещера Кумрана", Грэйм Дэвидсон
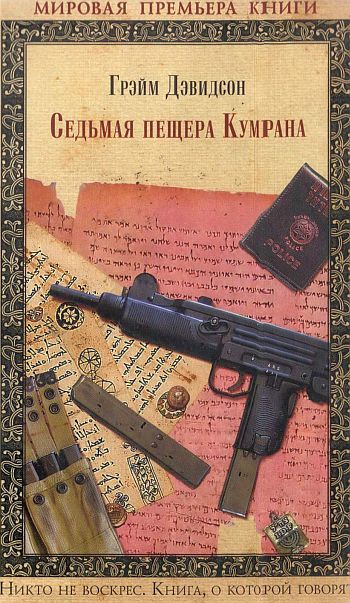
Редкость необычайная, экзотическая, и потому, среди прочего, коммерчески внятная — новозеландский религиозно-конспирологический триллер. Ядро — кумранские списки, главным образом — некий потерянный список № 7 (собственно, аббревиатура которого и стала названием книги в оригинале), который всего на одно слово отличается от апостольских евангелий, который, как принято считать, оттуда списаны, но это одно слово способно перевернуть с ног на голову все нынешнее христианство.
Сюжет начинается в начале 70-х годов, когда к новозеландскому религиоведу Рейбену Дэвису в разгар египетско-израильского конфликта хитрым образом попадает этот самый список под видом туристского сувенира… Проходит 30 с лишним лет и кувшинчик у него дома на полке раскалывается при легком землетрясении, выясняется, что внутри — не сувенир, а самый что ни на есть оригинал, который нужно срочно довести до внимания общественности. Проблема в том, что это лишь часть списка, а вторая — в Канаде, у коллеги Рейбена. Между старыми знакомыми и даже каким-то образом любовниками стоит половина земного шара — а также библейские фундаменталисты, израильские спецслужбы и обычные охотники за сокровищами. Погоня обещает быть интересной.
Ядром интриги оказывается, в сущности, намек на то, что Христос был мусульманин. Написано все просто, ясно и честно. Как триллер вполне увлекает, а глупостей в тексте, в общем, нет. Зато экзотики навалом. С автором я когда-то познакомился на Франкфуртской ярмарке, и он — помимо принадлежности к стране, любимой с юности, — заразил меня своим в хорошем смысле безумием. Не то чтобы он скакал везде и рассказывал всем проходящим по 8-му павильону, какой он гений, отнюдь. В общем, я взял у него рукопись, и книжка оказалась неплоха. А прелести ей придает тот факт, что на языке оригинала она так и не издана до сих пор. Новозеландцы просто не знают, что они потеряли.
Досужие разговоры
"Налда говорила", Стюарт Дэвид

Стюарт Дэвид известен прогрессивному человечеству как бас-гитарист популярной лондонской группы «Белль и Себастьян», а также сольный исполнитель своих текстов и песен. «Налда говорила» — его первый роман, собравший в Европе и Великобритании впечатляющую коллекцию восторженных отзывов как от музыкальной, так и от литературной прессы. Журнал «Импакт» даже окрестил его новым «Ловцом на хлебном поле». Сравнение одиозное, но тем не менее пресса характерна.
Рассказ в романе ведется от лица странного молодого персонажа, у которого большие проблемы с функционированием в нормальном человеческом обществе (с этого, заметим, начинается идентификация читателя с героем). Персонаж, который старательно и подчеркнуто не называет себя по имени, работает садовником в разных сомнительных местах, а при стечении определенных и не всегда поначалу явных обстоятельств пускается в бега: буквально — срывается с места и на карманные деньги, которых у него не так уж много, едет в другой город. И так — несколько раз в начале книги. По ходу этих перемещений он потихоньку (в этом постепенном «самооголении» и снятии «информационных слоев» проявляется большое мастерство автора по строительству интриги) открывает читателю свою историю. Он — сын вора, которого с четырех лет воспитывает тетушка — она, собственно, и есть Налда. Тетушка брала малыша с собой на работу в садах чужих людей, благодаря чему он и овладел ремеслом, и рассказывала ему всякие истории. Герой пересказывает их нам и персонажам книги, но поскольку у него — явная проблема с социумом и адекватностью восприятия реальности, он понимает их с детства буквально (мы же видим, что это захватывающе красивые поэтичные притчи, которые иначе и понимать-то невозможно). Но мальчик-то этого не знает, поэтому свято верит в байку, которая и определяет до сих пор его поведение, а именно: папа в свое время украл некий особо крупный брильянт, а чтобы полиция и его подельники, которых он тоже решил обмануть, его не нашли, прячем его… правильно, в животе у сына. И сын после подразумеваемой смерти папы вырастает с убеждением, что у него в животе спрятан брильянт, а весь окружающий мир хочет натурально его украсть, вспоров ему живот. Поэтому он ходит с привязанным к животу подносом, регулярно инспектирует свои отходы и боится всяких острых предметов. А также убежден, что доверять в жизни нельзя никому. Вся эта связная линия выстраивается из кусочков, намеков, читательских допущений и прочей красоты.
Сюжет же туго завязан на этих понятных особенностях его мировосприятия: переехав в очередной раз, юноша устраивается на работу садовником с психиатрическую клинику, где у него появляются вполне доброжелательные друзья, и знакомится с медсестрой, от которой у него «бабочки в животе». Он постепенно проникается к девушке доверием и рассказывает ей свою историю, а она, явно полюбив его, такого странного и неустроенного, предлагает очевидный выход: избавить его от фобии, сделав ему рентген. Если он поймет, что в животе у него ничего нет, а бриллиант — это он сам и есть, он станет нормальным. Но юноша-то верит, что способен убедить ее — у него в животе действительно хранится сокровище. И он осознает, что мир в очередной раз хочет его обмануть, сбегает прямо из рентген-кабинета и опять отправляется незнамо куда, неизлечимо один. И сила его убежденности и убедительности такова, что мы так и не понимаем, примстился ли ему весь этот заговор, и в таком случае его нужно жалеть как больного на всю голову, либо паранойя его основывается на действительных фактах. В любом случае — конец книги открыт и захватывающе прекрасен.
«Налда говорила» — очень поэтичная притча, написанная болезненным, чуть вывернутым языком, это кривое зеркало человеческого сознания, втягивающее в себя и ведущее по извилистым и увлекательным лабиринтам (один из дополнительных спецэффектов — мы, читая, постоянно проверяем на адекватность себя: а что реально происходит вокруг героя, что именно так причудливо отражается в его глазах и мозгу? — и Стюарт Дэвид не дает нам ответа). Редкое сочетание доступности, подлинной «интеллектуальности», игровой характер книги, увлекательности хитровыстроенного сюжета, характерного для британской литературы последнего десятилетия делают этот роман чистым удовольствием.
Кровь, сперма и слезы. Пот, конечно, тоже наличествует
"Кровавая графиня", Андрей Кодреску

Андрей Кодреску — румыно-американский писатель, поэт, критик и эссеист, редактор журнала, входит примерно в пятерку мэтров современной американской высокой словесности и считается последним из «живых битников». За свою жизнь успел сделать столько, что никаких рецензий не хватит перечислить. Стихи его трогать пока не будем, но большая проза у него практически безупречна.
В частности — полноформатный роман «Кровавая графиня». В этом причудливом повествовании, где сплетаются мистический роман ужасов (все-таки наследие графа Дракулы), хронику одного из самых кровавых и загадочных эпизодов истории Средней Европы, современный исторический роман о судьбе той же Европы после распада коммунистического блока и детектив, Кодреску объединяет две сюжетные линии.
Во-первых, это история собственно «кровавой графини» — Елизаветы Баторий (1560–1614), венгерской правительницы пограничных земель, чья армия довольно долго предохраняла Европу от экспансии Оттоманской империи. Но политика второй половины XVI — начала XVII веков в романе не главное: Кодреску вскрывает другую, более жуткую сторону этой великой, неоднозначной и в значительной степени недооцененной фигуры. Одержимая вечной молодостью, Елизавета, как об этому свидетельствуют исторические хроники, любила купаться в крови юных девственниц, коих за свое правление истребила разнообразными методами 650 штук. Совершенно определенно она была чудовищем, но Кодреску больше интересует, как именно одна из просвещеннейших женщин своего века, учившаяся у отца Сильвестри и водившая знакомство с Кеплером и прочими светилами тогдашней науки, превратилась в маньяка и практически серийного убийцу. Биография ее в романе (основанная на исторических фактах) — завораживающее, жестокое и познавательное чтение: автор бросает иной взгляд на историю, знакомую нам по учебникам и дает понять, что прошлое поистине непредсказуемо и не поддается никаким идеологическим трактовкам. Кроме того, сам сюжет разворачивается в виде готически-мистической исторической хроники: ведьмы, алхимики, секс, садизм, поклонение дьяволу — все, что нужно для идеального исторического романа, в котором читателю хочется не только достоверности и фактов, но и какой-то сенсационности.
Вторая сюжетная линия происходит в 1990-х годах и представляет собой показания далекого потомка Елизаветы — американского журналиста Дрейка Баторий-Керештура, который по заданию редакции возвращается в пост-советский Будапешт и оказывается в самом центре монархо-фашистского заговора, организованного бывшими спецслужбами ради якобы восстановления монархии: он — единственный генеалогический прямой претендент на венгерский трон. Но сюжет быстро уходит в сторону от шпионски-конспирологического триллера в сторону сюрреалистической мистики: граф-журналист пытается пробудить от комы свою давнюю любовь Еву, знакомится с ее дочерью Терезой, влюбляется в нее и отправляется по своим бывшим владениям. И вместе с несколькими заговорщиками в своем (Елизаветином) старом замке ненастной ночью совершает от безысходности кровавый сексуальный ритуал, цель которого — оживить собственно графиню Баторий. По ходу дела он вроде бы душит эту самую Терезу. Ему удается сбежать из страны (тело ее не найдено в итоге, и мы не очень понимаем, привиделось ему все или нет), и теперь он дает показания в американском суде, который просит наказать его за непонятное убийство в Венгрии. А «Кровавая графиня», судя по всему, все-таки ожила: выясняется, что в ночь ритуала Ева, очнулась от пятилетней комы, помолодев и похорошев, и ушла из больницы странствовать по дорогам Венгрии в сопровождении целой армии юных девушек…
От честной фактографии бурной европейской истории Кодреску переходит на символический план, и это, пожалуй, единственный внятный художественный способ осмысления кровавого абсурда, который продолжает твориться в мире. В итоге у него получается великолепный сенсационно-исторический роман, в котором каждый что-то найдет для себя. Я предупредил.
Когда-то ты был битником
"Избранные произведения в двух томах", Вадим Шефнер

Двухтомнику предшествует довольно скверная статья критика Альфреда Урбана — она "датская" (к 60-летию), поэтому в ней непременно нужно объяснить читателю, что он в книге прочтет, поставить в рабоче-крестьянский контекст и, главное, дать оценку. Маруся Климова полагает, что такой жанр (как и жанр доноса, замаскированного под рецензию) должен сохраниться, но это она адвокатит диавола.
Первый том — стихи Шефнера. О ни все же не очень "мои", в них для меня недостаточно внутренней энергии. Как поэт Шефнер мне кажется уж очень советским, несмелым, пыльноватым и банальным. А проза — второй том — совсем другое дело, но я тут не о его т.н. "фантастике": лирические фантазии Шефнера тоже мне кажутся вполне советскими, хотя они очень милы.
Главное — его "лирическая" и автобиографическая проза. Как-то так вышло, что в советское время Шефнер прошел мимо меня, хотя в родном городе всегда считался «нашим» (их дедов именами названы улицы, то и се). Однако и сейчас легко понять, чем он поражал воображение своих современников — лиризмом, мягким юмором и вообще человеческой интонацией (пусть другие разбираются с тем, насколько ему обязаны младшие питерские писатели, тот же Житинский). На фоне советского литературного сукна («шанель солдатская, № 5») его тексты выглядели натурально глотками свежего воздуха. Литературный язык Шефнера ясен, прозрачен и не претенциозен, автор не занудствует и не морализирует, пишет о человечески интересном, а не об «общественно значимом» и «воспитательном», никаких партийных линий не проводит. Голос — усталый и мягкий, отчего некоторые читатели приписывают самому автору какую-то необыкновенную доброту, хотя какой-то сверхъестественной доброты как таковой я в текстах Шефнера не заметил. Но у него — отличный музыкальный слух, советского мещанского мусора практически нет. Это приравнивается к доброте, наверное. Доброте к читателю. В прозе он вообще писатель решительно антисоветский (именно тем, что бережет читателя и разговаривает с ним), и тем отличается от себя-поэта. Может, потому, что прозу писать его никто не учил?
«Сестру печали» интересно читать на фоне любой книги Джека Керуака о его позднем детстве и ранней юности, как получилось у меня, потому что она параллельна книгам то ли потерянного, то ли разбитого поколения, то ли того и другого сразу, то ли это вообще одно и то же. С битниками, несмотря на стилистическую и географическую разницу, у Шефнера будет, наверное, ближайшее родство: провал в возрасте у них невелик, Шефнер был всего лет на семь старше Керуака, а описываемые периоды совпадают — конец тридцатых, самое начало сороковых. Персонажи "Сестры печали" — такие же оболтусы, из которых и вышли бы русские битники, не прокатись по ним война (по Керуаку и его поколению она, конечно, тоже прокатилась, но все же не так). Удивительное сближенье, но — лишь на первый взгляд.
«Имя для птицы», в двухтомник не вошедшее потому, что в 1975 году Шефнер его только дописывал, — несколько иной срез того же культурного слоя: это уже биография первого основного и ядренейшего битника Херберта Ханке. Похожего в их судьбах много, только у Шефнера обошлось без наркотиков и гомосексуализма (алкоголизма он, судя по глухим намекам в книге, не избежал). Ну и разница, конечно, в том, что память, из которой писал Шефнер (и этого, в общем, не скрывал) обладает способностью к лакировке. Эти мемуары о детстве — очень приятная книга, хотя не обязательно вся правда. Ее обычно, насколько я понимаю, ставят в один ряд с «Республикой ШКИД» или «Флагами на башнях», по общности темы беспризорничества, но это мне видится типично провинциальным подходом — и крайне банальным, как безусловный рефлекс. С американской прозой середины ХХ века у Шефнера гораздо больше общего, чем с советской.
Уж роща то и это
Шелест страниц, трямканье нот и шорох листвы под ногами
Наш осенний список музыкального чтения, как обычно, разнообразен. «Металлика», например, читает Лавкрафта:
This is great shit or what? Но кому что — вот «Крим» были поклонниками Гомера:
Когда б мы знали, из какого сора… и т.д. Еще одно амбициозное творение — сюита «2112» канадской группы «Раш». Все как-то забыли, что вдохновила ее Айн Рэнд:
Вот поди ж ты, вроде ничего у них получилось. Вам еще странных сближений? Извольте — Эм-Си Ларс и Эдгар По:
Эдгар По — это вообще опасная осенняя дорожка. Только ступишь на нее, как не пойми куда зайдешь:
Там может быть по-настоящему страшно, но весело:
А «Гансам с розами», как их когда-то называли, дай только волю — тут же бросаются ловить кого-нибудь во ржи:
Потому что хорошего человека найти, как известно, непросто. Суфьяну Стивензу это удалось — но лишь потому, что он читал Флэннери О’Коннор:
Иногда чтение дает удивительный эффект. Вот эти люди, к примеру, начитались Хермана Мелвилла. А дело было осенью…
Но бывает и не так радикально — Чарлз Буковски (а также классическая музыка) вдохновили Бальбино Медельина на прекрасную песню, которая должна быть во всех осенних плейлистах:
Оруэлл тоже вдохновляет порой на странное — например, группу «Рэдиохед»:
Ну и немного классики. Джон Стайнбек и Вуди Гатри — дилогия о Томе Джоуде:
Ну и последний номер нашей сегодняшней программы — вдохновленная Томасом Пинчоном музыка Ричарда и Мими Фариний:
Не выключайте свои литературные радиоприемники, мы вам еще и не такого споем.
Нетленный трэшак
"Паразиты сознания", Колин Уилсон

Роман начинается, как разухабистый фанфик по Лавкрафту, однако чем дальше в лес — тем больше актуальности. Основное действие происходит… ну, примерно в наши дни, хотя роман вышел в 1967-м, и читать про «мозговых слизней» сейчас, в климате оголтелого русского джингоизма, в легкой форме поучительно, как бы не сказать большего. По крайней мере, все это похоже на чтение ленты новостей.
Меж тем, лучшая составляющая текста заканчивается вместе с этюдами о Человеческом (необходимостью проснуться и прозреть, к примеру, в чем и есть сила, брат). Жаль, конечно, что автор в этом философском ключе не удержался. Вместо этого роман растворяется в ярком и весьма развлекательном карнавале макулатурной фантастики, устаревшей даже на время написания: лунные теории, бестелесные пришельцы и космическая полиция. Мило, но не отмахнуться от ощущения облома, если не предательства: автор будто бы не продумал всего до конца, поднырнул под какое-то хорошее и нетленное откровение, явившееся ему из раздумий об отвратительности человеческого бытия. Иметься с таким откровением есть силы и мужество лишь у поэтов, да и то не подолгу, потом неизбежны депрессия и — иногда — летальный исход. А Колин Уилсон все ж — не поэт, он так, примазался… Как и его герой, собственно.
Первое советское издание романа, состоявшееся на хорошем английском языке (хоть и с чудовищным по своему уродству макетом и набором) примечательно. Не тем, что к нему приделано идиотски глубокомысленное послесловие, в котором наши «критики в штатском» делают вид, будто это не образец коммерческого трэша (жанр сам по себе любимый и уважаемый, но кто тогда так думал?), а величайшее произведение свежайшей, прогрессивнейшей и антибуржуазнейшей наибританской литературы (это через 20 лет после публикации-то — вот как можно замерять отставание СССРоссии от мировой литературы). И даже не тем, что текст сопровождается не менее дурацкими комментариями реалий, имен и лексических оборотов для тех, кто желает улучшить свое владение английским языком (методологической ценности все эти глупости не имеют, скорее наоборот). Отнюдь не этим — все эти отвлекающие маневры издателя простительны на фоне того факта, что роман издан всего через два года после того, как двинул кони Брежнев. Роман, напомню, об изменяющих сознание наркотиках. Само по себе издательский подвиг, я считаю.
Примерно так же — радикально — выглядело бы издание этого романа в наши дни, вот только его уже лет двадцать не переиздают, я погляжу. Только в отличие от советских издателей нынешним героям нужно будет отчетливо представлять себе, насколько подрывная и опасная это книжка для бандитских тоталитарных режимов.
Очарование стремительного домкрата
Книги издательства "Саламандра"

Есть у меня не слишком тайное и не слишком постыдное, но удовольствие. Я понял, что при любых перелетах и переездах лучше всего читать электрическую продукцию виртуального и бесплатного издательства «Саламандра P.V.V.», живущего преимущественно здесь.
Не могу утверждать, что прочел все, конечно (я не так много езжу), но их серия «Polaris» — забытая и пренебрегаемая фантастическая и приключенческая литература от конца XIX до примерно середины ХХ веков — радует меня отдельно. Это часто незамутненный трэш, плохо сделанный в свое время, но с большой любовью подготовленный и переизданный. Я не устаю рекомендовать их книжки всем друзьям, которым хочется читать «чего-нибудь эдакого», но они сами толком не понимают, что именно. Электрические выпуски «Саламандры» в таких случаях будут лучшим подарком праздному, но пытливому уму.
 И в них дразнит не только «очарование стремительного
домкрата» — восхитительная антинаучность и неприкрытый идиотизм, как, например, в романе Г. Берсенева «Погибшая страна», — но и толика запретного знания:
произведения эти были забыты, но ведь, наверное, недаром? Или их запрещали? А если
их запрещали когда-то, не дают ли они повода запретить себя и сейчас? Мы уже давно живем в историческую эпоху пресловутого нескончаемого фарса. Почитайте,
например, повесть Ефима Зозули «Гибель Главного Города» в сборнике советской
героической фантастики 1920-х годов «Эскадрилья всемирной коммуны», и вы
поймете, о чем я. Почти сто лет назад нам убедительно дали посмотреть на общество
мягкого тоталитаризма, которое мы с успехом имеем и ныне. Это великолепная притча-памфлет, немного подстроить оптику — и вполне актуально, готовый синопсис для постапокалиптического триллера с интересным антуражем. Идея не должна пропасть.
И в них дразнит не только «очарование стремительного
домкрата» — восхитительная антинаучность и неприкрытый идиотизм, как, например, в романе Г. Берсенева «Погибшая страна», — но и толика запретного знания:
произведения эти были забыты, но ведь, наверное, недаром? Или их запрещали? А если
их запрещали когда-то, не дают ли они повода запретить себя и сейчас? Мы уже давно живем в историческую эпоху пресловутого нескончаемого фарса. Почитайте,
например, повесть Ефима Зозули «Гибель Главного Города» в сборнике советской
героической фантастики 1920-х годов «Эскадрилья всемирной коммуны», и вы
поймете, о чем я. Почти сто лет назад нам убедительно дали посмотреть на общество
мягкого тоталитаризма, которое мы с успехом имеем и ныне. Это великолепная притча-памфлет, немного подстроить оптику — и вполне актуально, готовый синопсис для постапокалиптического триллера с интересным антуражем. Идея не должна пропасть.
А в «Погибшей стране», чье действие происходит примерно сейчас, неведомый автор поднялся до таких высот графомании, что последующим авторам и не снилось. Я считаю, что ознакомиться с этим произведением о подводных вивисекторах будет очень полезно и развлекательно. Это настолько плохо, что практически гениально. Автор был до того упорот, что даже редакторская правка «по живому» книжку не спасла — издательству в свое время предъявили донос в «Литературной газете», где автора «подвергли конструктивной критике», но не за антинаучную (даже по меркам конца 20-х годов) хуйню, а за антисоветский конец. И больше о нем мы ничего не знаем.

Стилистически такое чтение тоже, что называется, доставляет, особенно старые переводы — ну, или труды в отдельном жанре «псевдопереводов» с иностранного. Если вам, к примеру, нужно зачем-нибудь эмулировать стиль бульварной литературы, как мне сейчас, лучшего практического пособия, пожалуй, не сыскать.
Но есть и жемчужины жанра — например, роман А. Адалис и И. Сергеева «Абджед, хевез, хютти…: Роман приключений». Книга, которая начинается так: «Верблюд поглядел искоса гордым мохнатым глазом. Козодоевского снова рвало…» — не может быть совсем уж плоха, решил я, открывая ее. Так и оказалось. Написана она «поэтически» (внутри много подарков, вроде неизменной «тошноты в голове» у некоторых персонажей), с неожиданными стилизациями и поворотами сюжета, в меру бестолкова и хаотична (сказывается импрессионизм и экспрессионизм начала века) — и крайне занимательна. Очень развлекает, но спойлеров не будет — просто горячо этот роман рекомендую. Спасибо издателям, что откопали этот тихий шедевр из советской литературной помойки.
Прогулка в литературном лесу
«Отягощенные злом», Аркадий и Борис Стругацкие

Несколько лет назад взялся я перечитать Стругацких — с немалым для себя удовольствием и пользой, надо сказать. Одним из результатов, едва ли не самым показательным, оказался пламенный диалог, который у нас произошел по поводу одной конкретной книжки с таллиннским переводчиком, поэтом, журналистом и вообще Человеком читающим — Николаем Караевым. Рискну воспроизвести его здесь для просвещения слушателей Радио Голос Омара, изредка лишь расшифровывая аббревиатуры; мне кажется, эта дискуссия наглядна и показательна для простого осознания того, как по-разному вообще можно читать одни и те же тексты. Морали не будет — это как бы протоколы заседания прото-секты Анонимных Читателей. …Да, и прошло столько лет, а мы по-прежнему насмерть рубимся на кухне из-за какого-то романа. Нас, читателей, не победить.
Max: Уже памфлет.
Nik: Не согласен. По-моему, это самая сильная и самая серьезная их вещь. «В мире нет ничего, кроме человека и истории».
Max: Нет, она скверно и хаотично написана, как бы второпях, как бы чтобы успеть за реалиями жизни. Не сплавлена воедино, как было в их лучших текстах 60-х — начала 70-х годов. Слишком много, видимо, им хотелось туда засунуть, что, конечно, мило, но — не удалось. Epic fail.
И меня удивляет, что Переслегина, который сочинил вот к этому изданию нечто вроде «послесловия» [обсуждаемое издание — 1989 года, «Прометей»], когда-то считали умным: это нарезка цитат, перемежаемых слюнявым восторгом человека, который не дал себе труда вдумчиво прочесть книгу. С другой стороны, такое время было.
Nik: Переслегин — отдельная песня, да. Тут я соглашусь.
Но ОЗ мы с тобой понимаем совершенно по-разному. Для меня это предельно органичный текст, в котором все части мозаики, от Саджах до Иуды, от Парасюхина до Аскольда — на своих местах, и работает он именно как таковой. Может, если бы я не видел его прекрасной органичности, я встал бы на твою точку зрения :)
Max: Я вижу попытку создать органичную мозаику из подручного материала. Но уже нет свойственной им былой стройности умопостроений, от которой раньше захватывало дух. Я не подхожу к ним ни с каким своим читательским аршином, просто вижу то, что в сравнении с другими текстами можно понять только как недочеты. Материал явно оказался сильнее их и подвела какая-то натужная злободневность. И не вижу, чем это можно оправдать. Да, задумано мощно, однако, мне кажется, не реализовано в полную силу. Я не готов считать ОЗ идеальным текстом в контексте их творчества. Даже сколько-нибудь замечательным не готов. Задумка проебана, и красота и/или гениальность отдельных придумок или фраз проеба не искупает. Впрочем их фэйл все равно на несколько порядков гениальнее некоторых достижений у иных.
Nik: Не буду спорить. Наверное, это мировоззренческое. Для меня ОЗ — очень правильная модель истории, на голову выше всего, что они сделали, в плане концепции и воплощения (и наравне с лучшими их текстами в плане стиля; «Обитаемый остров», например, мне таким не показался на фоне «Улитки», «Второго нашествия» и «Гадких лебедей»). Но это только мое личное мнение, само собой. Может, я потому не вижу там злободневности, что читал текст, не сообразуя его с реальностью 1988 года, и таким он для меня и остался.
Max: Так а где там модель? Горкомы не понять какой партии? Oh puhleease. Ревизия Иоанна-Агасфера? Страх как основа всего? Это получше сделано в «Миллиарде лет». Ростки нового в старом? Даже в «Волны гасят ветер», которые тоже написаны небрежно, это как-то художественно убедительнее. Тут же чистый текст для какого-нибудь перестроечного «Огонька» — и, как показывает послесловие и мои воспоминания, люди это проглотили как откровение. Сейчас ОЗ таковым не кажутся — слишком уж привязаны к общественным полемикам и страхам 80-х в отдельно взятой разъебанной стране. Хотя не спорю — это может быть хорошим документом эпохи. Но не хватает вселенскости. Это им не в упрек, само собой, это другой текст — как ОО не стоит сравнивать с УнС.
Nik: Модель там — это всегдашний мирской проигрыш терапевтов и всегдашняя их в-конце-концов-победа. Ну да, для «Огонька», потому что никогда не было иначе. Это и есть история, из этого она растет, но не этим определяется. Сейчас, наоборот, четче видно, что это всё в одном ряду: локальная история халифата, локальная история Флоры, локальная история Иудеи. И — Бог. Говорю же, мировоззренческое :)
Max: Послушай, у меня такое ощущение, что мы разные книжки читали. Т.е. я подозреваю, что ты половину этого оттуда просто вычитал — ну, или туда вчел. Это, конечно, на здоровье, это авторы молодцы. Или они ее в какой-то момент переписывали? У меня, я подозреваю, первое издание.
С этой точки зрения да — очень показательно: история и АБС как ее продукт. Но кто тебе сказал, что там чья-то победа? Учитель продает душу Сатане, поэтому мы и имеем возможность читать книжку. Ну т.е. с какой-то стороны — это победа, да. В этом и ужас, да. Но это не отменяет того, что написано впопыхах. О чем мы вообще спорим?
Nik: У меня то же ощущение про тебя, знаешь ли. Ощущение — это не показатель :) Нет, ее никто не переписывал; я читал сначала журнальный вариант («Юность», 1988), потом первое издание («Терра Фантастика», год не помню).
«Учитель продает душу Сатане» — ты про что?
Там нет сатаны. Там есть Иоанн Богослов, который ищет жемчужины для Демиурга, и это совсем другое занятие: они пытаются найти людей, которые могли бы изменить мир, терапевтов. Там есть Демиург, который на каком-то уровне — Иисус (или равный ему; помнишь, когда Иоанна казнили, он слышал голоса не учителя, но того, кто равен ему?). АНС говорил, что мало кто понял, что в романе три Христа — Рабби, Демиург, Г.А. (последнее, думаю, прозрачно — «Га-Ноцри»). Г.А. ничего никому не продает — «не было в истории учителя, который предал своих учеников», он останется с ними, и танки раздавят Флору, как Рим раздавил ессеев и иудейского проповедника. Но это единственный путь, которым можно что-то изменить.
Max: Про то же. Ты какие-то очевидные вещи говоришь, ей-богу, даже смешно. Три Христа... дело не в их количестве, это картинка-загадка для второго класса.
Демиург и есть преемник мессии, которому тот передал вахту, — он же Антихрист, про которого там тоже эдак глухо намекнуто (падение, крылушки, то-се). Вспомним конец романа: все заканчивается тем, что Г.А. (настолько дурно прописанный, с этими его банальными сентенциями, проговоренными впопыхах, что даже как-то неловко) появляется в его штаб-квартире, а во второй линии сюжета к Флоре кто-то идет. Ты думаешь, что танки, мне же кажется — просто толпа. Но «автор» наш, комсомолец этот безмозглый, остается неким образом жив и сорок лет спустя. Вывод — все-таки благодаря жертве (ли?) Г.А. все спаслись (и он, само собой, никого не предавал). И это не менее ужасно, чем всеобщая благостная смерть. Потому что мы делаем вывод, что в итоге победили эти роботы недоумочные, которых из лучших побуждений Г.А. воспитывал в своих лицеях (тут, понятно, еще и трагедия учителя — он так старался, а выросло вот это чудовищное, ничем не лучше комсомола). Правда, Флору тоже ни фига не жалко как концепцию, потому что там сынок просто пошел поперек папы, это было главное в его учении — лучше как угодно, только бы не как у Г.А., поэтому все и ушло в ботву. А Г.А., понятно, идет к Антихристу еще и потому, что видит, как его педагогический эксперимент — и с сыном, и с ученичками — провалился, а не только чтобы людей спасти... Ему как честному человеку ничего не осталось, кроме эдакого сэппуку.
Т.е. да — всеобщая трагедия педагогики, Корчак и Песталоцци. Моя читательская претензия — не к идеологии или «философской проблематике», которая логично вытекает из того, что было раньше, а к технике исполнения. С философией-то все в порядке: понятно, что СССР заканчивался, авторы не могли уже делать вид, что «мир полудня» — живая и рабочая концепция, ее нужно было как-то свернуть. Им самим, я полагаю, было страшно. И ОЗ прекрасен как документ этого страха, как протокол сомнений. Оттого, видимо, и художественные недочеты. И это как раз очень мне как читателю жалко видеть. Т.е. такое ощущение, что когда был враг, они были на коне и выше него, на эдаком вселенском надмирном уровне, а враг стал постепенно растворяться — подрастерялись. Пошли на поводу у материала, он их за собой повлек. Они его не переплавили, как в лучшие годы тягот и борьб. Получился памфлет. Что непонятно?
Nik: Понятно, что мы с тобой прочли текст совершенно по-разному. И понятно, почему он тебе не видится органичным — в твою концепцию, действительно, мало что вписывается из того, что есть в тексте. Я не буду спорить — подозреваю, что мы все читаем так, как нужно нам наилучшим образом.
Max: В этом — по-прежнему прелесть авторов: что даже поздние их тексты можно читать по-разному. Мы будем спорить так до морковкина заговенья — как сторонники разных интерпретаций «Улитки» (текста не в пример более изящно сделанного). Аминь, в общем.
Nik: Аминь :) А «Улитка» — там я не сторонник одной интерпретации, там одной быть попросту не может, они веером сюрикэнов разлетаются просто. Интересно также, что ты думаешь о герое «Второго нашествия».
Max: Ну вот как-то да. А там же как было: одни - это про нас! другие - это про них! третьи - это про будущность! И — насмерть...
А чего про него думать?
Nik: Из очевидного: настоящее-будущее; город-деревня; прогресс-традиция; «до основанья»-фатализм; инь-ян, в общем. Насмерть фанаты любят, да.
Он хороший человек? Он правильно поступает? Ты бы на его месте делал то же самое?
Max: А. Это хороший вопрос. Ужас в том, что — не знаю. Ну т.е. мне хотелось бы утешать себя тем, что в сходных ситуациях я делал правильный выбор — тогда это в каком-то смысле было проще, ибо выбор сам себя предлагал в начале и середине 80-х, но раздувать щеки по этому поводу — штука опасная. «Второе нашествие марсиан» в этом смысле действует эффективно до сих пор.
Хотя вопрос детсадовский ))
Nik: Вот-вот :) Уникальный текст. Я тоже «не знаю».
Max: Да нет, чего там уникального. Просто хорошая повесть.
Эякуляции и эксгибиции
"Первая красотка в городе", Чарлз Буковски
Томас Р. Эдвард, описывая в «Нью-Йорк Таймз Бук Ревью» его большой сборник, озаглавленный «Эрекции, эякуляции, эксгибиции и вообще истории обыкновенного безумия» (Ereсtions, Ejaсulations, Exhibitions and General Tales of Ordinary Madness, 1972; впоследствии он был разделен издателем на две книги, их которых эта - первая) подтверждал еще раз, что «эти рассказы делают литературой немодные и неидеологические вкусы и пристрастия среднего избирателя, голосующего за сенатора Уоллеса». В его рецензии содержится, пожалуй, лучший парафраз отношения Буковски к тому миру, которого он никогда не покидал: «Политика — говно, поскольку работа при либеральном строе так же отупляюща и неблагодарна, как и в при любом тоталитарном; художники и интеллектуалы — в основном, фуфло, самодовольно наслаждающееся благами общества, на которое они тявкают; радикальная молодежь — бездуховные ослы, изолированные наркотой и собственными бесконечными стенаниями от подлинных переживаний разума или тела; большинство баб — блядво, хотя честные бляди хороши и желанны; никакая жизнь, в конечном итоге, не удается, но самая лучшая из возможных зависит от количества банок пива, денег, чтобы ездить на бега, и согласной тетки любого возраста и формы в хороших старомодных пажах и туфлях на высоком каблуке».
Хотя позднее Буковски перешел исключительно на повествование от первого лица, в этих ранних рассказах он экспериментировал и с третьим. При соблюдении своего «лобового» стиля он, тем не менее, ставил опыты и на других уровнях, заставляя задуматься критиков: а не в этом ли заключается новаторство молодого автора? Не в отсутствии ли заглавных букв в именах собственных? Или в набранных одними прописными диалогах? Охренеть, какие эксперименты... Юмор же Буковски очень мало кто замечал (среди этих немногих надо отдать должное Джею Доэрти) — низколобый («раблезианский») юмор крутого парня, унижающий и высмеивающий все и вся: от феминистов до гомосексуалов, от писателей до политиков, и, одновременно — сатира на «мачизм» в обыденном злоупотреблении алкоголем, насилием и сексом. Многие до сих пор не считают Буковски смешным — больше того, многие его за это просто ненавидят, — но большинство нормальных людей чувство юмора Хэнка привлекает и развлекает как ничто другое, оживляя до предела безрадостную картину мира.
Эдвард приходит к выводу, что Буковски «в своем лучшем виде выглядит анархистской сатирой в пластиковом мире — когда допивается и лажается до безобразия в гостиных, где пьют коктейли, в самолетах разных авиакомпаний, на поэтических чтениях в колледжах, когда приходит на дзэн-буддистскую свадьбу в высшее общество и оказывается единственным гостем при галстуке и с подарком... когда принимает длинноволосых парней за девчонок, когда пойман между тайным удовольствием и ужасом знания, что его стихи известны лишь немногим посвященным и ценимы ими. Несмотря на всю свою преданность старой роли мачо-артиста... в Буковски есть слабина, сентиментальность, привязанность, по счастью, к своему искусству. Ему известно так же хорошо, как и нам, что история его обошла, и что его потеря — это и наша утрата тоже. В некоторых из этих печальных и смешных рассказов его статус ископаемого выглядит положительно священным».
«По большей части, свою писанину я кропаю, когда пьян, — объявляет один его персонаж. — А трезвый я — просто экспедитор, да и то не очень добросовестный».
«Абсурд у Буковски обволакивает каждый факт жизни липким сиропом, пока чаяния человечества не низводятся до смешного, — писал критик Джеймс Салливан в новоорлеанской газете «Таймз-Пикайюн». — Ни бедность, ни убожество не прославляются. Они просто есть».
ногти; ноздри; шнурки
не очень хорошая ночь в Сан-Педро
этого мира
Видимо, такая зацикленность на бытии и объясняет успех писателя за пределами Америки. Кажущаяся плоскость повествования легко переводится на другие языки — и остается лишь на поверхности. Смесь хорошо натренированной отточенности стиля и монотонного, полупьяного внутреннего голоса, постоянно возвращающегося к началу высказывания, настойчивого, подчеркивающего нечто очень важное, убеждающего в правоте мыслей и поступков хозяина, — не знаю, насколько легко воссоздать это на немецком или итальянском, где терпимость языка значительно выше, чем в русском. И в Германии, и в Италии, кстати, этот экзистенциальный распад повествования возводил Буковски на вершины списков бестселлеров неоднократно. Не думаю, что в России это с его книгами смогут сделать аскетичность, лапидарность и незакомплексованность языковыми условностями. Простое всегда воспринимается — как и переводится — сложнее.
Песенки с приветом
Наш праздничный (и, главное, абсолютно непредсказуемый) литературный концерт
Это был гимнический эпиграф. А дальше, дорогие друзья, у нас будут только песенки с приветом. Для начала — от азбуки, кого ж еще:
С приветом из вселенной и от Джека Керуака:
С приветом из Америки и от Тома Сойера:
С приветом от времени и Фрэнка Херберта (а теперь все вместе):
С приветом из Бразилии и от Пабло Неруды:
С приветом из древнего мира и лично от Гомера:
С приветом из Англии и от Профессора (просил передать в таком виде):
С приветом из пространства и от Томаса Пинчона:
Еще один привет из галактики и от Хэрри Хэррисона:
С приветом от половины русской литературы (вторая половина уехала в Сибирь, от нее привет воспоследует):
По какому же поводу все это, спросите вы?
А вот по какому:
«Додо» уже шесть лет с вами. Шесть, ёксель-моксель, лет!
(Дэвид Боуи опоздал с поздравлением)
Ну и с приветом всем от «Додо»:
Оставайтесь на связи с нами и не забывайте читать.
Непротестующий протестант
"Оставьте мою душу в покое: Почти всё", Венедикт Ерофеев

Стало нужно перечитать вдруг еще одного героя русского подполья — Венедикта Ерофеева. Еще один писатель, которому мы благодарны за модификацию нашего сегодняшнего языка (даже обиходного), взгляд на мир и восприятие реальности. Заодно вспомнилось, что многие обороты, которыми мы беззастенчиво пользуемся, ввел именно Веничка. Так что перечитывать его полезно еще и по этой причине. Дальше — больше.
А кем его только не называли — и юродивым, и богоискателем, и абсурдистом, и черным юмористом. Все это, наверное, правда. Не уверен я только в одном — в его предначертанном писательстве. Потому что писатель Веничка, как об этом говорит небольшой корпус его работ, а подтверждают записные книжки, — случайный. Основной формат его высказывания — афоризм, коан. Главное в том, что сейчас, по прошествии лет, видится отчетливей, уже без увлеченности хохотом в его текстах: Веничка — настоящий дзэн-мастер, причем без скидок на «бессмысленный и беспощадный» «русский дзэн». Поэтому точнее всё в нем определяется через частицу «не».
Ну и про́клятый поэт, само собой, — куда ж без этого, с чемоданчиком разнообразного бухла вместо гашиша и опия. К этим романтикам-индивидуалистам он, пожалуй, ближе всего, в какую ячею бы ни совали его любители совать все в ячеи. Да и принимать на веру многие Венины максимы довольно опасно — чтобы лучше его понимать, мне кажется, лучше пребывать в состоянии «перманентности и креативности», достигаемом приемом сопоставимого количества жидкостей сопоставимого качества, а где сейчас взять столько «Солнцедара» или жидкости от потливости ног, я даже не знаю.
Итак, ясно, понимание Венички, в принципе, достижимо творческим сочетанием внутренней химии и внешних условий эксперимента. С последними все несколько проще: только досужие критики наивно полагали в начале 90-х что Совку настал пиздец, а следующий век (наш, вот этот самый, нынешний) будет веком чувствительности и сентиментальности. Ха! Совок был порождением русской хтони — при чтении Вениной поэмы это становится до гомерического очевидным — и как таковой продукт никуда не делся, а всплеск недужных иллюзий в 90-х так и остался статистическим выбросом, а никакой не новой тенденцией и тем более не поворотом к человеческой цивилизации. С демонтажем четырехбуквенных акронимов хтонь никуда не делать — просто вернулась к исконным своим формам: правления — тираническому абсолютизму, вполне феодальному, — и бытования — гниению/гноению/прокисанию, процессу еще более древнему. Тут не 1917 год изблевывать — тут бы привыкнуть к итогам 1861-го. Некрасивый глагол здесь неслучаен — тошнить всем этим просто невозможно.
Что ж до сентиментализма, к коему Веню причисляют, то он для русских болот был и остается зверушкой импортной, вроде картофеля. Пусть оставаясь в традиции, Веня все же — изгой. Но он не протестует — это было бы чересчур для излюбленных им тапочек и отсутствия шлафрока, протестовать — слишком много чести для «всей этой хуйни», протестовать — приравнивать себя и ее. Да и против чего? Нет, Веня всего этого просто не принимает и формой неприятия выбирает недеяние. И «Ханаанский бальзам», конечно. Такая вот у него борьба с энтропией, про которую критики в начале 90-х тоже мало что понимали.
Самая, пожалуй, любопытная грань (а кто и впрямь даже сейчас, не прибегая к помощи интернета, может сказать, сколько граней в граненом стакане? видите, ничего не изменилось) в осмыслении Венички — это его богоискательство. По-прежнему отвратительны старания кооптировать его в ряды организованно верующих — да в любые ряды, если уж на то пошло. Он не только наднационален, но и надрелигиозен — это все равно, что формировать партию сдающих тару, и то в такой попытке причислить его к «нашим» смысла было бы больше. Ну, пил, конечно, и? Ведь сама поэма его — одновременно гимн недоходяжеству и реквием претеритизма. Ни в одной организованной религии мира малодушные и легковесные — качества, наиболее Веничкой ценившиеся, — не спасутся, там нет шансов. Не стоит забывать и того, что в то время само богоискательство было протестным актом, а Веничка, по сути и духу будучи индивидуалистом-протестантом, не протестовал и в этом. Согласно собственному, очень личному изводу буддизма он выбрал для своей души, похоже, третий путь: ни языческий марксизм, ни православие, армию распустить. И стал католиком. Видимо, и друзья помогли определиться. В итоге парадоксально получилась эдакая фронда в квадрате.
Хотя Новый Завет (и русская поэзия) для него — в первую очередь те два пальца, при помощи которых он изблевывал из себя помои Совка. Пробный камень его — Розанов. А его собственные тексты, в свою очередь, — оселки, на которых затачивается и наше восприятие реальности, в том числе — нынешней, через четверть века после его смерти. Не нужно быть семи пядей нигде, чтобы понимать, что мы ровно сейчас обитаем в пространстве его «Вальпургиевой ночи». Причем, самому Веничке даже особым провидцем не нужно было быть тридцать лет назад, а просто видеть, насколько этот ад на здешних территориях неизбывен. Недаром в записных книжках осталась фраза про «снять мансарду на бульваре Сен-Жермен» — выглядит странно, однако в контексте очень понятно: это недостижимая мечта. Утешение страдающих сердец — это да, а вот не раз декларируемая любовь к «моему народу» с его известными глазами — я даже не знаю, какой идиот примет это заявление по номинативному номиналу.
Потешный Эпштейн, как это свойственно критикам, нагородил в эпохальной своей статье «Вечный Веничка» (1992) с три короба — но у него работа такая, не станем его судить: осмыслять по касательной, всё какими-то огородами и буераками. Но безусловно прав он был в одном: Веничка — миф. Мифом он сделал себя еще при жизни, поэтому нам не остается уже ничего — только его как такового и рассматривать, что ж поделать: мы не говорили с ним ночь о первопричине всех явлений, не бухали в одной электричке, даже не сидели на одном бревне, как некоторые (и многих некоторых уже нет с нами). Так что оставим его душу в покое.
Ангельская Швамбрания
"Кондуит и Швамбрания", Лев Кассиль
А сейчас, дружок, я расскажу тебе сказку... О далеких мирах под кончиками пальцев и прекрасных странах, раскинувшихся под диваном. О замках из пенопластовых коробок и извилистых манящих дорогах из спальни в ванную, по которым хорошо бродить с верным оруженосцем, ожидая приключений за каждым креслом и опасаясь драконов, засевших на этажерках. О полях сражений на ковре, притихших в ожидании атаки пластмассовой конницы, и дворцах под столами, откуда можно повелевать вселенной старых пупсов и послушных роботов, собранных из жестяного конструктора... "Складывай игрушки, сыночка, мы уже едем к тете Рае..."
Когда я был моложе лет на тридцать, меня тянули к себе тщательно прорисованные панорамы сказочных стран в книжках - их было много, на детскую литературу в рамках утвержденных пятилетних планов тогда не скупились. Картинки не просто тянули - втягивали, и я часами просиживал над красочными разворотами, изучая разные маршруты, которыми могли двигаться герои, разбирая надписи на картах и представляя себя внутри всего этого волшебства. Даже неприкрыто игрушечные страны было интересно разглядывать. Самое странное - читая недавно дочери довольно противные "Приключения Петрушки", я поймал себя на том, что по-прежнему торможу, внимательно вглядываясь даже в прянично-сахариновые городские пейзажи кукольного мира Леонида Владимирского. "...Папа, а дальше?" И я встряхиваюсь, скользя глазами по суконному тексту, и думаю: наверное, это неспроста.
Наверное, так надо - приподнимать занавес и хоть ненадолго впускать человека в какой-то иной, чудесный мир. Для меня до сих пор самая яркая сцена в толстовском "Буратино" - триумфальное завершение череды бессмысленных злоключений компании сбрендивших марионеток: за старой холстиной нарисованного очага обнаруживается яркий ненастоящий мирок, с непременным регулировщиком в белом мундирчике, футуристической архитектурой и неправдоподобными летательными аппаратами. Приехали. Земля обетованная. Мы сейчас будем тут жить и править этим миром так, как нам кажется справедливым и честным. "...И у нас будут мускулы, мостовые и кино каждый день".
Олдос Хаксли подробно описал причины и механизмы трансценденции - извечного желания человека поднять себя над суетой и серостью обыденной жизни и заглянуть на иной план бытия, в яркий сияющий мир духов, приблизиться к идеалу. Недаром в его подробном разборе такое важное место занимает театр - филиал Рая на Земле - с его яркостью и красочностью, невсамделишний и преходящий. И еще один значительный и замечательный компонент духовидения - возможность окинуть взором бескрайние просторы идеального пространства и различить в нем все до мельчайших деталей, а уже через них - втянуться в этот мир, поселиться в нем хоть на время. Сама точка зрения, как бы с высоты птичьего полета, подсказывает возможность сыграть в таком мире роль Гулливера в стране лилипутов, возможность немного побыть Господом Богом. Так мы, люди, устроены: именно эта жажда идеала отличает нас от овощей и минералов.
Что происходит в голове маленького человека, когда он рассматривает подробную рельефную карту Средиземья или организует за шкафом собственную вселенную? Правильно ли думать, что дети - underdogs этого мира, рожденные одиночками, - просто понарошку отрабатывают модели будущего взаимодействия с миром других людей? Для них этот мир - некий идеальный план бытия, где взрослые - "те, кто носит форменные фуражки, хорошие шубы и чистые воротнички", - выступают в роли ангельского племени "серафим", вполне блейковского для нетренированного детского взгляда. Взрослый мир давит на ребенка своим укладом и воспитанием, а ребенок упорно стремится к нему, осваивает социум - на своих понятных условиях, то ли заложенных в ДНК, то ли уже почерпнутых из детской визионерской литературы. Подкладывает подушку под попу, наращивает броню перед тем, как войти в мечту, казавшуюся недосягаемой: "Вот вырастешь и тогда будешь сидеть с нами за столом, а сейчас уже девять часов, и тебе пора спать..." Или же расслабиться и списать все на универсальную природу взросления биологических существ с высшей нервной организацией?
В моем детском саду - по общей иронии жизни называвшемся "Буратино" - несколько лет была очень популярна игра в "короля". Королем неизменно оказывался мальчик С.С., дворцом - пропахшая мочой бревенчатая избушка или крашенная синей бугристой краской горка, свитой - девчонки из нашей средней группы, я почему-то всегда настаивал на выполнении обязанностей придворного музыканта или архитектора. Сам титул казался мне более весомым и значимым - помимо того, что он по умолчанию диктовал независимость мышления и предоставлял свободу творчества. Как мне казалось. Оставим Фрейда в покое - здесь скорее затаился чистый Дарвин. Но некоторые из нас так до сих пор и не повзрослели. А "будущее показалось нам сплошным кукишем".
Ведь с другой стороны - страшно отбиться от племени, еще страшнее - знать, что можешь опираться только на собственные силы. Тем не менее такой режим взаимодействия с окружающей средой необходимо как-то смоделировать. Закон такой. Строительство своей страны - игра одиночек, но это не индивидуальная игра. С такой точки зрения, идея чучхе - совершенный плацдарм для странопостроения. Посмотрите: Северная Корея - место хоть и жуткое, но вполне игрушечное - столько лет уже держится во враждебном окружении, и ничего.
В конечном итоге и "наша-родина-сынок" начиналась почти с такого же вполне умозрительного и по-детски невинного эксперимента. Только строителей в какой-то момент перемкнуло на русско-христианской разновидности плохо усвоенных утопических телег "Города Солнца" и федоровского учения. Довоскрешали отцов до того, что от ангельских сущностей до сих пор не продохнуть, но мудрее от этого не стали.
Построение идеальных детских государств, как правило, заканчивается печально - как обязательное строительство "ероплана" к концу смены в пионерлагере, когда на берегу остаются только недокуроченные парковые скамейки и поваленный пляжный грибок. Личная вселенная приходит в неразрешимое противоречие с "миром реальным", и это воспринимается тем острее, чем больше страшного и разнообразного жизненного опыта приобретает ее конструктор и повелитель. Но она ведь может и встраиваться в "мир взрослых" в той или иной клинической цивилизованной форме - как кукольная монархия, марионеточное княжество, игрушечная парламентская республика, где все как бы понарошку, включая схему управления подданными и процедуру получения гражданства. Увы, ничего нового изобрести здесь не удается - и накопленный опыт мешает, и не получается представить себе то, что у человека вообще не получается себе представить. То, что начинается с кровожадного, но детского в своем отторжении взрослого мира лозунга "Долой комиссаров!", становится таким мироустройством, где - в шутку ли, всерьез - каждый гражданин обязан быть "секретарем чего-нибудь".
Все же не в возрасте, видимо, дело. Мы по-прежнему увлечены странопостроением, потому что иначе не можем - так мы рефлексируем, так устроены наши мозги, таковы, наконец, наши общественные инстинкты. Кто-то моделирует процессы развития индоевропейского языка. Кто-то заклинаниями вызывает со станции Роса мальчиков со шпагами. Кто-то строит свои страны из разноцветных кубиков культурного алфавита, распоряжаясь ими довольно вольно и называя постмодернизмом. Кто-то ностальгически перечитывает "Республику ШКИД" или "Кондуит и Швамбранию", "Робера-Дьявола" или "Затерянный мир"...
"Щит с гербом Швамбрании красуется теперь у меня в комнате. Он ехидно и весело напоминает со стены о наших заблуждениях и швамбранском плене... Вместе с тем замыкается и круг повести, которая тоже совсем не откровение, а всего лишь наглядное пособие..."
Хорошо закаляется сталь. Качественно.
Подруб и девичья фамилия
"Почтамт", Чарлз Буковски
В начале 1960-х Буковски уже называли «героем подполья». Смешно сопоставлять, конечно, но примерно тогда же, на другом краю земного шара, в месте, о котором Хэнк наверняка ничего не слышал, — в Устьвымлаге — пробовал писать свои «Записки надзирателя» молодой Сергей Довлатов, бескомпромиссный изгой другой великой страны. Даже странно иногда, насколько их письмо и отношение к литературе и языку похожи, насколько перекликаются некоторые факты биографий... Близкий к битникам мэтр сан-францисского «поэтического Ренессанса» Кеннет Рексрот одним из первых высоко оценил Буковски как «поэта отчуждения и писателя подлинной наполненности», а в 1966 году по итогам опроса новоорлеанского журнала «Аутсайдер» он стал «аутсайдером года». С тех пор литературный истэблишмент, который Бук неуклонно высмеивал, нежно, хотя и с некоторой опаской, прижимал его к своей обширной груди. Восторженную критическую биографию написал Хью Фокс, а во Франции его поэзию с энтузиазмом превозносили Сартр и Жене (хотя истины ради следует заметить, что их отзывы на первом французском издании «Заметок старого козла» могли оказаться рекламным ходом; вопрос этот до сих пор так и не прояснили).
Биограф Хью Фокс говорил о «темном, негативном мировосприятии Буковски... в котором он упорствует изо дня в день, выискивая уродливое, сломанное, уничтоженное, безо всякой надежды на какое бы то ни было “окончательное” спасение и без желания его». Его персонажи в самом деле таковы — уголовники, пьянчуги, тараканы, безумцы, бляди, крысы, игроки, обитатели трущоб и паршивых лос-анджелесских баров, — и именно их он чествует в своей поэзии. Из той же самой среды — печальные герои и героини его прозы, в целой принимавшейся критиками литературного истэблишмента более серьезно, нежели стихи. Да и сам он — или «широкий, но не высокий человек», каким его описывал в 1974 году Роберт Веннерстен, «одетый в клетчатую рубашку и джинсы, туго подтянутые под пивное брюхо, длинные темные волосы зачесаны назад, с проволочной бородой и усами, запятнанными сединой», или «проседающий, сломленный, тающий старик, очевидно, на грани нервного срыва», каким его увидел Хью Фокс. Но каким бы он ни представал своим гостям, в нем всегда присутствовала эта абсолютная ясность ума, этот контроль разума, а также — настолько покоряющее добродушие, мужество и щедрость, что Доналд Ньюлав из «Виллидж Войс» не мог не назвать его «единственным действительно любимым поэтом подполья, о котором я слышал».
Его первый роман «Почтамт» (Post Offiсe, 1971), слегка переработанный отчет о годах тупой пахоты на лос-анджелесской почте, с его урловыми надзирателями, тоскливыми и занудными горожанами, киром по-черному, легкодоступным сексом и блистательными побегами на ипподром, обозреватель газеты «Таймз Литерари Сапплмент»назвал «мужественной и жизнеутверждающей книгой, поистине меланхоличной, но и конвульсивно смешной... цепочкой анекдотов неудачника». Тем не менее, по словам критика, «ей не хватало связок, которые могли бы сделать книгу чем-то большим, а не просто суммой составляющих ее частей». Этот типично «высоколобый» подход к оценке произведения, опасливо отказывающий роману в праве быть таким, каков он есть, если книга написана честно и мужественно, не учитывает «сверхзадачи» автора — просто рассказать о почтовом бытии Чинаски день за днем. И каждая глава, будучи сама по себе эпизодом целого, зависит от остальных, складываясь в мозаику, скрепленную тем, что далеко не словами выражается. Наверное, именно эта атмосфера недосказанности — от презрения к рутине повседневного существования — и объединяет, среди прочего, читателей Буковски на всех континентах, как некий «подруб».
Уже в «Почтамте» становится ясно, что Чинаски/Буковски — предельный одиночка. У Бука эта тема всплывает постоянно: человеческие отношения в силу неизбежно конфликтующих стремлений, желаний и эго никогда не срабатывают. Чинаски даже не сокрушается по поводу этой неизбежности — он ее принимает. Он — экзистенциалист в высшей степени: «Мы сидели и пили в темноте, курили сигареты, а когда засыпали, ни я на нее ноги не складывал, ни она на меня. Мы спали, не прикасаясь. Нас обоих ограбили». И мы чувствуем, что за этим неистощимым стоицизмом — Хэнк, которого где-то по пути эмоционально «ограбили» самого.
Не нужно обманываться «развлекательностью» Буковски: развлекательность — в том, что его моралите (рассказы, стихотворения и взятые сами по себе пронумерованные эпизоды романов) никогда не морализуют и не тычут читателя носом в обязательность совершения какой-либо внутренней работы. Все, что происходит в голове и душе читателя, зависит только от него самого. Для этого, видимо, желательна какая-то духовная готовность, но если ее нет, никто ведь плакать не станет.
Соло на Довлатове
"Соло на ундервуде. Соло на IBM", Сергей Довлатов
…И вот настала пора перечитывать Довлатова и снова вдохновляться, хотя по прошествии лет теперь кое-что царапает мозг: нарочитая краткость фраз (на самом деле вслух его читать — та еще задача, раньше почему-то казалось легче, а сейчас нет, слишком уж дробно и пунктирно; а может — дыхание натренировалось), внимание к известному роду стилистической фонетики и пренебрежение другими ее родами, непонятно как просочившиеся туда, куда не надо, речевые клише, рециркулированные истории, фразы и шутки… Но это, могу твердо сказать, — мелочи, основную задачу в моей читательской голове он все же выполнил. Было интересно, как он будет восприниматься сейчас, в уже примерно дважды (после исторического в техническом смысле краха совка) вывернутой нашей отвратительной реальности. И, похоже, Довлатов имеет все шансы снова стать героем если не подполья, то контрарианского сопротивления в наших головах. Сопротивления режиму, Системе, «всей этой хуйне» (тм).
То, что его тексты когда-то произвели со всем нашим (я имею в виду свое поколение, да то не целиком)… не сказать мировоззрением, его у нас, как известно, нет (как и у его лирического, блядь, героя, нахер; в этом месте спрятаны две раскавыченные цитаты) — нет, взглядом на окружающее. Короче, это не поддается никакому количественному учету, если не считать индексов цитируемости в интернете. Он подарил нам свободу этого самого взгляда. Даже не историями о внутренне свободных людях (его друзьях и знакомых) в совершенно отвратительной и ебанутой реальности совка, не их неприостановленными шуточками, а самой возможностью рассказывать обо всем вот этом, прибивать нормальный человеческий голос к бумаге. Он подарил нам способ относиться к реальности, описывать окружающий мир — не то чтоб мы этого не умели, конечно, но Довлатов такое отношение как бы легитимизировал. Все это — и мастерское владение «нисходящей метафорой», конечно. Его ходы художественной мысли отпечатались на топографической карте нашей подкорки.
Ну потому что он же — вечный изгой, и маргинальность его, как выясняется, непреходяща. Минует все, проходят десятилетия, падают режимы, перекраивается сама география, а позиция истинного художника остается неизменна — он всегда против. И еще парадокс с Довлатовым в том, что стиль, к чьей незаметности и простоте он якобы стремился, выступил на первый план и заслонил собой человека. В литературе это, видимо, правильно и достаточно. То же самое произошло, например, с Флэнном О’Браеном.
Кроме этого одиозного сравнения, мне на ум уже некоторое время приходит и другое, и при этом проходе оно только укрепилось. В очередной раз меня поразило сходство Довлатова с Чарлзом Буковски. Они писали на той же грани «пост-модернизма», так же мифологизировали в жанре байки себя, реальность и себя в реальности, так же саморазвлекались за счет окружающего мира. Оба они похоже стирали границу между фикцией и автобиографией. Алкоголизмом они, конечно, тоже похожи, только Буковский в силу естественных причин и по факту рождения пить, курить и говорить, то есть, писать, начал лет на двадцать раньше. Можно несмело сказать, что так же, как другой ленинградец, Вадим Шефнер — русский ответ битникам, так и Довлатов — русская версия американского натуралистического реализма (битником, кстати, Буковски никогда не был, как бы ни считали его им просвещенные русские читатели, да и Довлатову, судя по всему, «весь этот джаз» был чужд — не для них обоих все эти новомодные веяния; Довлатов-то и «хеви-метал» явно считал названием джазового ансамбля). Стремление к простоте высказывания, стилистической прямоте и вытаскиванию на поверхность абсурдности бытия у них тоже похожи, но все это, надо полагать, — тема для чьей-нибудь диссертации. Мы тут скорее о личном.
Довлатов — трепач, артист разговорного жанра, он украшал реальность, отчего взаимодействие с этой реальностью становилось легче. Он делал нашу (и, возможно, своих друзей и знакомых) жизнь сноснее. Все его истории проходят литературную обработку. Он писал мифологию своего поколения, своего окружения и своего контекста. Мифы эти зажили, как мы теперь видим, собственной жизнью. Разберем один пример, близкий мне с профессиональной точки зрения.
Когда-то я был
секретарем Веры Пановой. Однажды Вера Федоровна спросила:
— У кого, по-вашему,
самый лучший русский язык?
Наверно, я должен был
ответить — у вас. Но я сказал:
— У Риты Ковалевой.
— Что за Ковалева?
— Райт.
— Переводчица
Фолкнера, что ли?
— Фолкнера,
Сэлинджера, Воннегута.
— Значит, Воннегут
звучит по-русски лучше, чем Федин?
— Без всякого
сомнения.
Панова задумалась и
говорит:
— Как это страшно!..
С этого фрагмента в нынешнем массовом сознании, ни больше ни меньше, пошел гулять миф о непогрешимости «советской школы перевода». А если приглядеться к тексту: молодой человек, очень начинающий писатель, находится в зависимости (в т.ч. финансовой) у львицы советской литературы и оказывается в ситуации невозможного выбора. Бог знает, почему она задала ему такой вопрос — то ли на вшивость проверяла, то ли на лояльность, то ли случился у нее момент творческих (хотя какое уж тут творчество) сомнений. Ответить правду (любое количество уместных фамилий из его знакомых и друзей) нельзя, см. зависимое положение, ответить неправду (его цитируемая версия) — язык не поворачивается. Поэтому выбирается третий рог дилеммы: фамилия человека, вроде как имеющего отношение к литературе, но никаким местом не конкурента Пановой. Блистательный, надо сказать, ход — и волки, и овцы, все на месте и целы. Показательна и реакция маститой писательницы — действительно страшно, когда из-под ног уходит почва соцреализма, когда выясняется, что, помимо совка и пролеткульта, есть широкий мир, и прикормленные читатели об этом знают… Впрочем, что она имела в виду на самом деле — поди пойми. Как видим, к качеству переводов Риты Райт-Ковалевой этот анекдот не имеет никакого отношения (да и как наши герои могли судить об этом качестве — языков-то они не знали).
Досыл к этой истории тоже забавен — и тоже не о качестве переводов:
Кстати, с Гором
Видалом, если не ошибаюсь, произошла такая история. Он был в Москве. Москвичи
стали расспрашивать гостя о Воннегуте. Восхищались его романами, Гор Видал
заметил:
— Романы Курта страшно
проигрывают в оригинале...
«Москвичи» явно были не в курсе застарелой вражды Видала (принадлежавшего к истэблишменту и мэйнстриму американской литературы — он же был чем-то вроде члена союза писателей с дачей в Переделкино и вообще довольно неприятным типом) и Воннегута (литературного парвеню и такого же изгоя, как наш автор) — вражда эта была вполне однонаправленной, первый неоднократно называл второго «худшим писателем Америки». Есть даже версия, что литературный лев заебался бодаться с «бывшим торговцем автомобилями» за первые места на полке с буквой «В» в книжных магазинах… В общем, Видал Воннегута не любил, но «москвичи» (за текстом остается намек, что, видимо, ленинградцы бы такой ошибки не сделали) этого не знали. Видал выкрутился за счет старой вежливой шуточки носителей языка и держателей высшей правды, в духе обычно произносимого, например, американцем своему гиду «Интуриста», не очень хорошо владеющему языком: «Ваш английский лучше моего русского». Так и тут. Заметим — он не сказал, как сейчас принято считать, что «романы Воннегута страшно выигрывают в переводе» (тут у нашего массового сознания случилась эпидемия дарвалдая), он все-таки не дурак был. Он сказал только, что они «проигрывают в оригинале». Остальное приделал народ.
Потому что «холуйское рвение» его за все эти годы никуда не делось. В своем известном афоризме о советской власти Довлатов почему-то не довинтил ход мысли: это не только и даже не столько «образ жизни государства», сколько распространенный способ мышления пресловутой кухарки, выбившейся в председатели месткома, то самое мировоззрение, которого мы, хочется верить, лишены; нечто в голове, а не на руках. Совок вполне жив, и абсурд его ничуть не ослаб — ни в масштабах, ни по силе воздействия, ни по изощренности узколобого репертуара. Довлатов был бы, наверное, доволен. Ему по-прежнему было бы о чем писать.
Что нам нужно знать про Англию
"Джонатан Стрендж и мистер Норрелл", Сюзанна Кларк

…А я вот что понял. Англия — не остров. Это магический континент, огромный, такой, что на весь мир и на все времена. Ведь смотрите — ни одна, пожалуй, нация не подарила человечеству столько сказок и сказочников. Поневоле задумаешься, не в крови ли это у англичан — умение рассказывать хорошие истории, не скучные и не поверхностные, не проводя раскопки в собственном пупе и не делая обобщений, от которых кому-то может стать тошно. Быть может, это у них вшито в генах или растворено в лимфе, как пресловутые туманы.
И континент этот оберегают маги и волшебники — своими заклинаниями, это как защита побережья от штормов и бурь. Их заклинания имеют вид толстых романов и нетолстых рассказов, потому что волшебники — писатели этой земли, а ее магия — литература. Имена хранителей известны истории: Кэрролл, Милн, Толкин, Льюис, Пик, Роулинг, Гейман, Мур… Многих имен мы даже не знаем или забыли. Когда появляется новое (или вспоминается старое), происходит чудо. Вот Кларк, например…
Таких (и многих прочих) параллелей в романе Сюзанны Кларк много, они разбросаны по всему тексту и сноскам. Они не всегда прочитываются сразу, но где вы видели понятные и очевидные заклинания? Магия работает на других планах бытия, и мифическая история Англии (и ее литературы) — всего лишь прядь заклинания, которое Кларк плела много лет.
Вот, пожалуй, и все, что нам нужно знать об этом романе, открывая его впервые. Он — человек-книга, не его дело нам про себя рассказывать.
Двое в комнате
"Андрей Вознесенский", Игорь Вирабов

Неделю назад меня спросили, зачем я взялся читать эту биографию (я что, так плохо выгляжу?), и я понял, что, видимо, надо объяснять. Ну или, по крайней мере, что-то рассказывать.
Не знаю, как кто, а я в сознательном детстве, если просили назвать любимого поэта, мог смело отвечать: Вознесенский. Мне было плевать, как от этого кривились любители изящной словесности, которых в 70-е тянуло к чему-то более воздушному, метафизическому или запретному (нет, Бродского у нас тогда не было — в смазанных машинописных копиях ходили Мандельштам и Пастернак, и дело происходило «далеко от Москвы»). Я читал Вознесенского истово, доставал, что мог и не мог (чуть погодя подруга помогала — у нее мама работала в краевой библиотеке и выносила нам из спецхранов). Он учил меня свободе — разговаривать, думать, видеть, обращаться с языком. Понимать, что да — так можно, рифмовать «полотенце» с «пол-одиннадцатого», если заимствовать из известной байки о продаже рифмы Вознесенскому.
Но не только. Я, изволите ли видеть, еще и со сцены стихи читал, как это ни странно сейчас звучит, и даже завоевывал какие-то грамоты на межшкольных конкурсах чтецов-декламаторов. Так вот, поэму «Лонжюмо» я знал наизусть. Ее чтение, если мне не изменяет память, занимало минут двадцать. Это очень много, если со сцены. В конъюнктурной обстановке конца 70-х ход был беспроигрышный: не очень разрешенная правдивость и искренность чувства, но не подкопаешься (только попробуйте замахнуться на наше все — вас что, Ленин не устраивает?), фейерверк исполнительских трюков (а как же?) и несомненная гениальность. Даже, как видим, Новодворская оценила: беда в том, что про людоеда слишком талантливо, сука, написал. Этих звездных своих заходов я не стыжусь до сих пор, хотя процитировать хоть сколько-то сейчас вряд ли смогу.
Кроме того, эта поэма потом спасала меня — и не раз. В 9 классе я с ее помощью выиграл какой-то конкурс сочинений про Ленина, обильно цитируя по памяти Вознесенского (и Горького — в этом был смысл: противопоставить бронзового классика и небронзового гения), в 10-м примерно тот же текст повторил в выпускном сочинении и еще раз воспроизвел его же в год Московской олимпиады при вступительных экзаменах — и проник в университет, потому что тема Ленина везде была бессмертна. Когда меня тыкали локтем в бок и спрашивали, откуда списал, я честно отвечал, что из памяти. Генетической, ага.
Поэму «Оза» я тоже знал наизусть почти всю, но воспроизведение ограничивал более приватными случаями, уже впитав совет одного старшего товарища, что чтением стихов можно прекрасно охмурять девушек. Стихи Вознесенского были для этого материалом идеальным, хотя девушки охмурялись, по-моему, не очень. Возможно, это служит комментарием к продвинутости девушек «самой читающей нации», а может, дело просто во мне. Но куски из «Озы» до сих пор помню.
Уже в университете, потом, несколько лет спустя вдова крупного приморского писателя, читавшая у нас курс теории и практики художественного перевода (короткий, но я благодарен ей даже за него), временами прерывала семинары и пускалась в объяснимые воспоминания:
— Когда мы с Юрием Людвиговичем жили в Переделкино… — народ на семинаре в этом месте расслаблялся, а я слушал, — …и гуляли по заснеженному лесу… нам как-то встретился Андрюша Вознесенский… такой молодой… красивый… элегантный… в белом джэмпере…
Я никогда не прыскал в кулачок от этих картинок далекой и недостижимой жизни, в чем-то, возможно, — и нереальной. Детство к тому времени уже кончилось, но, оказывается, «белый джемпер Андрюши Вознесенского» по-прежнему со мной, как для кого-то «куртка Фернана Леже» или «ножик Сережи Довлатова».
И вот сейчас, через пять лет после смерти поэта, биография Игоря Вирабова опять читается как упражнение на вспоминание любимых стихов. Она конгруэнтна текстам самого героя повествования, которое кружит, спотыкается и взлетает, отвесно падает, повторяется, проповедует, завывает и причитает, поет рефрены и перескакивает с одного на другое. Даже обилие уменьшительно-ласкательных суффиксов, которое поначалу раздражает, теперь мне кажется уместным — посмотрите, сколько их было в стихах Вознесенского. Это книга наивно-увлеченного читателя, влюбленного в поэта вплоть до попыток эмуляции его стиля (получается или нет — другой вопрос). Биограф плюет на дисциплину высказывания, смешивает жанры, городит огороды — и все это, как начинаешь понимать, вполне уместно в рассказе о жизни человека, к которому не прилипал ни один ярлык. Тут же как: с одной стороны, но с другой стороны. Хотя из книги Вирабова по-прежнему непонятно, как Вознесенскому это удалось — стать баловнем властей и эдаким «бунтарем на поводке», но при этом остаться властителем дум и кумиром поколений, а также, без преувеличения, нервом и совестью эпохи, неизменно «пускать собак по ложному следу» и быть рок-н-роллом в одном лице в непроходимо «неритмичной стране», всегда лавировать и жонглировать терпимостью власти и народной любовью. Одной гениальностью стихов этого не объяснить, а поэт и власть — вопрос хоть и не главный, но важный и интересный. Так что я предупредил: это не худшая из биографий (а нам есть с чем сравнивать), но и она всего не рассказывает, и я не баб и муз тут имею в виду.
Вирабов в какой-то момент цитирует Трифонова: «Жизнь — постепенная пропажа ошеломительного». Так вот, для Вознесенского она пропажей явно не была. Для Вирабова вроде бы — тоже, потому что мы любим книжки, написанные с любовью так, что они этой любовью заражают. …Вот здесь читатель этого текста вправе заметить, что у чтеца стихов, почитателя Вознесенского и читателя этой биографии — некое but-face. Это да, это есть, это оно.
Начнем с того, что Вирабов — явно человек монокультуры. У него все, что до границы СССР — еще куда ни шло, но стоит границу эту нарушить или перейти легально, начинаются какие-то глупости. Боб Дилан у него «битник» (в подписи к фото), Эзра Паунд сидит в психушке чуть ли не до конца 60-х, скетчи из «западной жизни» словно списаны из газеты «За рубежом». До заведомой чепухи он вроде бы почти не скатывается, разве что утверждая, будто схемы распространения света из лона студентки Вознесенский рисовал для Роберта Лоуэлла: это неправда, он их рисовал своему переводчику Уильяму Джею Смиту, о чем у того есть соответствующее эссе с автографами АВ в сборнике Дэниэла Вайссборта. Также «мартини и абсент» Вознесенский не «оставил как есть» — в английском переводе они заменены на нечто более логичное (с согласия автора). Хоть я и сознаю, что со Смитом не вышло бы такого красивого мини-сюжета (как же, сам Лоуэлл, поэт-лауреат Америки не понял нашего гения; не приврешь — не расскажешь), осадочек все ж остается. Сколько еще таких подстроек реальности подкладывает нам Вирабов?
Про Вознесенского в Америке Вирабов тоже излагает как-то боком и все не то. Но если он считает возможным так редактировать память, почему бы нам не попробовать восстановить этот кусочек истории — спекулятивно, разумеется? Мне вот до сих пор не удалось найти сколько-нибудь внятных воспоминаний о памятных вечерах 1960-х, когда советский поэт выступал, например, в «Филлморе», в самом что ни есть гнезде неформальщины и андерграунда. Только историк группы «Джефферсонов Аэроплан» Джефф Тамаркин упоминает, что «сочетание [Вознесенского и группы] было вдохновляющим», а вот биографы Лоренса Ферлингетти как-то помалкивают. Немного просвещает только Эд Сэндерз — да и то он преимущественно цитирует «вытаращенные глаза» Вознесенского, не поверившего, что в Америке «можно критиковать тайную полицию по телевизору».
Но мы пытливы и любопытны, поэтому обратимся непосредственно к первоисточнику — тексту Андрея Андреевича Вознесенского, вошедшего в известную «Треугольную грушу» и озаглавленному вдохновенно: «Отступление в ритме рок-н-ролла». Отставим в сторону проблемы детского восприятия — когда-то, понятно, одного буквосочетания «рок-н-ролл» хватало для создания необходимого напряжения, нужного бунтарского пафоса и бездны смыслов. Не будем трогать и советский анализ этого текста с пресловутыми «балаганными ритмами рок-н-ролла», присмотримся к сюжету — что же в нем происходит?
Судя по этому тексту, поэт Вознесенский, оказавшись в стране Америке, нарушал все мыслимые «правила поведения советского гражданина за рубежами нашей необъятной родины» и т.д.: пил в больших количествах ром, публично разувался и бросал в стену сандалии, посетил концерт диксиленда, где рыжеволосые афроамериканцы играли на скрипке и трубе, побывал у кого-то в гостях, где незадолго до этого случилась попытка суицида, видел своими глазами аварию на шоссе, посетил прачечную-автомат, ну и небоскребы, конечно, тоже наблюдал, видимо, хотя о них воспоминания смутны и мешаются почему-то с коровами и воплями какаду. Судя по тексту, его там же сводили в зоопарк, но и это он помнит плохо — только что муравьев ногами давил. Вирабов, правда, глухо упоминает, что в Штатах в принципе непьющий и некурящий поэт бывал под ЛСД, но такое вроде бы случилось всего один раз, и объясняет кое-что, но только не какое все это отношение имеет к «рок-н-роллу».
Иными словами, моя версия такова: на совместных выступлениях с Ферлингетти поэт Вознесенский вел себя безобразно (напился, разулся и бросался сандалиями «об стену»), поэтому все участники постарались об этом faux pas поскорее забыть. А уже в Нью-Йорке компания подобралась отличная, и в «Филлмор-Исте» билеты были по три цента (опера-то трехгрошовая): Тед Берригэн, Джон Эшбери, Гилберт Соррентино, Джерри Ротенберг, Грегори Корсо, Пол Блэкбёрн, Роберт Крили… Но на следующую встречу, как вспоминают очевидцы, поэта Вознесенского не пустил Союз писателей. Объяснимо, впрочем, — я б тоже на их месте не пустил, чтоб не позорился. Как пишет Сэндерз, на следующий день проштрафившегося Вознесенского жестоко свинтили в Нью-Йорке прямо на улице перед синагогой и отправили первым же самолетом в Москву. Вирабов об этом не рассказывает ничего.
…Но мы увлеклись. Первую половину книги биограф еще как-то держит себя в руках, но как только в повествовании наступает 1968 год, у рассказчика натурально сносит крышу. В нашем идиосинкразическом биографе вдруг откуда ни возьмись вскипает, как волна, пресловутая благородная ярость и обида за державу: как же так, в мире творилось столько гнусностей, а все запомнили почему-то лишь советские танки в Праге. К Вознесенскому это имеет мало отношения (совсем как у него же «Треугольная груша» — к рок-н-роллу), но Вирабов не забывает по ходу пнуть тех «шестидесятников», которые не так давно не осудили Майдан. Это не лезет ни в какие ворота, не употребимо в данном контексте ни в борщ, ни в Rote Armee Fraktion, хотя справедливости ради заметим, что и здесь биограф сопоставим с предметом: кто знает, как АВ отнесся бы событиям последних лет? Они же в ту эпоху все были ебнутые на странно понимаемой любви к родине, а в головах по сию пору столько всего намешано, что будетлянам и не снилось.
Но это лишь начало, дальше по тексту великодержавные стенания русского имперца повторяются раздражающим рефреном и выглядят довольно глупо — как вопли обиженного младенца. Причем, можно заметить, что нелюбовь биографа ко всяческому «либерализму» — она от той же русской провинциальной монокультурности. Для него «либеральное» — явно все тот же советский жупел, никогда не понимавшийся т. н. «народом», к которому журналист некогда приличных (и не очень) изданий явно как-то бочком пристраивается. Кроме того, для Вирабова «другой стороны» попросту не существует, она не получает в его тексте права голоса: великорусские патриоты однозначно в белых шляпах, гадкие либералы — в черных. Буквально вот-вот начнут рыть тоннель от Бомбея до Лондона (а на исландскую разведку так и подавно работают). Некошерно как-то, ей-богу.
Было бы забавно хихикать над этим слепым пятном автора и тыкать в него пальцами, если бы его стоны в биографии Вознесенского, не имеющие к ней отношения, так не смыкались бы по сути с официальной «линией партии». Недаром и Вирабова, и самого Вознесенского так натужно пытается кооптировать в ряды «державников» проект «Писатель Шолохов»… т.е. Прилепин. Штука лишь в том, что масштабы личностей не сопоставимы — и Вирабов, и Прилепин несравненно мельче. Это помимо того, что Вирабов в сравнении с его героем, ну, как-то не статью, конечно, но — вечным сомнением не вышел. Хотя сам неоднократно дает понять, что Вознесенский был и глубже, и шире любых массовых или келейных представлений о нем. Будучи поэтом глубоко национальным, Андрей Андреевич был интернационален, а потому — поистине наднационален. Вирабов не раз это отмечает (только другими словами), но, похоже, ему никак не удается вместить этот «парадокс» в голову самому себе. Парадокс, заметим, если и существующий, то лишь в том «общественном сознании», той области массовой мифологии, где оперируют (и для которых предназначены) тезисы пропаганды. Как будто народ и партия у нас по-прежнему едины. Как будто страна не совершала никаких курбетов в последние десятилетия, когда не поймешь толком — то ли та же она, то ли уже совсем другая.
…Но мы опять увлеклись — да, таково свойство этой книжки, постоянно сворачивать в стороны, говорить об одном, но о другом, петлять, плутать и путать. Все как в жизни, и любовь в ней все-таки побеждает. И читая ее, неизменно и неизбежно восхищаешься вот какой странной штукой, в которой процесс «восхищения» как-то не особо применим. Какой же силы и какого качества была прививка идеализма у поэтов этого поколения, что питала то поистине ослиное упрямство, с которым Вознесенский всю свою жизнь провозглашал любовь к этой странной и бесчеловечной агломерации под названием «родина»? Поневоле задумаешься.
А любовь к Вознесенскому во мне все-таки победила раздражение к его биографу. В моей личной читательской истории это была неделя, когда, как в детстве, опять — «двое в комнате». Только один — не фотографией на белой стене, но книжкой в руках. А где в комнате двое, там третий не мешай.
Вот оно какое, наше лето
Английский литературный концерт в честь середины сезона
И начнем мы его с одной из самых летних песенок про одно из самых английских мест в мировой литературе:
Это тот редкий случай, когда у песни возник второй том — на радость читателям: Кенни Логгинз дописал потом к ней третий куплет, посвященный своему новому ребенку. Там, впрочем, и вся пластинка по мотивам А. А. Милна была хороша. Но английского лета без Шекспира представить себе трудно, поэтому вот вам еще одна очень летняя песенка:
А мы продолжим экскурсию по английским летним местам — и заглянем в Горменгаст вместе с новозеландскими музыкантами:
Из Новой Зеландии, как хорошо известно, до Толкина рукой подать, это практически одно и то же, поэтому эльфийские леса — самое оно в такое время года:
Еще одно очень английское и очень летнее место — древние моря, поэтому перечитаем Кольриджа (желательно — прямо на берегу какого-нибудь древнего моря с древними же веществами, усиливающими восприятие этой красоты):
Ну а если тут очень жарко, можно вернуться на обледенелую землю в туманный Лондон и остыть вместе с персонажами Стивенсона:
А то и углубиться в Лондон Уильяма Блейка вместе с этими натуральными англичанами:
Хотя заблуждением было бы думать, что патент на английскость — только у англичан. Были и другие шедевры:
Но самое главное английское событие середины лета — это, конечно, день рождения Уильяма Мейкписа Тэкери, которого здесь считают русским народным писателем Теккереем:
Своей неувядающей «Ярмаркой тщеславия» Тэкери вдохновил не одну экранизацию:
…даже не одну оперетту, из коих можно показать фрагмент версии Клауса Мартина:
Да, чемпионом вдохновения среди его персонажей можно, конечно, считать Беки Шарп:
Она не только по-прежнему на устах у всех, но и в названиях творческих коллективов: один, например, из Швеции:
…а другой — из Луизианы, но тоже очень летний:
В общем, Голос Омара вам вот что хочет сказать: проводите свое лето по-английски. Только тогда есть шанс, что оно у вас получится.
Провалившись по курсу пропаганды
Почти всё, Александр Дёмин

…Ловлю себя на том, что при жизни про Дёму писать было как-то проще. Сейчас не получается — черт его знает, почему. Песни переслушивать — да, архивы журнала =ДВР= перечитывать — тоже нормально (не то чтоб я этим занимался постоянно). А вот осмысленно писать что-то — не очень. Может быть, получится собрать нечто вроде устной истории — и выпустить ее в том же владивостокском криптоиздательстве «niding.publ.UnLTd», продолжающем традиции подполья и самиздата 1980-х, где вышла первая — «Стихи песен». Но об этом я расскажу дополнительно. Пока же — два подарка из прошлого: рецензии на программы Дёмы, появившиеся в том времени и том контексте. Сами эти альбомы представлены на дисках, входящих в этот комплект.
ПРОВАЛИВШИСЬ ПО КУРСУ ПРОПАГАНДЫ
Совсем немного о «Грязных Блюзах» Александра Дёмина
Эта рецензия была опубликована в журнале =ДВР= № 4, зима-весна 1988 г.
Фото: Алексей «Капитан» Воронин, видео: Андрей «Макар» Масловский
— Рок-н-ролл еще не мертв, но уже начинает пованивать...
— А блюз?
— . . . . . .
(Из разговора с Дёмой, которого еще не было)
Как-то давно один работник Дома Молодежи написал эпиграмму на Дёму (поразмышляй об этом, читатель, но не спрашивай в комитете комсомола). Я ее не помню. Там было что-то про черную одежду и Наполеона. Вот загордился бы Дёма, прознав про такое сравнение! Впрочем, смотрите-ка, кусок вспомнился! Дёма, закрывай глаза от блаженства и внимай:
Рок-клуба бард владивостоцкого,
Ля-ля-ля-ля-ля ля-ля он (это не непечатные выражения, просто
строчка забылась)
В одежде черной — под Высоцкого,
А с виду он — Наполеон!
(Я надеюсь, что вышеупомянутый Работник =ДВР= не читает, а значит, об авторских правах не заявит и гонорара не потребует. Есть все-таки свои прелести у маленьких тиражей!)
Так вот, на мой взгляд, Дёмин просто непременно должен возгордиться столь широкоформатным сравнением. Оно просто обязывает узреть в себе нечто такое... такое... Ну, наполеоновское эдакое, для чего, увы, в Дёминой отнюдь не крупной фигуре как-то не хватило места. Впрочем, льстить будем с красной строки.
Чего в Дёме нет — так это напыщенности и осознания своей суперзначимости, так характерных для наших провинциальных рокеров. Вне зависимости от степени перманентности своего состояния (термин, изобретенный Сашей Дёминым для характеристики своего время-от-времени-состояния) он прост и ненавязчив — рассуждает о своем, в принципе не интересуясь, понятны и занятны ли собеседнику его рассуждения. Примерно то же происходит и на сцене.

И вот что еще подкупает в Дёмине — так это просто патологическое какое-то желание сделать что-нибудь хорошее! Дать, например, Сене [Позднейшее примечание экс-редактора: владивостокскому поэту Сергею Нелюбину] почитать Гумилева (сенькина беда, что он того Гумилева уже 11 месяцев взять не может). Или деньги с концерта в Доме Молодежи перечислить в Фонд Зоопарков — для Майка (правда, Дэйв ту сотню все никак безналично отторговать не может). Или, скажем, сыграть в одной программе с БГ в Иркутске (куда оба собираются в мае съездить), да так, чтобы БГ получил свои 500, которые (по слухам) запрашивает, а Дёма — так и совсем бесплатно, в память о рок-н-ролле...
Черт его знает, как оно будет выглядеть за рубежом ДВР, а в родном Владивостоке...
Выходит небольшой акустический Дёма (последнее время — в сопровождении большого Лефона [Алексей Чернышук, некоторое время участвовавший в акустических концертах АД] с бонгами), издали очень напоминая Нашего Человека из Сычуаня, и начинает петь. Что-то от Дилана, что-то от Майка. Где-то улыбаясь, в перерывах подыгрывая себе на гармошке. Публика пошевеливает ушами... По сложившейся традиции — почти рычит при упоминании непечатностей: «Дворянского Гнезда», скажем, или «сестер с Набережной»... Через одного-двух хлопает, услышав о чайке по имени Джонатан Ливингстон или Гефсиманском саде... И уж совсем бьется в экстазе, смакуя такие родные «смесь ОБХСС и Третьей Смены», «Сюзи Кватро и Мордюковой»...
Если хотите — это то, чего нет пока больше ни у кого в городе: умения пощекотать и мозги снобов, и руки экстремистов, и уши подростков. Причем с дёминой стороны это — отнюдь не тонкий расчет, а просто осуществление доброго принципа: Все, что в кайф, — то и рок!
И вот еще. Возьмите «Воскресную Площадку» (или как они сейчас называются?) или «Совет Ветеранов СЭС» и мысленно аккуратненько так поставьте на сцену какого-нибудь ДК, ну, например, в славном городе... Чебоксары, да представьте еще, что выходит Дэйв перед началом и в присущей ему манере а-ля Открытие Торжественного Собрания сообщает, что это команды из... из не менее славного города Петропавловск-на-Колыме. Вот. Прибыли к чебоксарским друзьям. Поверит публика? А почему бы ей и не поверить, еще как она это сделает, ух! Еще и что город такой есть, поверит. А теперь попробуйте ту же операцию с Дёмой произвести... Ну как? Вот-вот — борода... Он и в Душанбе будет Владивостоком пахнуть.
Дёминские блюза́ достаточно неразнообразны. И даже однообразны. Говорят, правда, весело, когда ему Игорек Некрасов [первый бас-гитарист и шоумен группы «Туманный Стон», играл с Дёмой в никогда не существовавшем коллективе «Александр Дёмин и Бедные Люди»] на басу подыгрывает. За все время пребывания на Большой Владивостокской (ну очень большой!) Рок-Сцене Дёма два раза подпрыгнул (на концерте с «Третьей Стражей» в прошлом марте) и один раз маршировал в каске (в «Шиза-Шоу» на декабрьском рок-марафоне, которое характеризовалось, однако, чрезвычайно высокой степенью перманентности). А еще один раз устроил себе декорацию, прикрепив на собственный лоб государственный казначейский билет достоинством 1 (один) рубль («Я люблю тебя, как мой папа любит свой рубль...»). Все же остальное время — просто стоит и просто поет. Эта статичность поведения подчеркивает статичность, (откроем новую категорию) «привязанность» и значимость текстов.
Дёмины тексты, в большинстве своем, «привязаны» к мироощущению, к состоянию одного и того же человека. Состояния эти колеблются друг относительно друга с очень небольшой амплитудой в зоне ядовитого, но все же беззлобного, привычного смеха-стеба и тебя, дружок, и меня, и Их, конечно, как же без Них-то. Здесь нет ни блюющего презрения текстов Бородина («Дионис»), ни сладкого облизывания Кота Соломенного (в рамках «Третьей Стражи»), ни наивного протеста Лёни Бурлакова («Депеша»). Есть — его, Дёмина, и в чем-то мое, да и твое, возможно, ощущение этой жизни — с ее Мозговой Милицией, танцами с перебитой спиной и Владивосторгом, с табличкой «Смотреть можно — трогать нельзя»... Довольно гнусное, черт возьми, ощущение всегда улыбающегося и доброжелательного Дёмы...
Майк! Подари ему свой блюз!
с любовью,
пластиковый человек
ТАКТИКА ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ
Эта рецензия была опубликована в журнале =ДВР= № 9, 1989.
О Дёме писать бесполезно — это то вещество, на котором проверяются все писатели. Проверившись, они либо незамедлительно обламываются на банальные грубости, либо воспаряют мыслью, стремясь превзойти самих себя, не замутненных тенью мысли, в нагромождении всяческих глупостей одна на другую. У Дёмы уже целая библиотека метафор и сравнений — от «моряка с гитарой» до «русского Дилана», «Наполеона ДВ-рока»… Это помимо упоминаний о «черном спортивном костюме», «фуражке со звездой» и «невыразительном лице»...
Самую человеческую же рецензию на Дёму написал пластиковый человек в 4-м номере нашего журнала.
...Этот кусок несколько так вводит в атмосферу программы Дёмина, составленной из того же самого материала, — и это настораживает... В записи, которую сам Дёма называет «бутлегом», Макар добился некоторой степени приемлемости Дёмы для славного нашего «Общества №1» и его масс-медии: запись подойдет для любого радио, звучание нивелировано, обрезаны занозы и зазубренные края Дёминого голоса, а гитара задвинута куда-то в угол, уступая место электропиано и разным синтезаторным штруням. Но, втиснутая в прокрустовы ритмы драм-машины, осталась боль — и тоска. Хотя кишки и убраны с подноса (а их хватает на каждом живом Дёмином концерте), angst все же ощущается в напряженных структурах стиха и мелодических линиях.
Сам материал по своему характеру таков, что его, наверное, не сможет испохабить никакая электроника. Дёма останется Дёмой даже в Гонконге, и «Тактика» — как и всегда — в положительном смысле заряжает очень сильно и резонирует в голове множеством добрых (и злых) ассоциаций. Альбом очень архетипичен и целен, и я напрочь отказываюсь понимать тех, кто хочет в нем вычленять компоненты и анализировать на уровне «здесь похоже на "Кино", а здесь — голимый попс». Говорить, что в этом альбоме нет драйва, и спрашивать, зачем это Дёме понадобилось вообще, — все равно, что развалившись в кресле у лазерной аудиотехники, утверждать, что Джон Леннон двадцать лет назад спел «Героя рабочего класса» с недостаточным чувством: там, мол, слишком отлакированная аранжировка... You're still fucking peasants as far as I can see...
Cамое глубокое суждение об этой записи я услышал от Дёминых старых друзей. Которым она тоже не понравилась. Но по другим причинам: претензия была не к данной пленке, и в этом я с ними готов согласиться. Сам Дёма сейчас, очевидно, находится в наибанальнейшем творческом тупике, о чем свидетельствует последняя записанная им песня — «Знамена Имеют Свойство Чернеть», уже не из «Тактики», а из новой программы под названием «Капитуляция» (Дёма торопился ее записать, «пока знамена не почернели»).
...Хотя блюз универсален и вездеходен, та колея, по которой на нем сейчас едет Дёма, ему явно узка — к тому же, есть опасения, что в скором будущем она вполне может вывезти его куда-нибудь не туда... В общем, оставьте Дёму в покое. R.I.P. (Rock In Рeace, в смысле...)
Между чем-то и чем-то
Все романы, Саша Соколов
Чудо языка все-таки возможно — вот такое у нас сегодня откровение. Способен принести его в нашу жизнь Саша Соколов, и перечитывать его — удовольствие нового, очередного переоткрытия, воспоминание о том, что именно примирило тебя с русской речью когда-то (лет тридцать назад в моем случае), потом, вероятно, забылось, но вот теперь вспыхивает вновь и теплится внутри. Есть надежда, что еще какое-то время продержится, а потом перезаряжать аккумуляторы придется вновь.
Этот голос его рассказчиков, этот поток, чуть надрывный и задышливый, от которого становится и смешно, и щемяще, эти особенности его писательского зрения — оно выхватывает мельчайшее, — это переключение регистров, жонглирование стилями, поток, потоп, потом… про все это не раз уж писали, но всегда как-то краем. Не выйдет и у нас.
Как такое могло появиться в краю родных осин? Соколов — один из немногих, если не единственный — русский писатель поистине мирового уровня. Три его романа и горсть прочего — это наши Джойс и Бекетт, Пруст и Гэддис, слегка Пинчон и Барт(елми), это весь ХХ век, самое живое в его литературе — модернизм со своими «постами» заодно.
Практически любой текст Соколова (ну, кроме разве что речей по случаю) существует исключительно для собственного развлечения, он стремится прочь от центра высказывания и вновь возвращается к нему, раскачивает лодку, ходит кругами и завивается спиралями. Только бы не быть «сочинениями замызганных и лживых уродцев пера». Для этого в ход, понятно, идет все — «отрывки и обрывки произведений, называемых у нас литературой». Иконокластический пафос Саши Соколова известен, но, мнится мне, магия его текстов не только из отрицания состоит, правда?
Это еще и заговор, наговор, разговор, магическая практика речи, заклинание литературой (не той, что уже, а той, которая еще), плетение словес, где грубой сетью («Школа для дураков»), где тонкой вязью («Между собакой и волком»), но везде — плотно, спицы не просунуть. И не копиист Саша при этом, не пародист (хотя пародии в его словах много), а большой оригинал, причем — в «экспортном варианте» языка. Экспорт же всегда в этой стране означал просто качество. Известный анамнез: дома-то можно в растянутых трениках и заляпанной майонезом майке-алкоголичке, все равно никто не увидит, а на люди изволь причепуриться. Переместите образ теперь на «великую русскую литературу» — получилось? Соколов же пишет с внутренним достоинством, с непреходящим ощущением качества без скидок на Заитильщину, он всегда одет к ужину вне зависимости, смотрят на него гости или нет. А такие люди в русском ментальном пространстве всегда воспринимались как чудаки.
Хотя, впрочем, что это я? Соколов в своих текстах никогда не один — у него есть умный собеседник, и я не читателя тут имею в виду. Он наедине с собой держит марку.
И время, да — ох уж это беременное время… Оно по заветам Вико, Джойса и Бекетта постепенно, от романа к роману овеществляется, отменяется. Карусель Вико набирает обороты, вихрится и закручивается в плотный штопор. Все не только происходит одновременно, но и во всем происходящем, как в русской истории, набитой в голову нерадивого школяра, одно не отличается от другого, мифы от реальности, детали от панорам. То же и у нас с вами — оглянитесь окрест.
При этом, помимо языка и речи, «Палисандрия» способна примирить читателя и русско-советской историей. Не в том смысле, что этот кровавый и непристойный балаган хочется длить и длить, а просто интересно, как у Соколова бы выглядели последние 15 лет этой самой истории государства российского (тм). Ну, с 1990-ми, допустим, разобрался Пелевин, нынешнее время, как со всех сторон нам сообщает пресса, по большей части написано Сорокиным, а вот как бы с ним обошелся видный историк Палисандр Дальберг?
Фигура его знаменательна и даже, не побоюсь этого слова, в чем-то символична. Безвременщик и геронтофил, у него свои отношения и со временем — сиротские, — и с историей. Историю он буквально имает — если же вдуматься, ее и можно только еть, больше ни на что она не годна, ибо русская история, как мы видим по нынешним событиям, — весьма пожилая блядь, которую ебли и ебут все, кому не лень и не противно. Никаким в ней целомудрием давно уж и не пахнет, она уже давно не целка, о мудрости же и поминать не след. Жалеть ее, впрочем, тоже пагубно и чревато, восхищаться в ней нечем, бояться — смешно. Что остается, Палисандр Александрович? Честнее с нею поступать, как вы, чем как эти, которые с нею нынче.
Хотя и без истории в последнем Сашином романе достоверно отражается весь нынешний вихрь массового сознания и государственной идеологии. Остается лишь диву даваться прозорливости автора, больше 30 лет назад разглядевшего в неких противных зеркалах (!) это непреходящее свойство русской истории — ее нескончаемую, непомерную абсурдность. Мне скажут, что это в традиции, эка невидаль, Салтыков-Щедрин там, хуе-мое, подумаешь, удивил, а я отвечу — да, но никогда, пожалуй, прежде, не принимал никакой текст этих жутковатых черт самосбывчивого пророчества так безысходно. Вглядитесь, нынешняя кремлевская камарилья натурально сошла со страниц «Палисандрии» (Сорокин-то ее зарождению свидетельствовал, так что сравнение не проканает). И вообще судьбами этой страны явно правит логика составителей кроссвордов, а о думе паскудно и думать.
Текст «Палисандрии» сегодня, не забываем, еще не написан — две единственные четкие даты там: 2036 год (пока оно сочинялось) и 2044-й (когда текст завершен). Сдается мне, потомкам будет что отмечать, как мы некогда праздновали 1984 год. Тогда и убедятся, если мне вы не верите.
А в глазах тоска
"История группы Звуки Му", Сергей Гурьев

Что бы ни писали или ни говорили сейчас о коллективе «Звуки Му», все неизбежно вырождается либо в старческое брюзжание (дескать «да, вот давеча — не то что нонеча»), либо в ностальгические всхлипы — опять же, по ушедшим временам. Но все сходятся в одном — эту группу нужно было видеть. Слушать их сейчас нисколько не помогает. Да и непонятно будет многим. Что это вообще было?
Попробуем припомнить «куда-то ушедшие времена». 20 лет назад. Сначала — туманные разговоры: мол, появилась в Москве группа, совершенно ни на что не похожая своим безумием (при том, что безумными тогда полагались даже группы Ленинградского рок-клуба, по всем меркам вполне мейнстримовые). Доходившие «до самых до окраин» записи на импортных пленках как-то не впечатляли. Очевидцев никто, как правило, живьем не видел. С музыкальной точки зрения многим продвинутым меломанам, выросшим на «Genesis», «Queen» и «Uriah Heep», все равно было непонятно, а тексты вызывали вполне детсадовское «хи-хи», как от запретных неприличных слов: «женщина — не человек», «голая ходила ты», «триста минут секса с самим собой», «у каждой бабы есть свои люляки»… Водка, мизогиния, помойки — чем еще можно было смачно харкнуть в рожу «будням великих строек» «страны, где нет секса»? Но подозрительно отсутствовал пафос, к которому всех приучили ленинградские исполнительские коллективы, составлявшие основу наших тогдашних русскоязычных плейлистов.
За кажущимся эпатажем, понятно, стояло большее, но выяснили это лишь гораздо позднее — и лишь те, кому повезло оказаться на концертах. В конце 80-х группа гастролировала по городам и весям очень активно, и многим тогдашним зрителям концерты эти удалось пережить. Переживать было что — катарсис, взрыв мозгов. Как правило, группа, находившаяся тогда, пожалуй, в лучшей энергетической и художественной форме, начинала с цепочки безусловных хитов: «Серый голубь», «Союзпечать» — песен простых, драйвовых и вполне доступных для имевших уши — и только потом переходила к более, гм, экспериментальному материалу: «Бойлеру» или «Крыму». На фоне мерцающих доминант — ослепительно лысого элегантного еврея с черной вавилонской бородой, смурного самоуглубленного дылды с романтическими кудрями, спадавшими на лицо, и юноши «с лицом вампира» — под раздражающе «пумкающий бас» и идиотские плясовые фиоритуры в самых противных тембрах электронных клавишных, звучавших до крайности докучливо и перемежавшихся неистовым бряцаньем по струнам, разворачивалась, по ушедшему в народ выражению Сергея Рыженко, «русская народная галлюцинация». Главным героем был изможденный — по всему видать, сильно пьющий — мужик в сером сюртуке: мужик бешено метался по сцене и утробно рычал, словно загнанный в угол клетки и смертельно раненный Достоевский, либо маршировал с дебильным блаженством на лице, как обожравшийся амфетаминов Андрей Платонов, либо принимал изломанные и мучительные позы, противоречившие всем законам анатомии, геометрии и гравитации, как вообще непонятно кто. У меня, например, тогда сложился единственный цельный образ происходившего: вот если б Акакия Акакиевича поставили перед Генералом, и Генерал сказал бы, пронизав его взглядом: иди и играй! — он пошел бы, и играл бы, и пел бы именно так. И еще какой-то кайф от этого получал — но только потому, что кайф получать приказали… «Шинель» и «Бедные люди» — вот были основные реперные точки. О музыке — ни слова. Мы вообще были тогда мальчики литературные.
Итак, герой был вполне антигероичен и в воспаленном сознании населения быстро превратился в цельную фигуру эпических и мифических пропорций, в заслуженного юродивого и скомороха СССР, «отца родного» Петра Николаича. Превратился даже в сознании культурных дам в трикотине, попадавших на концерты группы весьма случайно, и гопников, которые впоследствии переключились на систематическое прослушивание «Сектора Газа» и «Гражданской обороны». Потом ходили слухи, что группа «Звуки Му» стала экспортным товаром, вроде «The Beatles», потом — что ее разорвала на части межнациональная рознь русского народного Мамонова и чуждого еврейского Липницкого (чье мучительное овладевание бас-гитарой тоже стало притчей во языцех и неоднократно ставилось ему в вину, — и на Липы же директорство возлагалась ответственность за распад коллектива). Все это были, понятно, отчасти мифы. Потом Петр Николаевич начал сниматься в кино, потом уехал в деревню, принял православие, стал выступать на театре, опять сниматься в кино… И это — уже история.
И вот через двадцать лет после взлета и падения «Звуков Му» с историей и мифом группы начинает работать другой герой советского андерграунда, критик и культуролог Сергей Гурьев. Карьера «Геннадьича» — от первой искусствоведческой работы, посвященной Максу Эрнсту, до вклада, который он лично внес в осмысление большинства культурных течений периода заката советской империи, от солирования в группе «Чистая любовь» до работы в редколлегиях «Урлайта», «КонтрКульт’Уры» и «Пиноллера», от организации фестивалей и концертов до промывки мозгов целому поколению нынешних журналистов, как гламурных, так и не очень — предмет отдельного исследования. Но в том, что касается знания вопроса, скажем сразу — Геннадьичу верить, в общем, можно. Русский Лестер Бэнгз через русского Ральфа Глисона стал русским Ником Коном. У Геннадьича не только «дворовый» или искусствоведческий авторитет — общеизвестен тот факт, что сам он все это время находился в потоке событий и, можно сказать, из подполья не вылезал. С мифом и историей он работает грамотно: расставляет акценты, излагает живо и увлекательно, неверные представления (в частности, о причинах множественных роспусков группы) ставит с головы на ноги. Цитирует источники — от Ольги «Мозги» Гороховой до Аллы Пугачевой, работает с архивами — и самиздата тех лет, и личными, преимущественно Александра Липницкого, чей мемуар «Цветы на огороде» украшает и выгодно оттеняет основной корпус текста. Фотографий тоже очень много.
Но главное даже не это. Вышесказанного, смею надеяться, довольно, чтобы книга Гурьева стала обязательной ко вдумчивому изучению теми, кто хочет знать — или помнить, — как все было тогда на самом деле. Вышесказанное настолько самоочевидно, что о книгах такого жанра и таких авторов вообще писать крайне сложно. Да и к фигуре самого героя ничего не добавишь — при том, что он, слава богу, жив и его выступления по-прежнему толкуются весьма неоднозначно. Главное то, что из архивных материалов, фотографий, отбора и подачи материала, из языка и стиля, из фирменных магических пассов Гурьева и его узнаваемой интонации в книге ткется то полотно истории, которое нам в нынешнем нашем пост-подполье, видимо, ценнее всего. А кроме того, автор в лучших традициях «рок-журналистики» не отвечает ни на какие вопросы и даже не ставит их. Он на них показывает пальцем.
Как вышло, к примеру, что «в моем дому завелось такое»?
“Главная проблема российской рок-музыки — национальная самобытность. Большинство ее героев могут быть всем хороши: обладать харизмой, хорошей техникой игры, писать отличные тексты, но музыка и общий творческий месседж, как правило, глубоко вторичны. Что отечественные рокеры могут «выкатить» на сцену видавших виды метрополий — Англии и США? Где от китайцев ждут китайской специфики, от японцев — японской, от русских — русской? Что это вообще такое — «современная русская национальная специфика»? Она, пожалуй, все-таки угадывается. Чтобы мировая цивилизация признала русского рокера, он, видимо, должен соответствовать некоему образу, знакомому ей по страшноватым героям Гоголя и Сологуба, по маргинальной эмигрантской клоунско-ресторанной цыганщине, по легендам о всесокрушающем русском пьянстве и белых медведях, бродящих по улицам русских городов. Это должен быть некий дикий скиф, пропущенный через чудовищное горнило семидесяти лет советской власти. Создающий соответствующую музыку — дикую, странную, с хромыми, но завораживающими ритмами…”
Ситуация очерчена на первой же странице книги, но простого ответа нет. Вернее, вся книга — материал к ответу, который автор невысказанно предлагает каждому читателю сформулировать самостоятельно. Он только лукаво — опять же, не выходя из роли «гуру контркультуры», совсем как в старые добрые времена, когда телеги на кухнях и в гостиничных номерах рок-фестивалей, оплаченных комсомольскими коммерсантами, двигались по десятку в час (при соответствующем разогреве), — может в телеинтервью изречь что-нибудь про теорию «красавицы и чудовища»: мол, фигура Мамонова могла самозародиться лишь в стране, знаменитой красотой своих женщин, а красивые женщины артиста, как известно, любили…
Да и насколько русска была вся эта «народная галлюцинация»? «Лет десять назад мы так хотели в Израиль и вот наконец мы находимся там…» Дело даже не в смешанном этническом составе группы, а в том, до какой степени сам Мамонов, творческий движитель коллектива, ощущал всю дорогу эту «русскость». Ведь юродивость и скоморошество, равно как образы классической русской литературы — как ни верти, этикетки, навешанные на него всеми нами. Мамонов же, среди прочего, переводил норвежскую поэзию и пел по-английски (а их совместная с Василием Шумовым пластинка кавер-версий «Русские поют» — сама по себе достойный артиста любой национальности шедевр). И цель создания коллектива, как ясно становится из книги Гурьева, отнюдь не заключалась в пропаганде какой бы то ни было «русской идеи» — для всех в этом проекте преимущественно «пахло весельем и очень большими деньгами». Очень по-рокерски.
Так что «галлюцинация» — бесспорно, по крайней мере, на все 80-е годы, «народная» — ну, допустим, «русская» — не знаю. Бесовская природа рок-музыки, как не нами замечено, вообще наднациональна, а по частоте использования в качестве жупела и мишени для любых дротиков, в том числе — вполне отравленных и смертоносных, с середины прошлого века рок-музыка смело может соперничать с «кровью христианских младенцев». Не иронично ли поэтому, что в поисках «национальных корней» у «Звуков Му» мы с трагической неизбежностью зайдем в тупик? Рок-музыканты просто заменили собой евреев, а поскольку они, как и евреи, есть везде, включая даже Антарктиду, почему бы не счесть «Звуки Му» «еврейской народной галлюцинацией»? Или же антарктической. Мы же все, как говорил другой герой советского музыкального андерграунда 80-х Сергей Попович, безродные космополиты и евреи-полукровки.
Вернемся к «проклятым вопросам». Как вышло, что человек, породивший столько крылатых фраз, афоризмов и даже, как ни странно, лозунгов (одна строка «Зато я умею летать», ставшая жизненным кредо для многих, стоит многих пещер Кумрана), писавший тексты, примитивные лишь с первого взгляда (там есть «приемы», да-да — вспомните хотя бы начало «Постового»: это же чистый Хичкоков «саспенс», очень жуткий и кинематографичный), сейчас с пылом неофита преимущественно читает христианские проповеди — если разговаривает с людьми вообще? Гурьев на много страниц предоставляет слово самому Петру Николаевичу (глава «Мамонов и вера») — это благородный шаг и уникальная трибуна, но и здесь ответ — за кадром. Может, и впрямь, как сказал Гурьев в интервью «Граням.Ру», каждый артист, поначалу склонный к саморазрушению, начинает терзаться муками совести, и ровно так же, без тормозов, бросается в другую крайность? Ведь был же случай, когда Мамонов с братом Липы Владимиром «выпили что-то не то из кладовки на Каретном… Петя проблевался, а Володя умер». Тогда, в 1985-м и зародилась, что ли, тяга нашего героя к духовному самоочищению? Фиг знает.
Или вот еще. Гурьев кропотливо прослеживает всю затейливую историю группы и поминает всех участников, подробно излагает вполне достойную «Спинномозговой Пункции» историю с барабанщиками, рассказывает о концертах и записях. Даже примерно объясняет, почему невозможно слушать их студийные альбомы — Брайан Ино ничего в группе не понял, а Шумов в «Звуках Му» явно хотел клонировать группу «Центр». Но это не объясняет все же, почему невозможно слушать и их концертные бутлеги — без того, чтобы не захотеть увидеть, что происходит на сцене, причем желательно — не в записи, а живьем, что, как легко понять, тоже невозможно уже 20 лет как. Самой всеобщей невозможности Гурьев не объясняет. Как и того, какими физическими свойствами обладает этот атональный мамоновский голос и почему от его «фа-дуа-дуа» в «Союзпечати» мурашки по коже бегут до сих пор. И что там была за инфернальная энергетика на тех концертах, от которой публика буквально рыдала и билась в падучей. Вот одна только история от Липницкого:
“Однажды в 80-е юный гопник Буцык, гоняясь с кодлой сотоварищей за панками и хиппи, в азарте погони ворвался на концерт «Звуков Му» в спорткомплексе «Динамо», что на Водном стадионе: «Когда я оказался у самой сцены, музыка, бьющая с нее, так на меня подействовала, что я вцепился в ботинки лысого беззубого танцора и остервенело вытянул из них себе шнурки на память». …Петя… вспомнил, что именно в тот момент, когда он увидел, какой ценностью для подростков стали детали его туалета, он впервые почувствовал себя звездой.”
Поскольку часть нашей жизни проходит сейчас даже не во сне, а в кино, тут, кажется, уместно помянуть сцену из «Квадрофении» Фрэнка Роддэма и группы «The Who». На вечеринке, если помните, кто-то выключает «The Ronettes» или кого-то в этом духе и ставит «Мое поколение». И молодежь под эту, в общем, незамысловатую песню с прямолинейным, как свая, текстом начинает совершенно дичайшим манером меситься. Так вот, «Звуки Му» на публику действовали так же, неизъяснимо и загадочно — при том, что на дворе было не начало 60-х, вокруг отнюдь не Англия, а коллектив даже в силу своего экстерьера не способен был служить ни для кого тем знаменем, под которое так удобно собираться хотя бы для того, чтобы не походить на всех прочих, уподобляясь тогдашним и тамошним «модам». И все равно — опять же, как в фильме, если помните: «Нам ведь было хорошо. В Брайтоне же все было по-настоящему». Мы все были против, а под «Звуки Му» против быть, как ни парадоксально это звучит, оказалось крайне уютно.
Вернемся к начальному тезису и пора переходить к коде. За все это время ухватить и передать сатанинскую и галлюцинаторную самобытность «Звуков» не удалось, увы, никому и ничему. Странно или нет, но лучше всех на бумажном носителе сумел это сделать Гурьев: он просто воссоздал и оживил кусок нашей истории, и вышло честное жизнеописание в духе вполне героической агиографии — по книге можно прямо сейчас снимать хоть биопик, хоть сагу с моралью. Неавторизованную, само собой. Боюсь, главные герои нынче такого не одобрят.
Нам же остается лишь переслушивать старые пленки и жалеть о прошедшем и совершенном времени. С его, разумеется, постовыми, бойлерами, Союзпечатью и бумажными цветами на огороде. С тоской в глазах.
Летнее вдохновение
Наш зажигательный литературный концерт
На улице стоит ужасная жара, поэтому — жжем буги-вуги литературным напалмом. Поговорим, как и раньше, о вдохновении. Оно, как известно, штука пламенная и вполне зажигательная.
Вдохновлять может даже фамилия любимого автора или персонажа. В случае в коллективом «Опиум Джонс», например, источником вдохновения был бы Джек Керуак, но эта песня выпала из ротации, поэтому для начала мы увидели, как «Американская мечта Гэтсби» прислушивается к голосу разума.
А это был известный творческий коллектив «Ярость против машины» с песней по мотивам романа Джорджа Оруэлла. Он, как известно, послужил источником вдохновения для не менее творческого коллектива — только другим своим произведением. Все вы его, конечно, знаете, поэтому вот вам редкое видео:
Дистопии вообще вдохновляют к применению напалма в жару — вот вам Олдос Хаксли:
Равно как и классики литературы ХХ века, например, Хемингуэй:
А вот профессор Толкин вдохновлял своими трудами других монстров рока:
Вдохновения у классиков, как известно искали многие титаны контркультуры — например, «The Fugs» у Уильяма Блейка:
Традиция искать вдохновения дожила и до наших дней. Например, рэперы «Черная звезда» обрели его в первом романе Тони Моррисон:
Русская классика в источниках вдохновения тоже числится, конечно. В случае с «Роллинг Стоунз», правда, к Михаилу Булгакову примешался Шарль Бодлер:
Смотрите, какие одухотворенные лица у читателей. Вот настоящие друзья искусства, ни отнять, ни прибавить. Впрочем, и настоящим «Друзьям искусства» из Каталонии было кем вдохновляться — Великим Бардом:
В русской же литературе — которую мы празднуем нынче весь год — таким универсальным источником вдохновения может быть Василий Макарович:
Но недаром с битников мы начали — к ним же и возвращаемся. Они вдохновляли даже «Кинг Кримзон»:
И по традиции последний номер нашей сегодняшней летней литературно-развлекательной программы — дань уважения настоящим читателям. Не песня, а скорее балет:
Мир по-прежнему уютен. Если на него правильно смотреть
"Основания новой науки об общей природе наций", Джамбаттиста Вико
Из-под пера (гусиного, не иначе) Вико выходит очень уютный мир, понятный и разложенный по полочкам. Его любовь к систематизации чарует. Но это и объяснимо - будучи лириком, он так пытается попросту не сойти с ума от непостижимости того, что ему предшествовало и что его окружает. А рехнуться было с чего. Недаром он стоит особняком в культурном пейзаже своего времени - как метафизик, антирационалист и, вообще говоря, предтеча постмодернизма. Ироничен он донельзя - взять, к примеру, параграф 301 про сыновей Ноя:
Ниже мы покажем, что с расами (сначала Хама, потом Яфета и, наконец, Сима) произошло следующее: без религии своего отца Ноя, от которой они отреклись, — а она одна могла при тогдашнем естественном состоянии удержать их посредством браков в обществе семей, — они затерялись, блуждая как звери, в великом Лесу Земли, чтобы преследовать пугливых и сопротивляющихся женщин, чтобы спасаться от зверей, которыми неминуемо должен был изобиловать великий древний лес; так они разошлись в поисках пищи и воды; поэтому через много лет они дошли до состояния животных; но тогда при известных обстоятельствах, установленных Божественным Провидением (их наша Наука открывает и исследует), потрясенные и пробужденные ужасом перед одним из Божеств Неба, или Юпитером, которого они сами придумали и в которого они уверовали, некоторые из них в конце концов останавливались и прятались в определенных местах; там они укрывались с определенными женщинами, и из страха перед Божеством телесными соединениями, религиозными и целомудренными, сокровенно праздновали браки и производили определенных детей; таким образом основывали они семьи; и тем, что они оставались там в течение долгого времени, а также погребением предков, они, как оказалось, основали и разделили первую собственность на землю.
Его "принципы" - вершина здравомыслия в осмыслении истории. Вико - очень здравый циник, весьма недовольный и уровнем развития мышления у своих соотечественников, и качеством мысли предшественников. Самое ценное и показательное у него (для меня и в этот раз, по крайней мере) - что в числе инструментов анализа и описания у него фигурируют такие понятия, как здравый смысл, гармония, воображение, поэтическая мудрость и проч. Философ и филолог в его фигуре нерасторжимы. Очень освежает.
Воспоминание о Бреле
"Стихи и песни", Жак Брель
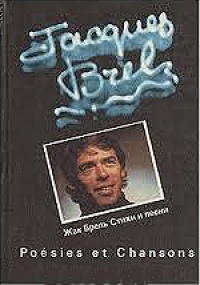
..Лицо Жака Бреля -- передо мною на полке, разрезанное на узкие полоски корешков компакт-дисков. Почти полное собрание сочинений, купленное в богемном Джорджтауне за какие-то безумные по тем временам для меня американские деньги -- европейская музыка вне жанровых и национальных различий там рассовывается в ячейки «импорта» и, как диковина, стоит намного дороже. Качественные французские сигареты ценностно уравниваются с малайскими самокрутками из банановых листьев.
Иногда эти полоски его портрета перемешиваются или исчезают вовсе -- когда особенно любимая в то или иное время жизни пластинка не сползает с проигрывателя. Странно, но само лицо -- нервное, тревожное и угловатое -- от этого не меняется.
Я плохо знаю обстоятельства его жизни и не могу, конечно, сочинить ему биографию -- я даже миф не умею сочинить, как это сделал его, пожалуй, самый авторитетный биограф Марк Робине. Легенду о Бреле яростно защищает фонд, основанный его наследниками и названный его именем. Я даже не помню, что писали о нем когда-то в журнале «Ровесник» гуру нарождавшегося андерграунда. Наверняка придумали что-нибудь о «человеческом голосе, пробивающем толщу бетонных джунглей и обличающем буржуазный строй». В той статье было и несколько плохо переснятых фотографий маленького человека в строгом костюме на большой черной сцене -- почему-то казалось, что он очень волнуется, но на каждой фотографии он выглядел другим: насмешливым, испуганным, страдающим. Гораздо позже от Елены Антоновны Камбуровой я услышал сочетание «театр песни», а в тех первых статьях упоминался только какой-то «шансон». Были, наверное, и гибкие пластинки из журнала «Кругозор», но их я не помню. Тогда накатывало такое странное чувство -- предоткрытие, когда казалось, что пройдет совсем немного времени, что-то во мне (или вокруг меня) изменится, и я открою для себя новый, огромный и немножко запрещенный мир, лоскуты которого видны уже сейчас, и дразнят, и уводят за собой.
Время прошло. Понятнее Брель не стал. Ближе? Настолько, что, подобно трем или пяти другим артистам, превратился в часть жизни. Он из тех, без звука, без энергии голоса которых жить получается не всегда. Как вечный аккумулятор -- проходит какое-то время, о нем вообще не вспоминаешь -- и вдруг неожиданно оказывается, что не сможешь успокоиться или просто пошевелиться, не услышав какой-то фразы или ноты из его песни. Подзарядка эмоций, наверное.
И он не стал одинаковым, не стал цельным. Что я о нем знаю? Жил как хотел, на всю катушку. Недолго -- 49 лет. Сам говорил, что все, что уместилось между датой рождения и датой смерти человека -- неважно. Не факт.
Школу он так и не окончил. Тоска. Хотелось приключений, а ими могли стать только песни. Такая вот разновидность побега.
Сделал себя сам -- вырвался с папиной картонажной фабрики в пригороде Брюсселя, даже не трубадуром стал, а так -- «бременским музыкантом», ездил по богоугодным заведениям с католической труппой «Франш Корде», пел и острил, утешая сирых и убогих.
Работал как проклятый, добиваясь, чтобы каждое слово звучало как последнее. Серьезен и пафосен поначалу был настолько, что его даже прозвали «Аббатом Брелем». Кличка отпала со временем, а подлинно поэтическая работа со словом стала еще тоньше и изощреннее. И французский выбрал не просто из расчета на большую аудиторию -- трудно найти другой, настолько же гармоничный язык, в котором на одной сквозной рифме к слову «любовь» можно построить несколько совершенно разных песен. Хотя и то немногое, что он спел на фламандском, поражает и языковым мастерством, и выразительностью.
К счастью, ему вовремя объяснили, что, сочиняя музыку с помощью нескольких известных ему гитарных аккордов, он попусту тратит силы. С друзьями и соратниками Брелю повезло: Жорж Паскер (Жожо), открывший его Франции Жак Канетти, научивший его музыке Франсуа Робер... Вот с имитаторами повезло меньше.
Когда говорят о его работоспособности, прежде всего вспоминают, что в иные годы он мог давать по 300 концертов, не сбавляя темпа жизни, который был бы под стать декадентам-рокерам лет двадцать спустя. Но вот почему-то кажется, что не было в его жизни этого пошлого поверхностного блеска, который навсегда прилип к шоу-бизу 70-х. Брель просто был слишком экспансивен, ему хотелось необъятного, хотелось успевать все, чувствовать все -- и потому он давал своему менеджеру распоряжение из принципа не отказываться ни от каких контрактов (после того, как Брель решил покинуть сцену, потребовалось шесть лет, чтобы все их выполнить), потому мог ночь напролет зажигать на пару со своим верным Жожо, потому делал кино, играл на сцене... Он был настоящим.
Его жадность к жизни, наверное, лучше всего поняла Эдит Пиаф: «Он доходит до предела своих сил, поскольку в песне выражает то, зачем живет, и каждой строкой бьет вас лицо так, что вы долго потом не можете опомниться.»
Ему было интересно в буквальном смысле «покорять стихии» -- воздушную за штурвалом самолета, морскую под парусом яхты, людскую -- со сцены «Олимпии». И со звуком он боролся точно так же: жил в студии, оттачивая со своими концертными музыкантами каждую ноту и каждую строку, пока все элементы не вставали на свои единственно возможные места. Для записи пластинки после этого требовалось от силы два дубля, поэтому и все песни у Бреля -- живые.
Экзистенциалисты и битники уже слегка отошли в историю, рок-бунтари еще не вполне появились, требовалась какая-то иная знаковая фигура -- видимо, Жак Брель и стал для Европы таким символом, неодномерным, избегающим определений до сих пор. Просто -- артистом. Поэтом, поющим для людей. В нем одном сошлось множество различных плоскостей -- природное обаяние и легкая загадочность, так близкий нам, европейски трагический взгляд на мир и поистине романтическая инаковость. Что же до «антибуржуазного пафоса» -- а был ли он? Помилуй боже, не борьба за правое дело, не туповатый бунт недопонятой вседозволенности 68-го -- издевка и насмешка, вот самое действенное средство для подрыва любых устоев. Поэт -- не поэт, если он ангажирован. Он по определению -- против.
А люди -- любили его. И для них он составлял в цепочки казалось бы простые слова, казалось бы банальные фразы. И публика понимала, что так о «покровах света» или «пламенеющих вулканах» может спеть только тот, кого самого взрывало от любви. Звук его был так же неистов, как то, что оставалось между строк. На бумаге филигрань его слогов мало о чем говорит. Иногда Брель-поэт кажется слишком рассудочным -- невозможно ведь добиться такого естественного дыхания страсти без тщательного расчета внутренних созвучий и рифм... Пока не услышишь, как бросается он навстречу залу в «Амстердаме», как дрожит его голос в последних замирающих звуках «Не покинь меня»...
Его, дитя города, обожали в больших городах: он заполнял лучшие концертные залы -- парижская «Олимпия», лондонский «Альберт-Холл», нью-йоркский «Карнеги». Его энергия, его внутренний напряг били ввысь, распределяясь по городской вертикали. А последний в жизни концерт состоялся чуть ли не в сельском клубе. В конце он просто сказал вставшей перед ним публике: «Спасибо. Это оправдывает пятнадцать лет любви».
...Рак легких он не афишировал -- уехал на Маркизы, чтобы прожить оставшееся время для себя и близких. Когда за год до смерти, после нескольких лет публичного молчания, вышла его последняя пластинка, и люди сутками стояли в очередях, записывая на ладонях номерки, владельцы музыкальных магазинов, заблаговременно распродавшие весь миллионный тираж по подписке, выставляли в витринах зловещие плакатики: «Бреля больше нет». Брель еще был.
Не стало его 9 октября 78-го. Могила -- на кладбище Хива-Оа, в нескольких шагах от Поля Гогена.
Я не могу ничего писать о нем, он слишком разный. Примерно раз в год я, правда, снова и снова пытаюсь понять, как составлены вместе слова в его песнях, разобрать его магию на винтики, переписать его строчки на своем языке... Со мной остаются только его пластинки: наивный полуакустический «Великий Жак», нервные «Маркизы», бесшабашные «Фламандцы», неистовые концерты в «Олимпии», прощальная запись «Не покинь меня» -- изощренные аранжировки старых мастеров звука, зрелый голос. Выстраданные песни. Живые. Ни одной лишней ноты.
Версия этого текста когда-то публиковалась в газете "Алфавит".
Как это будет пароски?
"Пьяный корабль", Кордуэйнер Смит
 Вот все нам рассказывают о поэтичности Кордуэйнера Смита, но это просто литература (а фантастики столько лет тщатся доказать принадлежность своих излюбленных субжанров к большой литературе — с УДЛП, — что поневоле заподозришь их в том, что они сами в это не верят: вот и тут тот же случай), потому что поэзия — в самом охвате будущей истории, от 1900 до примерно 16 000 года (хоть и отрывочно). Человечество, конечно, столько не проживет, поэтому его сказания из будущего давно прошедшего времени, которого все равно не будет, и трогают нас так сильно, потому они так и пронзительны, среди прочего. Это легенды несбывшихся времен.
Вот все нам рассказывают о поэтичности Кордуэйнера Смита, но это просто литература (а фантастики столько лет тщатся доказать принадлежность своих излюбленных субжанров к большой литературе — с УДЛП, — что поневоле заподозришь их в том, что они сами в это не верят: вот и тут тот же случай), потому что поэзия — в самом охвате будущей истории, от 1900 до примерно 16 000 года (хоть и отрывочно). Человечество, конечно, столько не проживет, поэтому его сказания из будущего давно прошедшего времени, которого все равно не будет, и трогают нас так сильно, потому они так и пронзительны, среди прочего. Это легенды несбывшихся времен.
«Научной фантастикой» звать это довольно затруднительно еще и потому, что если это и фантастика, то она скорее социально психологическая (что там «научного», убейте меня не понимаю). КС подробно (хоть, опять же, и отрывочно) пытается спроектировать, что будет происходить с человечеством и нашим биологическим видом, проживи оно (он) и впрямь так долго, что у него отомрет, например, не только возможность религии, но и потребность в ней (при этом оставаясь человеком, судя по всему, верующим и возвращаясь к религиозным притчам и сюжетам). Фантастика у него, пожалуй, лишь в набросках различных форм эволюции человека — от вполне наглядных и графичных до непредставимых вообще, а остальное (эти планоформы, космосы в кубе и прочее) — шелуха, на которую так любят обращать внимания критики. Вишенками на тортиках повсюду разбросаны отсылки к мировой литературе и фокусы с разными языками, чтобы читателям занимательнее было играть в простые угадайки.
Для меня гораздо любопытнее было разглядывать — по крайней мере, в этой части эпоса — антиутопию похлеще, чем у Замятина, Оруэлла и Хаксли. Недаром все же специалист по ведению психологической войны ездил в совсоюз. Инструментальность (или как ее там) — кошмар с человеческим лицом: в нем все для людей, это режим не людоедский (в отличие от, допустим, третьего райха или советского гулага), он не против индивидуального человека (даже не сильно против недолюдей). В нем все для счастья человека, лишь бы не было войны. В частности, одна основа идеального будущего вот: «Никаких массовых коммуникаций, только в рамках правительства. Новости порождают мнения, мнения — причина массовых заблуждений, заблуждение — источник войны». Или 12 правило «бытия человеком»: «Любые мужчина или женщина, обнаруживающие, что он или она формируют или разделяют неавторизованное мнение с большим количеством других людей, обязаны незамедлительно доложить об этом ближайшему подначальнику и явиться на лечение». Шутки шутками, но посмотрите вокруг, ага. "Период террора и добродетели".
(А шутки у него особенно про шпионов и военспецов хорошо получаются. И "Херберт Хувер Тимофеев", конечно, смешно само по себе, но за "Постсоветских православных восточных квакеров" Смиту в Сибири надо вообще памятник где-нибудь поставить.)
КС не идиот-оптимист и прекрасно отдает себе отчет, что для преодоления тоталитарной Инструментальности даже в такой «мягкой» или «благотворной» форме понадобится не одно тысячелетие. За десяток, даже за несколько десятков или сотен лет перевороты в людских мозгах не совершаются. Поэтому-то он и увеличивает среднюю продолжительность жизни людей — за нынешнюю сколько-то поумнеть ни отдельному человеку, ни всему человечеству невозможно. А мы продолжаем наблюдения за окружающей нас Инструментальностью.
Необходимый дисклеймер: по-русски Смита толком не издавали, с переводами ему, насколько можно судить, не повезло, но вам ничего не помешает разобраться и полюбить его.
Опасная философия
«Две смерти Сократа», Игнасио Гарсиа-Валиньо

Нити судьбы сплетают вещие мойры,
смертные над нею не властны,
и не властны над нею боги.
— Калин Эфесский
В «Милезии», модном публичном доме Афин обнаружен труп влиятельного политика Анита — одного из главных обвинителей философа Сократа, чьи идеи, как принято считать, подрывали сами основы государства. Подозреваемых несколько — скандальный комедиограф Аристофан, врач Диодор, сын покойного Антемион и гетера Необула. У всех — веские причины желать смерти политика. Но кто бы ни совершил это деяние, в проигрыше окажется хозяйка «Милезии» Аспазия, а этого ее друг софист Продик допустить не может — и потому берется за расследование, которое столкнет его с кровавой изнанкой политической жизни Афин.
Идеи могут убивать. Это, пожалуй, одно из самых распространенных и опасных заблуждений человечества упорно живет в веках и приносит свои кровавые плоды до сих пор. Отразившись в кривых зеркалах массовых аберраций, представление это действительно несло смерть — нет, даже не «невинным жертвам» социальных и политических поветрий (их убивали, как правило, им подобные, вооруженные дубинами или автоматами), но самим носителям идей. За идеи шли на крест, на костер, на виселицу, в подземелья. Никому не приходило в голову, что «для совращения нации нужно желание совращаемого» (Н. Караев). Толпа не способна критически смотреть на себя. Толпа не способна признать право отдельного человека сомневаться и задавать неудобные вопросы. Не говоря уже о пользе подобного занятия.
Одним из первых классических и зафиксированных в истории случаев смерти автора за свою идею был и случай Сократа: его обвинили в «поклонении новым божествам» и «совращении молодежи» и заставили выпить яд. Афинскую демократию, в разумном устройстве которой Сократ сильно сомневался, эта смерть, как мы видим, не спасла: она и так уже дышала на ладан. По сути, греческий мудрец погиб за право разговаривать с людьми. За длинный язык, стало быть.
Сократа память человечества канонизировала, и даже идеи его дошли до нас — в пересказе учеников. Но смерть не дает покоя до сих пор, и вот вам еще одна версия — испанца Игнасио Гарсия-Валиньо. Достаточно спекулятивная — да и как иначе двадцать шесть веков спустя, — но крайне занимательная. Ведь и впрямь — раз были ученики, неужто не пытались спасти учителя? Гарсия-Валинью воспользовался своим правом задавать вопросы, за которое его герой когда-то выпил цикуту.
О тарантулах и тарантулидах вкратце
"Тарантул", Боб Дилан
 «И тарантул, ехидна, гадюка тоже не
меняются...»
«И тарантул, ехидна, гадюка тоже не
меняются...»
(Томас Вулф)
«Как же тоскливо становится писать для этих немногих избранных...» — решил однажды Глупоглаз. И написал нечто. О том, что получилось, спорили очень долго. Поток сознания? Механика автоматического письма? Черный юмор? Проза абсурда? Или поэзия? Сатира? Но на что?.. Это что угодно, только не «роман», как заявлено о жанре произведения на обложке довольно скромного макмиллановского издания 1971 года, — именно тогда это было опубликовано, хотя написано было за пять лет до того, как.
...Стихи, фразы, мысли, междометия, письма, сочиненные странными людьми странным людям по не менее странным поводам... А имена? Ужас... Жуткий трущобный жаргон... И язык какой-то корявый... Создавалось впечатление, что автор — «поэт-лауреат молодой Америки», по выражению газеты «Нью-Йорк Таймс» — разучился грамоте и начисто забыл, что на свете существует такая прекрасная вещь, как запятые, заменив их везде торопливо захлебывающимся союзом «и»... И вообще...
Но. Подумав немного, разобравшись в лихорадочных нагромождениях причастий, деепричастий, повторов и уже упомянутых «и», начинаешь догадываться, что, наверное, нелепые истории, то и дело приключающиеся с целым калейдоскопом персонажей, которые носят «говорящие» имена, не так уж и глупы... Что где-то, вроде, даже есть какой-то смысл. Или что-то типа смысла... Что это самое «и» не только не мешает восприятию, но наоборот, непостижимым образом убеждает в обнаженной и напряженной искренности того, кто все это записывал... Что все это вполне вписывается в контекст общего литературного процесса, а именно — в ту главу учебника по истории зарубежной литературы, где говорится про «модернизм» (а туда, кажется, вообще все можно вписать), и где оный не только не очень охаивается, как было принято как бы раньше, а, напротив, весьма подробно описывается, определяется, вгоняется во всяческие рамки — безо всякой видимой пользы как для него самого, так и для нас, — спасибо, хоть признается его относительная ценность для мировой литературы (как известно, самой прогрессивной мировой литературы в мире)... И что также, может быть, всё это — попросту говоря, один тотальный стёб, добродушный оттяг молодого, талантливого и уже вкусившего славы человека...
И вот, сделав все эти потрясающие
воображение маленькие открытия, поневоле начинаешь от души радоваться за автора:
какой он-де хороший, милый, умный, сообразительный и проч., и как это я его
хорошо от нападок закосневшей в своем невежестве критики защитил...
Но... Опять возникает это проклятое «но» и упрямо ворочается где-то в районе затылка. А нуждается ли сам автор в подобном адвокате? не похожа ли вся моя искусно выстроенная защита на пресловутый героический таран новых ворот? Ведь все это какими-то местами похоже и на истории Матушки Гусыни, без которых ни один англоговорящий ребенок никогда не уснет вечером, и на лимерики Эдварда Лира, «бессмертного английского сюрреалиста, коим создан косолапый Мопсикон-Флопсикон» (Энгус Уилсон), и на логику кэрролловского Старика, Сидящего На Столбе, и на целый зоопарк героев Джона Леннона. Ведь люди, подобные выводку персонажей Боба Дилана, перекочевавших сюда из его же песен, еще водятся на земле, хотя со времен викторианских чудаков встречаются все реже и реже. Ведь и «ненаказанное трепло», и «гомер-потаскуха», и «Дружелюбный Пират Рохля», и «принц гамлет своей гексаграммы», и..., и..., и... — это всё «в действительности один и тот же человек» — «всего лишь гитарист», «который хотел бы совершить что-нибудь существенное, типа, может, посадить в океане дерево...» Ведь радикализм и романтизм в ту пору еще «молодого» американца очевидны и не требуют никаких пояснений — как и его песни, известные всему миру... Ведь всё это похоже на рот, нарисованный на электролампочке — «чтоб она могла свободнее смеяться».
...Итак, я вас предупредил. Оно — то, что есть. Не более и не менее. Или каким должно было стать. Можете, конечно, называть это «романом» — так привычнее. Или «незаписанными пластинками» — так круче. Или «не очень чистым потоком сознания» — так умнее. Или «бредом торчка» — так спокойнее. Некоторые сокрушенно покрутят головой: всё Запад, мол, 3апад... Некоторые всё простят гению: они к этому готовы. Некоторым между строк откроется нечто за пределами всякого выражения — пусть их...
Не забывайте только, что «мы можем учиться друг у друга», на самом деле. И еще: «дело не в том, что не существует Воспринимающего для чего угодно написанного или представленного от первого лица — дело в том, что просто Второго лица не существует»...
Ну, а теперь — удачи вам. Может быть, у вас хватит терпения на то, что называется «Тарантулом».
Разговоры о Циммермане
"Хроники. Том I", Боб Дилан

«Аттила и Его Гунны» старались причинить сильный телесный ущерб «Сенату и Народу Рима»… Обе группы сидели на спидах и теперь завели весьма интеллектуальную дискуссию касаемо смысла некоего текста песни Дилана…»
— Роберт Энтон Уилсон, Роберт Ши. Иллюминатус! 1975, стр. 578
Времена поменялись. Больше никто никому не причиняет телесного ущерба из-за своеобразно понятых строчек. Слова вообще перестали иметь значение в наш век всеобщей грамотности. Значения, собственно, они тоже перестали иметь. Все поломалось. Но странная штука: закрылся гештальт — Боб Дилан приехал в Россию, — и вот опять… утром, лежа на диване, говорим о Циммермане.
Да еще как говорим. Стенающие страдальцы: «…сет-лист выглядел так, будто маэстро вообще не в курсе, где он выступает и перед кем. Или ему искренне и глубоко наплевать…», — видимо, уже никогда не поймут собственной глупости и нелепости. Страна, до сих пор рождающая столь быстрых разумом Невтонов, можно сказать, безнадежна: даже программа «Ворд» предлагает мне заменить фамилию «Дилан» на предсказуемый «диван» или какого-то неочевидного «Билана» (я еще понимаю — мебель, но откуда куску железа знать про «Евровидение»?). Знал бы Дилан, что приехал к тем, кто считает себя вправе чего-то от него требовать, мы бы ждали его приезда до подъема мацы… Но, к счастью для нас, — и в этом парадокс — Дилан знает, что все мы ничем не лучше критика российской премьер-газеты. Дилан все это видел не раз. А мы его таки дождались. Думали — не доживем. Многие и не дожили.
Чего там действительно разговаривать? Питерское радио не так уж далеко от истины. У нас просто не хватит жизненного опыта говорить о Бобе Дилане. Потому что говорить о нем — это рассказывать о себе. В отличие от других культовых фигур, таких разговоров, в общем, не очень заслуживающих (сколько фигур этих было и еще будет?), Дилана можно лишь пропускать через себя, через свою биографию. Говорить только о себе на фоне Дилана. Интересно может получиться. Родился, например, когда он записал уже вторую пластинку — «The Freewheelin' Bob Dylan». В школу пошел — это «Self Portrait». Поступил в университет и расстался с комсомолом в год Московской олимпиады, а у него вышел «Saved». Начал более-менее самостоятельную жизнь — это уже «Empire Burlesque». Офигеть, да? Мы тут жили, а он там — был. Был и есть всегда — так уж нам повезло, если вдуматься. Жить параллельно Дилану. От этого осознания временами становилось как-то легче. Все менялось, а он оставался. Был, есть и никуда не денется. Каково при этом постоянстве было ему самому — см. «Хроники, том I». Нам же только сейчас приходит в голову оглянуться — бли-ин, а ведь не так много времени прошло. Ну плюс-минус полвека, подумаешь… Кто разбирается в таких знаках, тот поймет.
Что он вообще сделал, этот ваш Шабтай Цизель Бен Аврахам, потомок литовско-одесско-турецких евреев с берегов озера Верхнее? Поменял метафору рока, парадигму поэзии и творчества вообще, заставил иначе воспринимать звучащее слово? Вообще любое слово? Раскрасил мир иными красками? Создал Вселенную? Всего-то?
"Ты меня на борт возьми в волхвов круговорот
С меня все страсти рвет, курок под пальцем врет
А оттиск стоп истерт, лишь башмаки мои
Подвластны странствиям
Но я готов идти, исчезнуть тоже я готов
Средь пирровых пиров, зачаруй меня — и словно
Кану в этом танце я
Хоть услышишь: смех кружит безумным солнцем у виска
Его цель невелика, ведь он ударился в бега
Ну а кроме неба — никаких заборов
А если смутный гомон рифм почуешь за собой
То под тамбурина бой клоун драный и худой —
Не морочься ерундой — он догонит эту тень
Еще не скоро"
Это сейчас критик Андрей Бурлака может говорить, что «весь русский рок вырос практически из восхищения перед Бобом Диланом». А ведь страшно себе представить, что было в головах соотечественников, когда он только запел… «Что такое "гутнэнни"? — начинается энциклопедическое послесловие к сборнику «Гитары в бою: песни американских народных певцов» в переводе С. Болотина и Т. Сикорской под редакцией М. Зенкевича, издательство «Прогресс», 1968 год (к этому времени, как мы помним, уже вышла половина классических альбомов Дилана, а советские танки ездили где ни попадя), тираж не указан, ц. 52 коп., — этого слова еще нет в словарях, но в Америке сегодня оно уже получило широкую известность... Боб Дилан — один из самых талантливых народных певцов, создавший много боевых песен протеста. Лучшие из них — "На крыльях ветра" и "Хэтти Кэролл"».
Года летят, у Дилана выходит «Desire», а у нас идет концерт… Еще один прекрасный артефакт ушедшей эпохи — сборник издательства «Молодая гвардия» из серии «Тебе в дорогу, романтик». Называется «Голоса Америки: из народного творчества США (баллады, легенды, сказки, притчи, песни, стихи)». Составители Л. Переверзев, Ю. Хазанов, научная редакция Т. Голенпольского. 1976 год, тираж 150 000, ц. 88 коп. Там в предисловии некто Сергей Лосев рассказывает невыездным (по малолетству, не иначе) будущим русским рокерам, как «за годы пребывания в США мне не раз случалось быть очевидцем необычайного воздействия песен протеста на американскую молодежь... когда перед полумиллионным людским наводнением вместе с Мартином Лютером Кингом и доктором Споком выступали Пит Сигер и другие народные певцы, неся в народ всеуничтожающий заряд ненависти к несправедливости и попыткам подавить там народно-освободительное движение». Дальше тоже много чудес, но нас, понятно, интересует Дилан. Бедную «Хэтти Кэрролл» в это издание не взяли (видимо, недостаточно укрепляла дружбу народов, которая постулировалась в издательской аннотации), но «На крыльях ветра» присутствует, куда ж без них лететь. Она дополнена текстом «Времена-то меняются» (это та, где бессмысленное и беспощадное «Люди, сходитесь, куда б ни брели», — многие помнят) в примерном изложении А. Буравского:
"Мы сделали выбор,
Никто не тужит.
А тот, кто плетется,
Потом побежит.
И в прошлое канет
Теперешний год.
Весь строй расползается!
Кто первый сегодня, последним пойдет.
Времена-то меняются!"
Самое умопомрачительное, конечно, — музыковедческий анализ безымянного автора. Смиритесь с длинной цитатой — у нас эпоха на фоне портрета или как?
«Подъем борьбы за гражданские права, активные выступления молодежи и движение американских женщин за подлинное равенство с мужчинами требовали новых форм эмоционального выражения в искусстве. Эти формы были различны. В музыке такая форма была найдена готовой — ею оказался ритм-энд-блюз. Этот вокально-инструментальный жанр городской негритянской музыки представлял собой эволюцию традиционного блюза, который исполнялся теперь в сопровождении небольшого ансамбля, где главными инструментами были электрогитара и саксофон. К середине 50-х годов ритм-энд-блюз начали исполнять многие белые певцы и ансамбли. Тогда же белый вариант ритм-энд-блюза стали именовать "биг-бит" (буквально "большой удар") или "рок-н-ролл". Первые триумфы рок-музыки отличались исключительно бурным, даже скандальным характером. С художественной точки зрения ранний рок-н-ролл был крайне примитивен. Его ошеломляющий успех объяснялся не столько эстетическими, сколько социально-психологическими причинами. Соучастие в своеобразном музыкальном ритуале явилось разрядкой того невыносимого напряжения, которое скопилось в миллионах мальчишек и девчонок, выраставших в тени атомной бомбы, "холодной войны" и всеобщей подозрительности...»
Ну и так далее. Плавно переходим к объекту наших изысканий. Жизнь Дилана теперь предстает куда более красочной и увлекательной, чем в 68-м. Представьте, что в альтернативной реальности они так и живут. И Боб Дилан стал нам заместо Дина Рида.
«Слова, однако, играли важную роль в песнях Боба Дилана. В детстве Боб (его настоящее имя и фамилия Роберт Циммерман) жил со своими родителями, среднеобеспеченными людьми без особых запросов, в захолустном шахтерском городке Хиббинг, штат Миннесота. Больше всего он любил поэзию; случайная встреча со старым негром, уличным певцом, дала ему первые уроки игры на гитаре и во многом предопределила его будущую судьбу. С этого момента он стал не только декламировать, но и распевать свои стихи, написанные в подражание валлийскому поэту Дилану Томасу, чье имя он впоследствии избрал своим артистическим псевдонимом. [Заметим в скобках, что этот живучий миф — о происхождении «Дилана» — потом развенчивался неоднократно и будет развенчан еще; как и, например, легенда о том, что на Ньюпортском фолк-фестивале в 1965 г. Дилана освистали за то, что переключился на электричество. — М.Н.] Имя Боба Дилана в 60-е годы было неотделимо от студенческих митингов и дискуссий о социальных реформах, от маршей свободы в защиту прав меньшинств, от массовых демонстраций с требованием мира в Юго-Восточной Азии. В 1963 году всеобщую известность получает песня Дилана "На крыльях ветра", призывающая не закрывать глаза на то, что творится вокруг. Не ограничиваясь обращением к одному только чувству сострадания, он прямо указывал на источник бедствия миллионов в песне "Мастера войны", а в песне "Времена-то меняются" Боб Дилан бросал открытый вызов благополучной Америке. Вместе с тем, в долгоиграющей пластинке "Другая сторона Боба Дилана" он предстает тонким мастером психологического анализа, исследующим сокровенные тайники души. В середине 60-х годов своими выступлениями в составе инструментального ансамбля он закладывает новое направление в американской молодежной музыке — так называемый фолк-рок. Это направление было продолжено в Англии группой "Битлз". На первых порах она ориентировалась преимущественно на негритянских народных исполнителей стиля ритм-энд-блюз...»
Вот так вот мы росли на нем — росли и выросли на своих задворках «империи бурлеска». Слушали-то его не то чтобы запоем — так, припадали временами, отпивали по глотку. Он не был здесь культурообразующей величиной, как в остальном мире середины прошлого века, — и мешал не только языковой барьер. Скорее метафорический — ну и общекультурный. Если дилановеды 40 лет не могут расшифровать некоторые песни из тех, что познаменитее, да и доныне спорят, какие строчки Дилан слямзил у Генри Тимрода или Овидия, что говорить о тогдашних школьниках, которые владели английским «в рамках программы» и слыхом не слыхали об Элиоте. Нельзя сказать, что на Дилана медитировали так же, как на музыку группы «Pink Floyd». Голос противный, хором не очень споешь, и девчонкам не нравится. Он даже не был простым и доступным жизнерадостным дебилом из Ливерпуля. Дилан был умный — иногда чересчур. Наверное, первый человек с гитарой, который не стеснялся этот свой ум показывать. И потом его место в самом деле так тщился занять один ленинградский прикладной математик — только этот заимствовал как-то неумело и неизящно. Да и «дважды нельзя в ту же самую реку — можно тысячу раз мордой об лед». Прав музыкальный критик Бурлака — на том и стоим, голубые воришки.
"А в ларьках и на вокзалах
Людям разговоров мало —
Малюют стены мелом
Твердят, что на устах у всех
О будущем лепечут
Любовь моя неслышно шепчет:
Любой провал успеха крепче
А провал — так он и вовсе не успех"
Что изменилось, спрашивается? Помните, что сказал его альтер-эго Джек Фейт в фильме Лэрри Чарлза «Masked and Anonymous»: «Все раздал сукиным сынам, которые даже принять ничего не смогли». Дилан — он же, согласно замаскированной и анонимной концепции фильма, Сергей Петров — ведь не зря сочинил этот фильм, где трагедия настолько растворена в самоиронии, что прокатчики зовут его комедией. Переизобретая себя в десятитысячный раз, Боб Дилан не может не понимать, что натворил. Он ведь для миллионов уже не просто человек — он как сила природы. Стихия. Общественный институт в одном лице. О нем опубликованы сотни томов описательной аналитики, и наука диланология перестала восприниматься в ироническом ключе — теперь это достаточно академическая область прикладной культурологии и литературоведения. Еще во времена «Infidels» я выписывал в университетскую библиотеку по МБА — это «межбиблиотечный абонемент», мои маленькие деловые читатели, а не «магистратура бизнес-администрирования» — редкие книжки, оказавшиеся в России, и конспектировал их истово в читальном зале, толковал, как записной талмудист… И где они теперь, эти конспекты?
Магнетизм Дилана, наверное, пёр из самого факта его существования. Дилана же можно и не слушать — отрадно помнить, что он просто где-то есть. Ведь того, кто создал Вселенную, думаете, просто нельзя по имени называть — и только? Да нет, это всего-навсего стилистически избыточно, правило хорошего тона, закрепленное веками. К чему трепать имя, если каждый и так его знает. И вся история Роберта Аллена Циммермана — пожалуй, вполне ветхозаветная история вечного преодоления порогов: старался доказать что-то себе и миру, задирал планку, шагал дальше и выше, пробовал все смелее, старался выжить и сохранить себя, заново отращивал крылья и панцирь… Очень еврейская, если вдуматься. Очень человеческая. Подчеркнуто межконфессионный, сам себе религия, Дилан и в новом тысячелетии в очередной раз переступил черту, ушел за грань нового мифа — а мы до сих пор жалуемся и плачем, что история больше не творится у нас на глазах. Вот же она — история. Бобу Дилану всего 67 [на момент написания этого текста; сейчас, понятно, всего 74]. Хотя, как сказал в том же фильме невезучий культуртрегер Дядюшка Дорогуша: «Он может ничего уже и не делать. Он легенда. Иисус тоже дважды по водам не ходил, чтобы до всех дошло».
Это давний уважаемый спорт политических и религиозных движений — притягивать к себе Дилана, связывать его с христианством, сионизмом, «Лигой защиты евреев» или движением «Хабад Любавич». А вы прислушайтесь опять к Джеку Фейту:
«Я всегда был певцом — может, и только. Иногда недостаточно понимать, что слова означают, иногда мы должны еще знать, чего они не значат. Вроде как: что значит не знать, на что способен человек, которого любишь. Все распадается — особенно весь этот аккуратный порядок правил и законов. Наш взгляд на мир — он и есть то, что мы есть. Посмотрите на этот мир из красивого садика — и все покажется веселеньким. А заберитесь повыше — и вам откроются грабеж и убийство. Истина и красота — в глазу смотрящего. Я давно уже бросил пытаться все вычислить».
Он просто творит свою непостижимую вселенную, как делал это много лет. Мы можем сходить туда в гости, даже вписаться в нее — или не вписаться, как, по большей части, и происходит. В «Masked and Anonymous» Пенелопе Крус все объяснила Папе Римскому и Махатме Ганди: «Обожаю его песни, потому что они не точные. Они совершенно открыты для толкований». Как лучшие книги, написанные людьми и богами. Как и вся наша непостижимая вселенная.
И вот мы дожили до концерта на питерском катке. На гитаре Дилан уже не играет — видимо, совсем не с руки. Берет какие-то основные аккорды на клавишных, поет, по всей видимости, басисту и барабанщику лично. Все его сценическое шоу — пару раз повести плечами да ухмыльнуться, словно какой-то Дуремар из луизианских болот. Болотным духом веяло порой и от звука, на который его когда-то подсадил не иначе как Даниэль Лануа. Группа звучала либо так, влажно и тягуче, либо сухо, по-техасски — но все равно в этом был южный блюз-рок. Грамотная публика, выходя с катка, критически замечала, что «Дилан все переаранжировал». Какая ерунда! Дилан вообще ни один концерт не играет и уж тем паче не поет так же, как предыдущий, — это все издавна знают. Потому что каждый концерт для него — по-прежнему отдельный акт творения.
"— Ты понимаешь, о чем эта песня?
— Ну да. Про то, как попасть на небо.
— Нет, она вовсе не о том… Она про то, как творить добро, манипулируя силами зла…"
На сцене рубился оживший архетип — чуть ли не «Братья Блюз», мне даже в какой-то момент помстилось, что за дублирующими клавишными стоит Элвуд. И сидел Боб Дилан — в этом своем мундирчике и «стетсоне». Подчеркнуто не обращал на нас внимания. Я бы — честно — испугался, если б обратил. Ну о чем с нами разговаривать, ей-богу? Наверное, он вообще последний раз общался с публикой в начале 60-х в фолк-кафе Гринич-Виллидж, еще до того, как «электрифицировался», — вот тогда это действительно было нужно. А в середине 60-х Глупоглаз решил: «Как же тоскливо становится писать для этих немногих избранных», — и продолжал создавать свою версию вселенной, параллельно которой мы с тех пор существуем. И временами жалеем, что нельзя просто раствориться в этих звуках и остаться там навсегда. В этом мифе, по сути. В этой Вселенной, собранной из таких вот звуков и запахов, из всякого сора, из ряски и пыли, что до сих пор висит на перекрестке, где Роберт Джонсон продал душу дьяволу.
Так чего возмущаться, что нам дали поприсутствовать на репетиции творца? Этому радоваться нужно, а не разговоры городить. Он же вам сам все сказал:
"All my loyal and my much-loved companions
They approve of me and share my code
I practice a faith that's been long abandoned
Ain't no altars on this long and lonesome road"
И никаких разговоров — в жизни Дилана их уже было предостаточно. Переслушайте «Modern Times», пересмотрите «В маске и безымянный». Что непонятно? Там все есть — открытым текстом. Каково быть странником в странной стране. Каково пережить не один собственный культ и остаться живым в нынешние бескультурные времена. Каково стать мифом и выжить, чтобы об этом рассказать. И как неимоверно тяжко не поддаваться искушениям, не стать кумиром, избежать ярлыков, какими бы те ни были — «голос поколения», «борец за идею», «великий артист» или «господь бог». «Большой Брат Бунта, Верховный Жрец Протеста, Царь Диссидентов, Герцог Непослушания, Лидер Халявщиков, Кайзер Отступничества, Архиепископ Анархии, Шишка Тупости»… Конец 60-х, да?
"Джоан Баэз написала обо мне песню протеста, которую теперь повсюду крутили, бросая мне вызов: выходи и бери все в свои руки, веди массы — становись на нашу сторону, возглавь крестовый поход. Из радиоприемника песня вызывала меня, будто какого-нибудь электрика или слесаря. Пресса не отступала. Время от времени приходилось идти у них на поводу и сдаваться на интервью, чтобы они не выламывали мне дверь. Вопросы обычно начинались с чего-нибудь вроде:
— Можно подробнее поговорить о том, что происходит?
— Конечно. Что, например?
Журналисты обстреливали меня вопросами, и я им постоянно отвечал, что не выступаю от лица чего-то или кого-то, я просто музыкант. Они смотрели мне в глаза, словно ища в них следы бурбона и пригоршней амфетаминов. Понятия не имею, о чем они думали. А потом все улицы пестрели заголовками «Представитель отрицает, что он представитель». Я чувствовал себя куском мяса, который кто-то выкинул на поживу псам. «Нью-Йорк Таймз» печатала дурацкие интерпретации моих песен. Журнал «Эсквайр» поместил на обложку четырехликого монстра: мое лицо вместе с лицами Малколма Икса, Кеннеди и Кастро. Что это, к чертовой матери, вообще значит?"
И так далее, до бесконечности, до тошноты… «Представитель отрицает, что он представитель». Так вот, у меня для вас новость. На питерском катке Боб Дилан не поддался вам еще раз.
А мы, неблагодарные, все плачем, что нет чуда. Его и впрямь вокруг осталось маловато. Но посмотрите на Дилана — вот где «и творчество, и чудотворство», вот где подлинная магия. Прислушайтесь к голосу — как он, «категорически авокальный», до сих пор звучит так многослойно и богато, с такими насмешкой, тоской, мудростью, болью. И насколько, если вдуматься, просто и вечно то, что этот голос нам говорит.
И как же все-таки нам повезло, что Дилан по-прежнему ходит по своему мистическому саду, как постаревший «мессия поневоле». Ходит и не разговаривает.
Лелея в кармане Жанпольсартра
Наш маленький научно-философский концерт с выходами
Во всем, как известно, нужны не только умеренность и аккуратность, но системный подход. Этому нас научили философы. Поэтому перед грядущей неделей мы не могли не предъявить вашему слуху наш маленький научно-философский концерт:
Все это потому, что отмечать мы будем дни рождения четырех не самых очевидных философов: 18 мая родился Бертран Расселл, 19-го — Йоханн Готтлиб Фихте и Джулиус Эвола, а 20-го — Джон Стюарт Милл. Если кому-то не хватает основ мировоззрения, можно смело обращаться к их творчеству — или посмотреть увлекательные сериалы-лектории «Школы жизни»: первый и второй. Там вам покажут такие вот, например, мультики:
Философы, наши дорогие радиослушатели, выглядят вот так:
И, если уж речь зашла о Сартре, на память приходит, конечно, бессмертное из заголовка:
Но ошибкой будет думать, что философия привлекает только загадочную русскую душу.
Загадочную австралийскую душу она издавна привлекает ничуть не меньше:
(Футболистов, впрочем, тоже:)
Причины увлечься философией могут быть разные:
Вообще вся история западной философии очень тянет к себе композиторов, поэтов и певцов.
Во всей ее полноте, заметим, включая очень тонкие оттенки:
Например, греческая:
Потому что, как русские изобрели депрессию, так и греки в свое время изобрели мышление:
И преуспели в этом настолько, что под них даже можно танцевать:
Но особенно, конечно, к себе привлекает немецкая философия, в частности — Кант:
Кому он не дается так, можно попробовать погорячей:
Или постичь Канта в сопоставлении с Юмом:
А уже потом перейти к чтению собрания сочинений:
И, впитав, сочинить мозгом что-нибудь свое:
Или, как водится, заняться добычей философского камня:
Впрочем, Кант не обязателен. Это может быть Жан-Жак Руссо (носивший жабо и игравший в серсо, как известно):
Что не отменяет серьезного подхода к его философскому наследию:
Впрочем, философии может быть слишком много:
Ну потому что нищета же, в натуре:
Да и поздно философствовать, чего уж там:
Можно вместо этого перейти к математике — которая тоже, правда, в известном смысле философия:
Или к метафизике. Малаяламской:
А то и прямо к Сведенборгу:
Чтобы затем только вновь вернуться к философии:
Потому что иметь что-то в голове (а не на руках) – это же вообще прекрасно:
Где бы мы были без философии сегодня? По-прежнему рифмовались бы с австралопитеками (помните Австралию?):
На этом мы заканчивает пару часов жесткого бескомпромиссного философствования, хотя продолжать можно еще очень долго. Приятного осмысления реальности, ждем вас в нашем буквенном эфире снова.
Ничего личного
"Сэлинджер", Дэвид Шилдз, Шейн Салерно
Если и писать биографии (особенно таких авторов, которые по-прежнему своими текстами нажимают на наши разнообразные нервы), то, видимо, примерно так - составляя калейдоскопическую картинку из множества разных голосов, стараясь избегать толкований и однозначных выводов (они все равно будут скоропалительными и недостаточно информированными). Такой с самого начала, видимо, и лучше было б быть биографии Сэлинджера (а не то, что мы имели; и она, конечно, не отменяет необходимости его читать). На 3/4 авторы подошли к этому больному зубу с тактом и чувством меры, и да - кто вел себя мудацки, тот и выглядит мудаком, кто был нормальным человеком, и рассказывает о Сэлинджере как нормальный человек. Сам наш рассматриваемый автор в какой-то момент писал, что не считает ничего зазорного в том, что читатели интересуются жизнью писателя - в этом-де "нет ничего личного". Ну, потому что это действительно может оказаться важно для понимания того, что писатель нам хотел сказать (если такова действительно наша цель - понять это). Главное - и это труднее всего - постараться и никого при составлении (и чтении) биографии не судить. Можно рассуждать об общих вопросах (этических, житейских, любых), какие ставит перед нами предложенная информация. но не более того. И авторам это по большей части удалось везде - за исключением примерно последней четверти и заключения (которое, я подозреваю, - и только его - и прочли газетные рецензенты всего мира). Потому что под конец авторы начинают считать Сэлинджера раз и навсегда заданной сущностью, которая за всю свою долгую жизнь ни разу не изменилась (упрекают его в противоречиях, ставят на вид, что он поменял точку зрения, и пр.). Это несколько портит впечатление. Мы, читатели, повторю, судить его (или кого бы то ни было, если нас при этом не было) не вправе вообще ни за что. Мы можем только принимать те или иные данные к сведению. И помнить в данном случае, что все, что Сэлинджер хотел нам сообщить о себе, он сообщил в своих текстах - там можно найти ответы на все эти "почему" да "как". В чем лично я, прочтя эту книжку, убедился. Чего и всем желаю.
Что у них под брусчаткой
"Внутренний порок", Томас Пинчон
«Под брусчаткой, пляж!» С такого лозунга контркультурной революции начинается последний (ко времени издания на русском языке вот этой книги, что вы сейчас держите в руках) роман великого американского затворника Томаса Рагглза Пинчона-младшего (р. 1937), автора восьми романов, горсти рассказов, нескольких статей и примерно такого же количества предисловий к чужим работам, включая музыкальные альбомы. Это, как легко заметить, не очень много для более чем полувековой писательской карьеры. Примерно столько же времени этот человек не появляется на публике и не дает интервью, а некоторые утверждают, что его вообще не существует. Однако это, наверное, досужие разговоры. Под брусчаткой — пляж.
Пинчона считают одним из полудюжины поистине великих американских писателей современности, постмодернистом, «черным юмористом» (впрочем, это определение советской критики не прижилось), а для его романов придумывали разные ярлыки, включая «истерический реализм» и «историографическая металитература». Кроме того, его иногда называют «предтечей киберпанка» (видимо, на основании того, что в студенчестве он в соавторстве с приятелем, будущим антиглобалистом и неолуддитом Киркпатриком Сейлом написал научно-фантастическую оперетту о мире, в котором правит «Ай-би-эм») и «сочинителем гипертекстов». Все эти ярлыки, впрочем, сами по себе не очень интересны. Интересно другое: этот человек, практически полностью устранившись от суеты светской жизни планеты, вызвал к жизни один из самых прочных, умных и разнообразных литературных культов современности.
Трудно представить себе более американского писателя. Родился он перед Второй мировой войной в самом сердце Новой Англии — на острове Лонг-Айленд, это чуть правее Нью-Йорка если посмотреть сверху. Его предок Уильям, английский колонист, богоборец и меховщик, не только основал немаленький город в Массачусеттсе, но и написал первую книгу, запрещенную в Новом Свете. Сам Пинчон учился в Корнелле — одном из главных университетов «Лиги плюща». Сначала изучал прикладную физику, потом служил на военном флоте, а затем вернулся в тот же университет, но уже на английскую филологию. Говорят, ходил на лекции к Набокову, хотя исследователи спорят об этом факте уже не один десяток лет. Никаких письменных свидетельств об этом не осталось, и знакомство двух великих писателей — такой же предмет для спекуляций, как большинство других фактов частной жизни Пинчона. Бесспорно одно: в студенческие годы (а они заняли практически все 1950-е) Пинчон действительно дружил как минимум с двумя яркими и магнетическими личностями — музыкантом Ричардом Фариньей и будущим экологом Дейвидом Шецлином. Оба написали немного: Фаринья — роман «Если очень долго падать, можно выбраться наверх» (1966), Шецлин — «ДеФорд» (1968) и «Хеклтус 3» (1969). Они не очень легки для чтения и стали, что называется, «культовыми». Видимо, нелюбовь к упрощенным ответам на сложные вопросы (и тяга к раскрепощению пунктуации) прививалась самим учебным заведением.
Однако Пинчон пошел дальше своих друзей. Все остальное с ним происходило уже в 60-х, и это десятилетие оставило четкий отпечаток на сознании писателя — даже если судить только по его книгам. Собственно, ни по чему иному судить не получится — по крайней мере до тех пор, пока не вскроют архивы, и будем надеяться, что это произойдет еще не скоро (посмотрите, какие пляски на могиле другого затворника, Дж. Д. Сэлинджера, устроили нежно любящие его трупоеды). Вся биография Пинчона — в его книгах, где важно все, вплоть до мелочей, поэтому интересующих мы, пожалуй, отошлем к ним. А те, кто робеет перед большим количеством букв (а также перед раскрепощенной пунктуацией и богатой авторской лексикой), могут прочесть конспект в любой энциклопедии. Эту книгу они вряд ли возьмут в руки. То ли дело мы с вами — но нам же и объяснять ничего не нужно, правда?
В отличие от прежних текстов Пинчона, «Внутренний порок», который сейчас переводит на язык кино другой «культовый» мастер, Пол Томас Эндерсон, — роман очень простой, что не отменяет его загадочности и энциклопедичности. Любители выстраивать книги в тематические серии считают, что он продолжает (или завершает) «калифорнийский цикл» романов Пинчона. Действительно, в нем есть нечто общее с паранойяльной атмосферой «Выкрикивается лот 49», а из «Вайнленда» в эту книгу переселились даже некоторые персонажи. Однако гораздо важнее здесь другая — скрытая — параллель. Поистине вселенские романы американца Томаса Пинчона написаны все же об Америке, конкретнее — о том периоде ее истории в ХХ веке, когда мечта об идеальной жизни (некоторые еще называют ее «американской мечтой») казалась как никогда осуществима. Это даже не очень про «секс, наркотики и рок-н-ролл», которые, несомненно, в 1960-х помогали такую мечту приблизить. Это про стремление к трансцендентности, к некой высшей благодати, что свойственно человеку — как биологическому виду — вообще.
Но идеальный пляж в романах Пинчона был — и остается — скрыт под толстым слоем брусчатки, очень качественно уложенной обществом, политическим режимом, Системой. Парижские студенты, выламывавшие ее из мостовых в мае 1968-го, опытным путем доказали существование под ней слоя песка. Жителям Калифорнии — не обязательно хиппи и сёрферам — тоже удавалось творить такие оазисы идеального бытия. Хотя бы ненадолго. Пусть с применением искусственных расширителей сознания. А Система рано или поздно безжалостно топтала их «железной пятой» и подрывала их радикальные движения изнутри, их вожди продавались власти буквально за понюшку «смешного табака», прилетали «черные вертолеты». Однако вера в идеальный пляж под брусчаткой только крепла.
Нам — особенно тем, кто жил в России во второй половине ХХ века, — эта книга должна быть особенно близка и понятна. Мы были свидетелями похожих процессов, и нам тоже казалось, что вот-вот перед нами распахнутся даль и ширь, горизонты отступят… Будущее сверкало так ярко, что впору было не снимать темные очки. Во «Внутреннем пороке» Томас Пинчон возвращает нас к этой мечте — и показывает, как она подавлялась снаружи и разъедалась изнутри. И да не смутят нас Лемурия, «переналадка мозгов» и инфернальные непотопляемые яхты. Знаете же, как говорят? Если вы помните 60-е, значит, вы в них не жили.
Вы и убили-с
"Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий", Харуки Мураками
Вопреки мнению общественности, что сэнсэй каждую книжку пишет все хуже, могу сказать вот что. Это не так. В «Бесцветном» он трогает психологический нерв такой тонкости, что невооруженным глазом он и не виден, — и делает это так, как многие нынешние писатели и не мечтают, потому что им не приходит в голову, что об этом можно мечтать. Да и в любом случае, видали мы, к чему приводят такие мечты. А нерв этот отзывается натянутой струной, и чтобы услышать этот тонкий звук, лучше обладать развитым слухом.
Вот живет обычный «маленький», «простой», больше того — никакой человек. Никакой от слова «совсем». Мы с вами. Не дурной, не хороший, не тупой, не творческий. Как-то существует, дрочит на прошлое, стареет. И вдруг неким образом выясняется, что эта его «никаковость» (ну или бесцветность, если использовать оперативно-тактическую терминологию Мураками), глубокая и внутренняя, обладает некой реальной силой, вполне, заметим, смертоносной. Сэнсэй этого «нас-с-вами» помещает в свой обычный мир, пространство, населенное призраками, снами и мифами, где, в общем, не уютно никому. И все не то чтобы стало плохо — особо хорошо никогда не было, — но возникли вопросы. Делать-то что? Как быть? Как жить дальше? И надо ли? А будь я «каким-то» — лучше было бы? И так далее.
Конечно, на все эти вопросы сэнсэй ответов не дает. Он моралист, но без морали. Вернее, мораль (как и версия прочтения) здесь у каждого наверняка будет своя. Роман этот, конечно, «чеховский» и «достоевский», но там, где любой русский классик читателя своего мордой да в говно, чтоб не осталось ничего недосказанного, ну или за шкирку да к благодати, а то вдруг не дойдет, сэнсэй этого самого читателя оставляет болтаться в своем пространстве без страховок и костылей. Я уже предвижу отзывы «обычных читателей» в духе «ничо не понял», «что это было?» и «кто убил-то?». Да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с.
И дело тут не в том, что на вечный вопрос «что делает человека человеком?», что отличает его от деревьев, минералов и котиков, ответить не просто непросто, а и зачастую невозможно, а в том, что — зачем? Сама постановка такого вопроса уже отличает человека мыслящего от человека немыслящего (про панд и сов я не знаю). Все наши ответы, как бы ни раздували мы (а особенно — некоторые писатели) щеки, будут либо неполны, либо манипулятивны, либо прямыми враками. Скажете, русские классики, по легенде проникшие в человеческую душу глубже некуда, вас не наебали? Да в их мороке вы живете до сих пор. Сэнсэй хотя бы играет с вами честнее. Он просто порядочнее толстых и достоевских — и, я бы решил, умнее чеховых.
Роман этот — опять очень японский и очень мифологичный, даже там, где автор разражается «редакционными отступлениями» в духе производственного романа. В нем опять нет ничего случайного, несмотря на его кажущуюся простоту и обыденность, включая ритуальную банальность повседневных действий. И есть смысл внимательно следить в нем за погодой.
Могущество призраков
"Итальянский секретарь", Калеб Карр

Конец XIX столетия. Для Шерлока Холмса и его преданного биографа доктора Джона Уотсона все начинается с шифрованной телеграммы, которую прислал эксцентричный брат великого сыщика контрразведчик Майкрофт Холмс. Опасность грозит самой королеве Виктории, и наши герои отправляются на север, в шотландский замок Холируд — то самое место, где тремястами годами ранее был зверски зарезан секретарь королевы Марии Стюарт итальянец Давид Риццио.
Но их ожидают такие опасности, по сравнению с которыми бледнеет призрак собаки Баскервиллей. Бомбы обезумевших шотландских националистов, тела, в которых не осталось ни одной целой кости, лужа никогда не высыхающей крови и, наконец, самое жуткое — бестелесный голос итальянца с неожиданными музыкальными вкусами…
«В науке о преступлениях, Уотсон, как и в любой другой, встречаются явления, которые мы не в силах объяснить. Мы уговариваем себя, что в один прекрасный день наука найдет им объяснение; может, и так. Но пока что необъясненность этих явлений придает им невероятную силу — потому что они заставляют отдельных людей, а также поселки, города и целые страны, вести себя страстно и неразумно. Они поистине могущественны; а надо признать — что могущественно, то существует на деле. Реальны ли эти явления? Это неправильный вопрос, и даже бессмысленный. Реальны они или нет — они имеют место».
Так говорил Шерлок Холмс, самый знаменитый сыщик в истории человечества, герой «канонических» четырех романов и 56 рассказов сэра Артура Конан Дойла и бессчетных продолжений и вариаций, экранизаций и сценических постановок, созданных в ХХ и — теперь уже — XXI веках. «Холмсиана» насчитывает сотни томов, и, подобно тому, как многие актеры мечтают сыграть Гамлета, многие писатели стремятся приложить руку к бессмертному творческому наследию британского классика и создать свою убедительную версию событий, предусмотрительно не описанных в свое время доктором Джоном Уотсоном. Правда, как и актеры, почти все они потом об этом жалеют…
Калеб Карр, создатель анти-Холмса — доктора Ласло Крайцлера — стал прекрасным кандидатом на бессмертие в «Каноне Холмса». Больше того: по совету распорядителя литературного наследия Конан Дойла в США Джона Лелленберга он творчески переосмыслил задачу и свел великого детектива с силами, которым, на первый взгляд, нет и не может быть рационального объяснения. Но знаменитый дедуктивный метод Холмса работает безошибочно, и сыщик с Бейкер-стрит опять — уже в который раз — побеждает в этой увлекательной литературной игре, начавшейся почти 120 лет назад.
Выиграет в ней и читатель. Прикасаясь к хорошей литературе, мы никогда не остаемся в проигрыше.
Ничего святого
"Ангел тьмы", Калеб Карр

…Я оставлю эти записи для тех, кому случится наткнуться на них после моего ухода и кто пожелает в них заглянуть. Они могут ужаснуть вас, читатель, а события могут показаться чересчур противоестественными, чтобы произойти на самом деле. Но можете мне поверить: если история эта чему и учит нас, так вот оно. В царстве Природы находится местечко для всего, что общество зовет «противоестественным» поведением.
Всего через десять лет после того, как друзья Ласло Крайцлера — уголовный репортер «Нью-Йорк Таймс» Джон Скайлер Мур (рассказчик «Алиениста») и тот, чьи записки вы сейчас прочтете, — завершили свои манускрипты, в 1929 году французский критик Режи Мессак утверждал, что детектив — это «…повествование, посвященное прежде всего методическому и последовательному раскрытию точных обстоятельств таинственного события с помощью рациональных и научных средств».
Казалось бы, удивительно точно этому принципу последовал человек, написавший «Алиениста» и «Ангела тьмы». В одном из своих интервью Калеб Карр признавался, что сознательно изобрел доктора Ласло Крайцлера чуть ли не в пику господствующему архетипу Шерлока Холмса: это персонаж, способный распутать то, что не в состоянии распутать Холмс, — преступления, после которых не остается физических улик, либо их слишком мало, а мотива может в явном виде не оказаться вовсе. Иными словами, преступления, которые оказываются целиком и полностью продуктами аберраций человеческого сознания.
Но если вдуматься, «дедуктивный метод» довольно механистичен и сводится к наблюдательности, широте кругозора и поэтически образной смелости мышления: заметив, что у неизвестного мужчины правая рука развита сильнее левой, Шерлок Холмс скорее просто допустит, что перед ним рабочий, чем примется копаться в его прошлом. Ему вряд ли придет в голову, что перед ним может оказаться, к примеру, теннисист из высшего света. Или человек, которого в детстве мог изуродовать отец, сбросив с лестницы…
Надо сказать, что Калеб Карр, «анфан-террибль» современной американской словесности (который принципиально не желает считаться «серьезным писателем», полагая, что эти последние — «личности, чей нарциссизм не знает границ: они не устают пересказывать свои личные истории, лишь слегка их видоизменяя»), подобно своему герою, и сам в детстве не раз становился жертвой необузданного характера отца — писателя и журналиста Люсьена Карра (1925—2005), соратника Джека Керуака, Аллена Гинзберга и Уильяма Берроуза по бит-поколению. И повзрослев, в своих книгах о Ласло Крайцлере гениально вывернул наизнанку старый тезис французского писателя Поля Морана о том, что роль детектива — «…не ориентироваться в тенях души, а заставлять марионетки двигаться с безупречной точностью часового механизма». С научной четкостью и аккуратностью он погружает читателя в такой душевный и психический мрак, что мало кто будет способен найти дорогу обратно к свету без помощи автора.
Герои-изгои
Романы, Сэмюэл Бекетт
Развлекаться интерпретациями Бекетта можно, конечно, очень долго — ну или просто читать его (желательно вслух) и веселиться (местами). «Мёрфи» и «Мерсье и Камье» как раз таковы. По необходимости я буду говорить о них вместе, с вкраплениями других соображений, которыми развлекался (ну а как же без этого) последнее время.
Начнем с персонажей. Троица эта (а также его Уотт и прочие) — по сути, истинные герои андерграунда, фигуры вечные (почему эти тексты так хорошо и поддаются всяческим вневременным адаптациям). Это лузеры, аутсайдеры, изгои, фрики, претериты-недоходяги и — прямые предки героев Джона Кеннеди Тула, Томаса Пинчона, Ричарда Фариньи и Джима Доджа (да, перпендикулярная литература меня никак не отпускает). Просто Бекетт выделил такую фигуру в ином поколении, ином времени и иной среде. Остается только удивляться, почему этого никто особо не замечает. Ответ до странности прост: литература Бекетта — подрывная, она опасна для Системы. Об этом и поговорим.
Разумеется, корнями своими его персонажи уходят к Джойсу, тут с институционными литературоведами и спорить нечего, это очевидно. Именно Джойсов Стивен Дедал в ХХ веке стал, вероятно, первым аутсайдером, лишенным фальшивого байронического флера, продолжил собой линию невнятно названных «лишних людей» из советской школьной программы. Дедал очень земной, он «наш чувак», для которого существование в Системе «той Ирландии» было столь же невозможно, как тухлая Россия для некоторых героев русской классики или репрессивная Америка для героев Пинчона. Этот человек избегал узких классовых, религиозных, географических и национальных границ и просто стремился жить в мире — человеком мира. А мир никак не желал оставлять его в покое. Блум же, как мы помним, был аутсайдером по определению (умный, читающий книжки еврей в Дублине, ха).
Вот от них — прямая дорога к Мёрфи Бекетта, духовному шопперу задолго до того, как изобрели само это понятие, «шизоидному спазмофилу», в котором по ходу чтения открывается все больше черт как Бенни Профана, так и Энии Ленитропа. Мёрфи — «ethical yoyo», «missile without provenance or trajectory». Узнаете? Сама структура романа, кстати, заставляет постоянно вспоминать «V.» и «Радугу»: геометрия схождения и несхождения бесконечными приращениями и приближением, но никогда не встреча. Легко представить себе Мёрфи источником вдохновения для обоих романов Пинчона, но стилистическое и архитектурное их сходство — предмет чьей-нибудь отдельной диссертации.
В основе действий и мотивации Мёрфи лежит известный «принцип колобка» (напомню: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел», — пока эту сказку в РФ не запретили окончательно), на котором зиждется, вероятно, значительная часть литературы «модерна», и который восходит к довольно апокрифическому надгробию Григория Сковороды: «Мир ловил меня, но не поймал». Как избежать тенет этого мира и Системы, его воплощающей? Сам же мир, в котором творят «модернисты», — все более дробный, фрагментированный, фрактальный, отнюдь не «целостный» в архаическом коммунальном смысле. Кто вообще сказал, что подобная целостность должна быть идеалом? Кроме преподавателей литературы, вот честно, кто так считает? Надо признать, довольно тупой и скучный идеал — эта рустикальная идиллия, придуманная идиотами для идиотов… но мы отвлеклись. В силу этой большей, по сравнению с пропагандируемой и рекламируемой незамысловатостью XIX века, «сложности», мир наш гораздо больше себя осознает и стократ больше рефлексирует. Так и по сию пору живем, ну?
Однако в 1930-х, когда писался «Мёрфи», мир этот, будучи более сложноорганизованным, оставался все же Ньютоновым. И у Бекетта Ньютонов мир старается сцапать квантового человека, неким манером проросшего в него из будущего: какой конфликт может быть нагляднее? Мне кажется, Бекетт обратил внимание на это противоречие — прежнего, «традиционного» мира и еще толком не появившегося индивида в нем — одним из первых. Это потом появятся, в том числе у Пинчона, персонажи-волны, персонажи-частицы, персонажи-кварки. Далее пунктир этот пролегает к битникам, к Тедди Сэлинджера (и Холдену Колфилду как неудачной попытке вывести изгоя, находясь внутри Системы, а также Глассам как к более удачной, хоть и не весьма убедительной попытке изобразить идеальный аутсайдерский прайд), к изгоям Пинчона (и его идеальным естественным прайдам), к эко-активистам Эдварда Эбби, далее — везде.
Пока же у нас механический мир старается задавить в себе ростки относительности, часто понимаемой превратно как «нравственный релятивизм», что с выгодой для Системы транслируется в умы неподготовленного читателя. Однако герои эти цельны — на своих условиях, не на условиях Системы и общества, это поставить под сомнение невозможно. В них может смещаться ядро, оно сможет быть плавающим, но об этом вы прочтете в других местах. Ни Мёрфи, ни остальные — никоим образом не клоуны и не «комические персонажи», не «абсурдные фигуры» и не абстракции, как нас уже столько лет пытаются уверить институционные критики и академические литературоведы. Это живые люди, из плоти и крови, находящиеся вне всевозможных общественных условностей, рамок и правил Системы. Этим они опасны для этой Системы, и именно поэтому в продукте ее — высшей школе (любой) их представляют этих плоти и крови лишенными, сводят к удобным и невнятным абстракциям, низводят до кастрированных фигур и обвешивают ярлыками, теориями и трактовками, выхолащивают и делают безопасными.
Оно и объяснимо. Персонажи Бекетта (и Пинчона) «абстрактны» и «картонны» только, исключительно с точки зрения самой Системы, против которой они ведут свой безнадежный бой, и в которой в силу правды жизни вынуждены функционировать. Ибо к ней они обращены лишь одной своей стороной, одним измерением. Во Флатландии, как известно, трехмерный объект непредставим. Мы можем представить себе четырехмерные объекты лишь некоторым напряжением ума, а более — так и вообще вряд ли, даже в Голливуде это визуализировать не умеют. Так и тут. Для вдумчивого читателя ничего картонного и абстрактного в этих людях нет.
И язык Бекетта не обманешь, он прорвется к пытливому читателю, каким бы ни был, английским или французским. Именно потому я бы рекомендовал читать Бекетта вслух - произнесенное вслух написанное слово реализуется и овеществляется, такой магической практикой, проговариваением оно становится музыкой совсем и приравнивается к булыжнику, ну или штыку, тут кому что сподручнее. Тайный или явный смех в нем, высокий внутренний хохот - он неуничтожим. Его могут исказить только переводчики, служащие Системе, — что, как мы видим, и происходит в доступных нам примерах, поэтому аккуратные, точные и живые переводы Бекетта так редки и почти не переиздаются. Это тот самый случай, когда сам язык служит оружием в борьбе с Системой, а потому систематически выхолащивается и уродуется («переводы» Баевской издавались под эгидой Академии наук, не меньше), сводится к неудобочитаемой корявой каше и даже коммуникативной функции своей не выполняет. Причем, плохие переводчики (коих в данном случае большинство) могут и не делать этого сознательно, по некоему коварному умыслу — они просто не умеют иначе, таков их инстинкт самосохранения: употребляй тот язык, который будет понятен начальству, а значит — массам. Вот эта внутренняя тяга к конформости и вылезает на поверхность — причем, не только применительно к Бекетту, хотя на его примере очень хорошо видно, что лучше всего он удается таким же аутсайдером, какими были его герои, людям, не отягощенным доктринами и теориями, остающимися один на один с собственно текстом. Переводить Бекетта можно только, осмелюсь сказать, из-за пределов Системы. Для русского читателя, не владеющего языками и не способного читать его в подлиннике, покамест остается весьма неутешительный выход — продираться сквозь все эти напластования языковой лжи и подспудных идеологических установок. …Но мы опять отвлеклись.
Если прослеживать генеалогию Мёрфи как персонажа-аутсайдера, к которому мы привыкли в литературе несколько иного времени, то дальнейшая пара Бекетта — Моллой-Моран — прямо-таки предваряет основной конфликт «Винляндии» и некоторых других романов Пинчона. Смотрите: неудобный для Системы аутсайдер Моллой подрывает устои уже тем, что существует, непохожестью своей, пусть даже не делает ничего противозаконного, маму ищет (что может быть безобиднее?). Он просто есть и он не похож на других. Система в силу только этого (ну явно, ибо повесить на него больше ничего нельзя) открывает на него охоту — отправляет за ним сотрудника некоего Агентства Морана, про чью деятельность нам известно примерно столько же, сколько про деятельность нынешних тайных спецслужб. И происходит удивительное — Моран постепенно превращается в нечто Моллоеподобное. Моллой побеждает своим, можно сказать, бездействием. В первом романе Трилогии таким образом Бекетт еще смотрит на противостояние индивида и Системы несколько оптимистично: Система теоретически подвержена разъеданию изнутри, она способна если не распадаться, то морфировать. Второй роман Трилогии уже не таков — и Мэлоун, и его ипостаси вполне бессильны против Системы, и автору остается лишь сокрушаться этому бессилию, махать топориком в нереальном времени. А вот Неназываемый — это уже сплошной крик отчаяния от неспособности Систему одолеть: она лишила героя буквально всего, однако индивидуальность — она «будет продолжать», хотя «неспособна продолжать». Уотт, столкнувшись с непознаваемым (очень смешно смотреть на рассуждения о том, что это-де господь бог, его хозяин — натурально хозяин, начальственный структурный принцип, Большой Брат, как угодно), становится абсолютным контрарием (полумеры не для нас), а Мерсье и Камье, как герой Льюка Райнхарта впоследствии, устраивают свою жизнь согласно случайности и принципу неопределенности, как они его понимают. Но бой этот выиграть невозможно, нам ли теперь этого не знать, однако вопрос стоит тот же самый: как сохранить свою самость перед лицом Системы как грубого и зримого воплощения всего мироздания? Насколько же велико было мужество первопроходца Бекетта, за пару поколений до того, как задаваться такими вопросами стало вполне общим местом, осознавшего этот главный конфликт, который стал, не побоюсь этого слова, основным у писателей, которых принято называть «модернистами». Мало того, что осознавшего — испробовавшего некоторое количество вариантов борьбы с Системой, не требующих при этом насилия и кровопролития.
Конец же Мёрфи загадочен только для академической критики и преподавателей. На самом деле, столкнувшись с подлинным архатом в этом мире, Эндоном, Мёрфи просто-напросто реализовал радужное тело, самовозгорелся иными словами, не выходя из медитации. Газ там, если читать внимательно, вовсе не при чем.
Именно поэтому так забавно сейчас видеть измышления и умствования пролеткультовских литературоведов (даже не особо в штатском), для кого по-прежнему актуальна доктрина, в которой нет места таким конфликтам: советского (а теперь и русского) читателя все это попросту не касается, это все де «загнивающий Запад». Именно из-за этого вранья литература «модерна» и «пост-модерна», обращавшаяся к этому и подобным важным вопросам выживания в Системе, истинными читателями всегда воспринималась как более «своя» и правдивая, нежели литература мэйнстрима, жанровая, «жизнеподобная» и уж конечно — ублюдочного соцреализма: они были призваны не столько утешать, сколько прямо-таки обманывать. А Бекетт, в частности, мог сообщить что-то по-настоящему важное и ценное. Он-то врать не станет, он мудрый, ему незачем.
О любви к девушкам из Нагасаки
"Японская мозаика Владивостока", Зоя Моргун

Великолепно познавательная книжка — у нее, по большому счету, лишь один недостаток, как у всех дальневосточных и, я подозреваю, большинства провинциальных и многих метропольных книжек: отсутствие вменяемого редактора. Адовы в ней только справка об авторе на обложке и предисловие, но их можно не читать. Остальное — нужно.
Откуда бы еще я, к примеру, узнал о татуировке дракона в четыре краски, которую сделал себе будущий Николай-второй-кровавый-предводитель-хулиганов, когда в своей кругосветке останавливался в Японии (умалчивается только, где именно ему ее сделали)? Или с кем провел ночь с 3 на 4 мая 1891 года, когда они с греческим принцем «пошли по блядям» (с «девушкой из Нагасаки», вернее — ее прототипом, который был далеко не девушка в свои 31 год)? И так далее. В упрек автору можно было бы поставить то, что вынесено в название, а именно — мозаичность, но я этого делать не будут, ибо материала столько, что на заполнение швов между кусочками до связного нарратива ушла бы еще одна пара десятков лет, если не больше.
Вся история родного города (ну т.е. наиболее интересная ее часть, до прихода большевиков) представлена через эту мозаичную призму японского присутствия — с особым отношением к проституткам, ибо они почти всегда составляли большую часть японского населения Владивостока — и важнейшую часть населения вообще. Что же касается мифологизированных в нашем сознании 20-х годов прошлого века, то здесь вполне ясны два урока: несколько конкретный и несколько абстрактный.
Во-первых, золотой запас Российской империи растранжирил адмирал Колчак на поддержку своего безнадежного предприятия. Теми или иными путями большая часть золота оказалась в Японии и на ней так или иначе покоится благополучие мировой банковской системы. Сюжетов в этой части истории масса, но все укладывается в этот довольно нехитрый тезис: средства растворились в клаузевицевом «тумане войны»: японские поставщики колчаковской армии сперва не успевали за ситуацией, а потом и стараться перестали, и золото просто осталось в Японии. Ну, и разворовали часть.
Во-вторых, советская власть все крайне усложнила в русско-японских отношениях. Пресловутых имперских противоречии двух стран, конечно, тоже никто не отменял, но они так или иначе были завязаны преимущественно на экономику (включая экспансионистские устремления милитаристских фракций), но прежде этой «реальной» дипломатией занимались все-таки профессионалы. Никогда не было оснований сомневаться в циничной искренности японцев, желавших лишь эксплуатации ресурсов Восточной Сибири и ДВ (ну и территорий для заселения). На все остальное им было более-менее наплевать. Для этого они, естественно, желали нормальных отношений со всем русским народом, а не с отдельным его классом. Но пришли тупые большевики и все испортили. Без большевиков и их кровавой каши, есть ощущение, можно было бы как-то колонизировать ДВ совместно и вполне выгодно для всех участников, включая китайцев, корейцев и маньчжур. Из этого вполне могла бы произрасти какая-то другая история Пасифики, но история сослагательного наклонения не знает, поэтому последствия мы расхлебываем по сию пору.
Но вот одна мысль все же несколько освобождает. Можно параноить и подозревать любые козни и заговоры, но с хорошей точностью все в истории взаимосвязано совсем не так, как мы думаем, а как-то иначе, и виной всему — тотальный бардак, свойственный человеческому состоянию вообще. Книга Зои Моргун, таким образом, способна подвести читателя и к такому наблюдательному пункту, хотя не уверен, что автор имела это в виду.
Бонусом к ней — несколько факсимильно воспроизведенных страниц дневника одного японца, уехавшего из города в 1923 году. На родине он счел нужным вести записи на русском, и это (а также слог) настораживает с первых строк. Далее развивается превосходный сюжет то ли воспоминаний о романтической любви, то ли мастурбационной фантазии, из которого ясно, что по-русски он пишет, чтобы никто на родине прочесть не мог. 23-летний японец знакомится с неким черноликим (непонятно — вряд ли негром) англичанином и его русской женой, живущими в районе Мальцевской (стадиона Авангард), которая тут же начинает при муже нашего японца клеить, рассказывая ему о том, что любовь должна быть свободна и открыта. Все это — в аранжировке куртуазных манер начала ХХ века и вполне изысканным слогом с небольшим количеством описок. Но обрывается кусок дневника как раз на самом интересном месте, блин. И вот теперь я думаю, кого мне подкупить, чтобы прочитать остальное в этой истории.
Этот человек подарил нам детство
Небольшой праздничный концерт в честь великого сказочника
Нельзя, конечно, сказать, что через несколько дней этому человеку исполнилось бы 210 лет. Простые смертные столько, увы, не живут. Но Ханс Кристиан Андерсен еще как жив, в доказательство чему — наш маленький концерт с салютом.
Нигде, конечно, так не живо его творческое наследие, как в Скандинавии. Вот вам веселая летка-енка в исполнении одноименного коллектива:
На стихи Андерсена писал песни Григ:
Их поют, как мужчины, так и женщины. Потому что музыка, как и сказки — они для всех:
Шуманн тоже писал на них песни:
А Элвис Костелло даже сочинил целую оперу про Андерсена — она называется «Тайные песни»:

Вот одна оттуда. Тайная:
Опер и балетов, например, по «Снежной королеве», есть немало, включая словенскую, 1913 года, которую потеряли, и так никогда и не нашли. Но они ставятся до сих пор — например, вот, в Сан-Хосе:
Еще мы предлагаем вам посмотреть весь спектакль коллектива «GrooveLily» «Пробило 12» — и перечитать «Девочку со спичками». Они того стоят:
Стивен Шуорц тоже написал свой мюзикл по Андерсену — он называется «Моя волшебная сказка»:
Чем лучше отметить этот день, как не детским народным творчеством, — смотрите забавный мюзикл Сью Гордон «Гриммуарная ночь для Ханса Кристиана Андерсена», скажем, в такой вот версии:
Будет и небольшое домашнее задание:
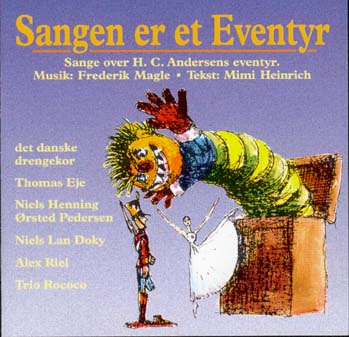
— пойти и посмотреть, а также местами послушать — песенный цикл Фредерика Магла «Песня есть сказка».
А сказки Андерсена — как и музыка — они же не знают не только возрастных, но и национальных границ:
Поэтому что может быть лучше, чем слушать правильную музыку и читать правильные сказки:
Что может служить лучшим доказательством того, что они останутся у нас в головах, а не на руках?
Докуда доведет язык
"Язык мой - друг мой. От Хрущева до Горбачева...", Виктор Суходрев

Виктор Суходрев, конечно, — эпоха, этого не отнять и никуда тут не деться. «Неидейный коммунист» и «западник» предстает в своих мемуарах вполне приличным человеком, и Америка в книге выглядит вполне нормально. Хотя книга написана довольно суконно, она вполне развлекает. Интерес здесь, конечно, — от иллюзии сопричастности к делам сильных мира того, от лиричности портретов и зарисовок, прошедших через призму авторского отношения (и на нее стоит делать поправку при чтении). Но допуск за кулисы — не более, чем иллюзия, общие слова и легкое «швыряние костей». Какие-то выводы о кухне политики, конечно, можно сделать, но мемуары Строуба Тэлботта, например, были гораздо информативнее в смысле международных отношений. А тут все же больше «клубники». Два ощущения: вся внешняя политика СССР делалась людьми глубоко нетрезвыми (боже, сколько же они все бухали), хотя это, может, само по себе и неплохо. И второе — сколько всего в ней зависело от такой ненадежной нитки, как память отдельно взятого переводчика (поскольку беседы фиксировались по памяти и скорописи этого же самого переводчика). Ну и да – название книги вводит в заблуждение: про язык там практически ничего нет. Это скорее проходит по разряду страноведения.
Как человек, который довольно долго работал примерно в этой же функции (но на несравненно более низком уровне), могу сказать — фактура похожа на правду. И особый интерес, конечно, для меня был в его описании встречи Брежнева и Форда во Владивостоке в ноябре 1974 г. (Суходрев, правда, не упомянул, что для подачи поезда из Кневичей («Борт 1» могли принять только там) на Санаторную проложили особую ж-д ветку и перекрыли все движение, чтобы правительственный поезд шел по колее встречного движения — из соображений удобства схода на перрон на Санаторной, полагаю). Я хорошо помню тот день, когда они проехали по городу, как ни странно. Движение в городе перекрыли, и я после занятий в секции борьбы, чтобы не идти пешком по всей Ленинской, решил сходить в кино. Позвонил из автомата домой (да-да, мобильных тогда не существовало), предупредил и двинул в кинотеатр «Комсомолец» — смотрел «Свой среди чужих». Вышел из кино — движение не восстановили, трамваи не ходят. Двинул пешком, чего, — в 11 лет это было настоящее приключение. Кортеж проехал мимо очень быстро, когда я доходил до остановки «Авангард», людей на тротуарах почти не было, кроме таких же, как я, кто домой пешком шел, отчаявшись дождаться транспорта. И так же быстро кортеж проехал обратно, развернувшись на Луговой (единственное место в городе, где он мог это сделать, как помнит Суходрев, что правда — правда, «памятник, установленный в районе морского порта» — это, само собой, памятник адмиралу Макарову, который стоял там посреди площади, чего уже не все и знают). Скорость объяснялась тем, что у Брежнева, как раз в этот момент, когда он проезжал мимо меня, случился, видимо, первый инсульт. Я, помню, обиделся, что мне никто не помахал из машины, но не сильно. Особо тяжелой секьюрити нигде не было, только к встрече по всему городу и Санаторной понаставили зеленых деревянных заборов, что, помню, осложнило нам дачную жизнь. Некоторые, я полагаю, стоят там до сих пор.
Похоронный звон надежды
«Nevermore», Гарольд Шехтер

Эдгар Аллан По еще не успел написать «Ворона» и «Убийство на улице Морг». Он — молодой литературный критик, он славен своей нетерпимостью. Его бичующее перо приводит к нему самого известного человека в Америке — полковника Дэйви Крокетта, героя Дикого Запада и могущественного политика. Крокетт в ярости — По в своей рецензии уничтожил его сверхпопулярную «автобиографию». Но вместо дуэли этой колоритной паре исторических персонажей предстоит иное: вместе распутать кошмарную загадку.
Балтимор потрясен чередой жутких убийств, и все их связывает одно: у тела жертвы преступник оставляет зловещий автограф — таинственное слово, выведенное кровью. Но Эдгар По обнаруживает еще одно мрачное обстоятельство: похоже, все это имеет какое-то отношение к тайне его происхождения. Сеть стягивается вокруг По все туже, и выхода из нее, похоже, не будет уже НИКОГДА.
Ха, ха...
Эдгар Аллан По считается по праву родоначальником детектива. В самом деле, к середине XIX века литература была готова к появлению нового жанра: грамотная публика хотела сказок, предпочтительно — страшных, городской фольклор все чаще обращался к темам насилия, а развившееся книгопечатание позволяло авторам прилично зарабатывать на «сенсационных повестях». Оставалось смешать ингредиенты по рецепту. Сделать это выпало американскому критику и поэту-романтику, эмоционально неустойчивому и вечно бедствующему Эдгару По. Его раздирали два, казалось бы, взаимоисключающих стремления: склонность к кошмарному и мистическому — и стремление к сияющему свету чистого разума. Так появился классический и любимый всеми текст — «Убийство на улице Морг».
Современный американский исследователь романтизма XIX века Гарольд Шехтер — фигура, напротив, вполне уважаемая и академическая. В нем вряд ли можно заподозрить человека, увлеченного какой-то бесовщиной, но ценят его в литературном мире не за лекции для студентов. Он написал ряд документальных книг о «выдающихся» преступниках и маньяках прошлого, которые уже стали в США классикой «нон-фикшн», а также в высшей степени примечательную серию детективных триллеров, где главный сыщик — не кто иной, как сам родоначальник жанра Эдгар Аллан По. Причем, сделал это Шехтер настолько хорошо, что удостоился официальной похвалы единственной наследницы Эдгара По — его внучатой племянницы Анны По Лер. Шехтер не просто сочинил истории, а тщательно их стилизовал — воспроизвел манеру изложения и язык первоисточников (правда, по его собственному признанию, несколько упростив), предоставил свои «версии» рождения признанных шедевров По, насытил тексты множеством намеков, отсылающих к известным творениям мастера. И — да, тем, кто внимательно читал Эдгара По, дал подсказки прямо в тексте.
Но в остальном вам придется полагаться на самого Эдгара По — и посмотрим, удастся ли вам разгадать имя кошмарного убийцы раньше самого автора?
Болячки поп-культуры
"Музыкальная анатомия поколения независимых", Сергей Жариков

Хорошую книжку Жариков собрал. Я как-то поначалу с опаской, потому что, в общем, то, что он сам имеет сказать, давно не очень интересно. К тому же в оглавлении фигурировала фамилия Марочкина, а оказалось, что все честно.
Собранные as is монологи (в которых Марочкин и прочие персонажи часто добросовестно выступают в роли диктофонов) по большей части (но не исключительно, разумеется) малосимпатичных людей, которые рассказывают о незаметных (или неизвестных, или забытых) оттенках развития советской поп-культуры с начала примерно 60-х годов (и тем ценнее первая половина книги, где про первые бит-группы и вокально-инструментальные ансамбли). По мере приближения к 80-м становится менее интересно, поскольку точку зрения самого Жарикова на этот период мы хорошо знаем, нового там ничего нет, а сумбурные тексты человека, навсегда ушибленного совком и считающего группу «ДК» вершиной общечеловеческой культуры, сейчас как-то уже воспринимаются не очень. Ну в самом деле: ок, трэш выдавлен на поверхность тоталитарным строем, он разнообразен в диапазоне от Малежика до Макарова, а сверху наваристой пенкой плавает «ДК». И?
Приятнее всех читать было Вишню, Ковригу и Соколовского, а также очень смешные поливы про танцевальную электронную типа-культуру. Ну и фактура, конечно нигде не подкачала — я реально несколько вечеров не мог оторваться, так увлекся. В общем, всем, кому дорог жанр устной истории как она есть — с болячками, родинками и сыпью — крайне рекомендуется.
Вероятно, весна
Наш сезонный литературный концерт...
…безотносительно к гендерно-половым праздникам. А то ну что это, в самом деле:
Лучше уж так:
Это было про книжки, если вы заметили, а это — собственно о празднике:
Дальше опять про книжки, их авторов и их персонажей, поехали. Из Джека Керуака:
Из Дж. Д. Сэлинджера:
Из Томаса Пинчона:
Из Александра Введенского:
Из Стивена Кинга:
Из Джона Стайнбека:
Из Льюиса Кэрролла:
Из Эдвина Арлингтона Робинсона:
И наконец — из Профессора:
Как вы, наверное, обратили внимание, все это — о весне. С наступлением нового сезона, дорогие друзья и со-читатели.
Прекрасный союзник для посткоммунистического лидера с партийным прошлым
"Зоино золото", Филип Сингтон

Я никогда не интересовалась политикой, все время у меня уходило на творчество. И слава Богу, потому что иначе вряд ли мне удалось бы нарисовать и Брежнева, и короля Марокко, и королеву Сильвию…
— Зоя Корвин-Круковская, 1997 г.
Маркус Эллиот, чья карьера торговца живописью рухнула в одночасье, получает шанс поправить дела. Он должен составить каталог к аукциону русской художницы по золоту Зои Корвин-Круковской. За безмятежностью золотых картин Эллиоту открывается насыщенная жизнь Зои, воспитывавшейся при дворе Романовых, спасшейся из застенков Лубянки, учившейся у великих мастеров живописи: революционная Москва и чопорный Стокгольм, богемный Монпарнас и экзотический Тунис.
Эллиот попадает под чары Зои, обладавшей удивительной властью над мужчинами, и, убежденный, что художница имела отношение к гибели его матери, отчаянно пытается разгадать тайны, скрытые в ее картинах — и в переписке с бесчисленными поклонниками…
Зоя Васильевна Корвин-Круковская родилась в 1903 году в состоятельной семье, приближенной ко двору, видела Николая II и Распутина, училась во ВХУТЕМАСе у Василия Кандинского. Первая мировая отняла у нее отца и отчима, революция вынудила бежать в Стокгольм, заключив брак со шведским коммунистом Карлом Чильбумом. Еще в Москве познакомившись с работами Гогена, Пикассо, Сезанна, очарованная живописью Зоя отправилась в Париж — средоточие культурной жизни, на Монпарнас Шагала и Модильяни, Фицджеральда и Хемингуэя. В 1929-м в Париже состоялась ее первая выставка… А дальше — долгая жизнь, полная тайн, многие из которых не раскрыты до сих пор. Умерла Зоя Васильевна в декабре 1999 года. Несколько ее картин можно найти в Третьяковской галерее.
Хотя карьера Зои Корвин-Круковской достаточно неплохо известна в мире искусства, ее частная жизнь — тайна за семью печатями. Ее личные архивы нигде не опубликованы, она никогда никому не рассказывала о своей жизни в России. Но вопросы не дают покоя искусствоведам и поклонникам ее творчества. Английский историк и писатель Филип Сингтон попытался ответить на некоторые в своей версии судьбы этой необычайной женщины.
Автор признается, что с опаской брался за работу над «Зоиным золотом»: его первый роман, также посвященный России, опубликован не был. Как и его герой, Сингтон никогда не встречался с художницей, однако, получив доступ к архиву, который Зоя незадолго до смерти доверила своей подруге, молодому кинорежиссеру Анжелике Брозлер, не устоял перед искушением рассказать об этой удивительной художнице, о тайнах, которые открылись ему в письмах, о том, что за сверкающими зеркалами картин он увидел кошмарную личную трагедию. Но роман, в который искусно вплетена биография Зои Корвин-Круковской и фрагменты ее подлинной переписки, — не только и не столько исторический. Это книга о поисках если не счастья, то — душевного покоя, мира с самим собой, книга о том, как, сокрушаясь об ошибках прошлого, не забыть о главном.
И еще — о том, что ради прибыли и политической выгоды искусство по-прежнему можно толковать так, как это удобно сегодня…
Искусство последнего поклона
"Каша из топора", Марк Фрейдкин

— Трудно писать, брат.
— Ну, трудно — так не пиши.
(Из воображаемого разговора)
Человек, впервые приехавший в Москву, сталкивается с целым рядом понятий, не (или мало) знакомых жителям остальной России. Например, «Курский вокзал». «Мавзолей». Опять же, «метрополитен». Ну, или «московские старушки». Среди таких диковин жизненно-культурного алфавита я бы смело назвал «Марка Фрейдкина».
Определить место или роль Фрейдкина в культурном ландшафте довольно затруднительно — он всю жизнь, похоже, бежит определений, как пресловутый «прекрасный дилетант на пути в гастроном». Попробуем перечислить, не вдаваясь в подробности — их любопытствующий найдет на задней стороне обложки его последней книги, о коей и речь. Итак. Музыкант и певец. Поэт. Переводчик. Книгоиздатель. Книготорговец. Литератор. Редактор. Сибарит. Брачный аферист. Мастер поговорить. Еврей-грузчик. Инкарнация Жоржа Брассенса. Наверняка я много чего упустил.
После перерыва в 15 лет у Марка Фрейдкина вышла «Каша из топора» — фактически продолжение его «Опытов», сборника прозы, ныне ставшего библиографической редкостью при тираже 3 000 экз. Это важное пояснение — «фактически». Читателю, не знакомому с «Опытами», пожалуй, будет непросто, несмотря на издательскую аннотацию, сочиненную неведомым работником издательского бизнеса:
"…Вещи, безусловно, спорные, неоднозначные и очень мало на что похожие. Тем не менее книга читается легко, хотя и понимается трудно. Можно смело сказать, что это настоящий подарок наиболее взыскательным ценителям изящной словесности."
Мы «смело говорить» не будем, а сразу попробуем разобраться в хитросплетениях этой изящной словесности, чтобы гипотетическому читателю этой книги было проще. Во-первых, то, что мы имеем в «Каше» и «Опытах», — это НЕ исповедальная проза. Не исповедальна она в смысле, например, Аксенова, хотя сравнения напрашиваются. Основной прием в прозе у Фрейдкина — double entendre, что называется, говоря проще — фига в кармане. Автор искренне рассказывает, но не о себе, а о некой проекции себя вовне (или, как выражаются медики, которым в обеих книгах посвящено много прочувствованных страниц, «кнаружи»), которая, надо полагать, от реальной личности таки отличается. Иными словами – автор плетет кружево словес. Иными словами — беззастенчиво треплется. Ну вот пожалуйста:
"…На самом-то деле писать, как правило, хочется что-нибудь до последней степени незлободневное и неактуальное, что-нибудь совершенно не имеющее отношения к окружающей действительности и ни в коем случае не способное вызвать широкий общественный резонанс… Но я по своему печальному обыкновению опять заболтался… Сейчас многие пишут в подобном роде, что бесспорно указывает на наличие некоего кризиса традиционной (и нетрадиционной) литературной формы… Во всяком случае, мне хочется надеяться, что во многом благодаря всей предыдущей более или менее безответственной болтовне читатель даже не заметил, как повествование началось и что вообще-то это произошло уже довольно давно."
А наш читатель, смею надеяться, даже не заметил, что мы тут пытаемся написать рецензию. Это были несколько фраз из текста, открывающего «Кашу из топора» и озаглавленного «Искусство первого паса». Он служит логическим продолжением «Книги ни о чем» (см. «Опыты») и повествует не о, среди прочего, искусстве макаронического стихосложения либо 194 синонимах глагола «выпить», но о, примерно, футболе. Причем, футбол у Фрейдкина — явно той же разновидности, что «настольный бейсбол» у Джека Керуака в «Ангелах опустошения». Как книга, существующая только в воображении борхесовского слепого библиотекаря. Жанр трепа, между тем, освящен вековой традицией и уходит корнями к первобытным кострам и рапсодам. И таких виртуозных трепачей, как Марк Иехиельевич, сейчас, увы, осталось мало. Тем ценнее для нас эта книга.
А самое, на мой взгляд, главное ее достоинство — не будем долго утаивать истину — в том, что читается она сейчас, в 2009 году и под маркой издательства с говорящим названием, как натуральная энциклопедия русской жизни. Вернее — экскурс в духовное и душевное состояние московской окололитературной и околохудожественной тусовки 70-80-х годов (не случайна в начале была отсылка к БГ, певцу «поколения дворников и сторожей») — т.е. поколения на 10 лет старше того, к коему сомнительную честь имеет принадлежать автор данного экзерсиса, что разворачивается на ваших плазменных (ну, или электронно-лучевых) экранах. Настолько она энциклопедия, что упомянутый автор несколько суток боролся с соблазном залить свой опус, скажем, в чеканные онегинские строфы: «Марк Фрейдкин, добрый наш приятель…» — ну, и так далее. Впрочем, редактор, я думаю, этого бы не пережил. Посему — оставим.
Но оставим не только из заботы о спокойствии редакторского (да и читательского) рассудка. «Каша из топора» (как, собственно, и «Опыты») — для автора этих строк и «многих нынешних» — совершенно параллельный опыт. Даже имея в виду вышеупомянутую «фигу в кармане», ныне трудно представить себе умонастроение человека, обожающего лежать в советских больницах (см. «Больничные арабески» в «Опытах» и их несопоставимо более мрачное продолжение «История болезни, или Больничные арабески двадцать лет спустя»). Или в духе сол-беллоуского Герцога, занимающегося лишь сочинением писем людям, чьи имена закодированы одинаковыми буквами алфавита («Ex epistolis», своеобразный постскриптум к более ранним «Главам из книги жизни») (т.е. при условии, что мы воспринимаем этот текст как сугубо художественное творение, а не реальную и довольно трагическую переписку автора с его знакомыми, нам не ведомыми (кои, заметим в «букете скобок», заимствованном у другого еврейского писателя — Джерома Дэйвида Сэлинджера, — могут быть нынешним широким читателем, конечно, узнаны, но это представляется до крайности маловероятным (что не исключает такой возможности, ибо мы по-прежнему остаемся в географических границах страны, больше того — и самого города, сиречь Москвы, где наш автор рос и переживал описываемые приключения если не тела, то уж духа наверняка (а мы в первую очередь — о нем, о духе, не забыли? (и поколение автора еще отнюдь не вымерло, подтверждением чему служат периодические донесения о том, что оного автора где-то видели))))). Опыт, повторю, параллельный настолько, что может освежить сознание дуновеньем традиции. Или вызвать раздражение такой силы, что книжица полетит в угол. Впрочем, бог с ними, с раздраженными читателями. Не для них, в конце концов, писано.
Хотя что подобный читатель вынесет из этой книги? Боюсь, для него «каша из топора» не будет насыщена жирами, белками и углеводами. Автор — англофил и франкофон — не любит страну Израиль, каковой посвящено несколько прочувствованных абзацев:
"Мне в принципе несимпатично государство, построенное исключительно на шовинистической национальной идее, что не может не отражаться на настроениях большинства граждан (и главным образом молодежи) и на общей атмосфере. Кроме того, я почти убежден (хотя, конечно, очень хотелось бы ошибиться), что с геополитической точки зрения Израиль — государство обреченное. Ни одна страна (тем более маленькая и живущая в фанатично враждебном окружении), которая держится только за счет военной силы и благоприятной политической конъюнктуры, не может существовать исторически сколько-нибудь значительный промежуток времени. Рано или поздно конъюнктура и соотношение сил в регионе изменятся, причем явно не в лучшую для Израиля сторону… Не без ужаса, признаться, думаю я о том, в какую дикую резню все это может вылиться…"
Прочие геополитические его соображения из той же заботы о душевном благополучии читателя мы здесь покроем риторической фигурой умолчания. Автор не любит Булата Окуджаву, Владимира Высоцкого и Михаила Щербакова (что на фоне Жоржа Брассенса не удивительно), а матерится со вкусом и чувством меры. Пишет гениальные шуточные стихи «по случаю». Ему пришлось полежать в больницах. Вроде всё… Всё?
Ан нет. Недаром в нашей попытке описания этой книги всплыло имя Сэлинджера. У него, если помните, есть текст, озаглавленный «Симор. Вводный курс», в котором он пытается описать некоего человека, отдать ему дань памяти — и не может, не может. Говорит о чем угодно, сбивается на мелочи, рассказывает байки, странно шутит — и наталкивается на какую-то внутреннюю стену непроизносимого. Стоит ли напоминать, что «Симор» был последним текстом писателя, настолько виртуозно проговоренным, что им автор приговорил себя к литературному молчанию, которое не нарушено и по сию пору.
Что-то общее с повестью Сэлинджера есть и в этой книге Марка Фрейдкина. Он, собственно, и не скрывает, что со слушателем попрощался уже некоторое время назад (как еще раньше попрощался с покупателями, закрыв культовую книжную лавку «19 октября», о чем в книге имеется вставная новелла-пикареска), и глухо намекает, что «Каша из топора» вполне может оказаться сходным прощанием с читателем. Не случайно, видимо, завершает книгу странный обрывочный мемуар «О Венедикте Ерофееве» — явная попытка говорить о непроизносимом, попытка оправдания за что-то, и в попытке этой читатель не найдет ни воспоминаний, ни анекдотов, ни Ерофеева, ни автора. Как в повести Сэлинджера не было Симора. Но где «это все», вместе с тем, было «о нем».
Так и здесь. О Ерофееве. О времени. О друзьях и знакомых, о Z.Z. и J.J. О самом Марке Фрейдкине. От которого не только потомству, но и нынешнему читателю на сетчатке, когда закроешь глаза после книги, остается единственная сцена: 78-й год, где-то под Абрамцевым — Фрейдкин, молодой и увлеченный поэзией, сидит с Ерофеевым на поваленном дереве, курит и «озвучивает соображения». А Веня морщится и не отвечает.
А там вскоре и дождь зарядил…
Немного об авторе и жанре
"Не тычьте в меня этой штукой", Кирил Бонфильоли
Кирил Бонфильоли (1929–1985), культовый английский писатель, родился на южном побережье Англии в семье итало-словенского иммигранта-букиниста. Успешно торговал искусством, виртуозно фехтовал, умел обращаться с любым оружием, был бонвиваном и эрудитом с великолепно развитым вкусом, «воздержан во всем, кроме алкоголя, пищи, табака и разговоров» и «любим и уважаем всеми, кто плохо его знал». Во время Второй мировой войны потерял мать и младшего брата, после войны отслужил в армии в Западной Африке. Его первая жена умерла родами второго ребенка, оставив 25-летнего Бонфильоли с двумя детьми. Через два года после ее смерти самоучка Бонфильоли поступил в оксфордский колледж Баллиол, где изучал английскую литературу. В Оксфорде он провел следующие полтора десятилетия, там же во второй раз женился, и его жена Маргарет родила ему еще троих детей. По окончании колледжа поступил в Музей Ашмола при Оксфордском университете помощником искусствоведа Эдгара Уинда, и примерно в то же время начал торговать произведениями искусства. В 1960 году открыл компанию «Бонфильоли Лимитед».
Писательская карьера Бонфильоли началась, когда он уже готов был бросить торговлю искусством, а также семью. В середине 1960-х Бонфильоли редактировал несколько мелких фантастических журналов, где изредка публиковался сам. Первые страницы «Не тычьте в меня этой штукой» были написаны к концу 1960-х; роман опубликовали в 1973 году. К этому времени Бонфильоли почти все свое время посвящал писательству; его финансовое состояние с годами ухудшалось, и он все отчетливее являл признаки алкоголизма, к которому был склонен много лет. После публикации первого романа Бонфильоли жил попеременно в Джерси и в Ирландии, иногда в нищете, иногда пользуясь помощью друзей, в переписке и общении однако успешно создавая у окружающих иллюзию того, что погрязший в долгах автор Кирил Бонфильоли равен своему персонажу, процветающему Чарли Маккабрею. Он умер в 1985 году в Джерси от цирроза печени.
С 1972 по 1985 год Бонфильоли написал четыре романа — «Трилогию Маккабрея»: «Не тычьте в меня этой штукой» (1972); «Что-то гадкое в сарае» (1976); и «После вас с пистолетом» (1979), а также приквел «Весь чай Китая» (1978) о Каролюсе Маккабрее Ван Клефе, предке Чарли Маккабрея. Кроме того, Бонфильоли почти дописал роман «Великая тайна усов Маккабрея» (1979), который был доработан британским сатириком Крейгом Брауном и издан через 11 лет после смерти Кирила Бонфильоли (в 1996 году). Маргарет составила и издала книгу о муже, куда вошли воспоминания его друзей, его неопубликованные рассказы, переписка и т.д., под названием «Азбука Маккабрея» (2001). Вот, собственно, и все.
«Вы, должно быть, заметили, — писал в конце своего первого романа о Чарли Маккабрее лукавый автор, — до сих пор моя замысловатая история соблюдала, по крайней мере, некоторые свойства, присущие трагедии. Я не пытался излагать то, что думали или делали другие люди, когда это выходило за пределы моего знания; я не мотылял вас туда-сюда, не предоставляя подходящих транспортных средств; и я никогда не начинал фразу словами “несколько дней спустя”... Англичане, как указывал Реймонд Чэндлер, может, и не всегда лучшие писатели в мире, но они — несравненно лучшие скучные писатели».
Бонфильоли вспоминает здесь известную статью американского классика, практически манифест «крутого детектива», «Простое искусство убивать», где Чэндлер (столь же лукаво) среди прочего признавался в любви к классическому английскому детективу: «Лично мне больше нравится английский стиль. Он чуть поизящнее [американских и французских разновидностей], и герои там ведут себя без затей — едят, пьют, спят. У англичан правдоподобная обстановка — возникает даже впечатление, что очередной особняк Пудинг и впрямь существовал в действительности, а не был скроен на скорую руку в павильоне киностудии. В английских детективах больше прогулок на природе, а персонажи не все ведут себя так, словно только что прошли пробы на “Метро Голдвин Майер”…» (пер. С. Белова).
Наш автор не был бы нашим автором, если бы не ощущал родства с традицией английского комического романа: от Лоренса Стерна, Хенри Филдинга и Чарлза Дикенза (которые не писали в этом жанре, но, несомненно, заложили его основу) до Джерома Клапки Джерома, Пелэма Грэнвилла Вудхауса и практически своих современников: Тома Шарпа, Дагласа Эдамза, Терри Прэтчетта, Стивена Фрая и многих других. Дело тут, конечно не только в «говорящих фамилиях», «причудах фантазии» и «шутках с невозмутимым видом» — все это дело вкуса, техники и ремесла. Главное — в умении англичан видеть смешное в окружающем так, как умеет, пожалуй, мало кто, и в их стремлении через смех раскрепостить сознание, как свое, так и читательское. И в несравненном мастерстве при заражении этим смехом окружающих.
И наш автор не был бы нашим автором, если бы поэтому не ощущал потребности, по выражению критика, «сплясать на могиле Запада». Поэтому он и взрывает канон изнутри — всей тканью своих романов, начиная с причудливых шарад высокой поэзии и заканчивая образом главного героя: вроде бы классического детектива-любителя, которому, в отличие от французских полицейских или американских частных сыщиков, читатель может доверять, — но доверять ему читатель никак не может, потому что «…события, управляемые, как мне казалось, мной, на деле управляли мной». И тот тесный угол, в который загоняет героя автор в конце первого романа — пожалуй, лучший пример такого веселого издевательства.
Бонфильоли, казалось бы, в точности следует заветам Чэндлера — доводя их до абсурда. В детективах, писал американец, «нет интеллектуальных загадок и нет искусства. В них слишком много трюков и слишком мало реальной жизни. Их авторы пытаются быть честными, но честность и художественность — не одно и то же». Нет интеллектуальных загадок? И не будет — зато будет каскад трюков, которых никогда не бывает слишком много. Нет искусства? Вот вам целое море искусства, впору утонуть. Честность? Чарли Маккабрей честен перед читателем вплоть до подробных отчетов о процедуре вставания по утрам. А уж художественны они так, что мало не покажется никому. И не говорите, что вас не предупредили.
Кирил Бонфильоли оказался добросовестен лишь в одном. «Детектив, — писал Чэндлер, — создает своего читателя путем медленной дистилляции… Детектив — даже в его наиболее традиционной форме — крайне трудно хорошо написать. Хороших детективов куда меньше, чем хороших “серьезных романов”». Теперь, когда после смерти автора прошло почти тридцать лет, с полным правом можно сказать, что непочтительный англичанин создал читателя весьма утонченного и рафинированного, а прискорбно небольшой канон его работ состоит из лучших и блистательных образцов «несерьезного романа», которых в нашей жизни еще меньше, чем поистине хороших детективов.
Наш виварий
"Энциклопедия юности", Сергей Юрьенен, Михаил Эпштейн

У этой песни нет конца и начала,
Но есть эпиграф — несколько фраз:
Мы выросли в поле такого напряга,
Где любое устройство сгорает на раз.
— БГ (1953 г.р.)
0тсебятина
Один из авторов этой книги сказал: «Рецензий я не пишу в принципе, как и вообще не люблю “критического дискурса”, когда критик судит и оценивает продукт, выданный писателем. По какому праву? — разве, он, критик, талантливее и мог бы написать роман или стихи получше?»
Нет, данный рецензент не талантливее и не мог бы. Поэтому и предлагает будущему читателю некий поперечный срез книги — trailer, teaser, spoiler, whatever, — слегка перемешанный в постмодернистском котле; скорее маргиналии к «записям и выпискам», а не честную рецензию с пересказом сюжета (тем паче что сюжет хорошо известен: чемодан-вокзал-далее-везде). Здесь собраны ключевые для юности авторов понятия — и аранжированы в некую структуру, которую «кру́гом» (как тот же соавтор, очевидно, ее задавший из любви к аранжированным по алфавиту спискам) называть не хочется, а «мелкоячеистой сетью» — не получается. Все равно в этой крупной мозаике глаз претыкается на знаках, и у авторов не отнять умения выбрать эти знаки из ткани жизни, показать в частном типическое. Короткие пассажи — очень удобно для чтения в транспорте. Но почти 500 страниц.
Автобиография
«Это не совместная автобиография двух юношей на фоне застойного времени (фону, кстати, и полагается быть неподвижным). Это портрет самой юности, точнее, опыт ее энциклопедии… Хронологически Энциклопедия охватывает семилетие с 1967-го по 1974 гг., от поступления в университет до начала семейной жизни, когда общение между ее соавторами и согероями было особенно частым и близким, т.е. с 19-ти до 26 лет для ЮН и с 17 до 24 для ЭН... Но Энциклопедия забегает и года на 2-3 назад, в предъюнье. И на несколько лет вперед, в заюнье, до отъезда ЮН во Францию в 1977 г.». (ЭН, 1950 г.р.)
Автор (2 шт.)
1. «Автобус почти пуст, я на любимом месте — сзади, у последнего, уютно скошенного к локтю окна. Высоко, все под контролем — и салон, и жизнь, в которой еще ничего не испорчено, кто-то мне нравится, но ни в кого еще я не влюблен, и голова на месте, и вот-вот от этой вынужденной читательской пассивности я перейду к прямому действию своей собственной прозы, пассажи которой реяли и сгущались надо мной, как туманности, небулы, галактики…» (ЮН, 1948 г.р.)
При этом автор читает примерно «Имморалиста» Андре Жида. Ну как не проникнуться к такому всей душой? (МН)
2. «Я ничего не люблю больше логики. Я ничего не люблю больше поражения и унижения логики. Я переходный тип: между схоластом и энтузиастом, между талмудистом и хасидом». (ЭН)
Анализ
"«На этом поколении сломалась связь коммунистических времен, преемственность советских поколений… Если бы мы росли в 1920-е—30-е или 1950-е—60-е гг., когда коммунизм воспринимался как молодость мира, тогда и у нас, молодых, был бы соблазн влиться в его ряды. Так было у шестидесятников: целина, великие стройки Сибири, очищение партии, Ленин опять молодой, революция продолжается, через двадцать лет новое поколение советских людей будет жить при коммунизме... Мы, конца 1940 — начала 1950-х гг. рождения, были, вероятно, первым поколением, которое совсем не очаровалось коммунизмом — и по той же самой причине не разочаровалось в нем, не пошло в диссиденты: послесолженицынское и послеевтушенковское поколение». (ЭН)"
Два донельзя вменяемых человека, которым «выпало быть юными в эпоху одряхления коммунизма», вроде бы обливаясь ностальгическими слезами, подвергают диссекции — да что там, прямо берут и расчленяют — и совок, и антисовок. Неслучайное буквосочетание здесь — «вроде бы». (МН)
Вещи
Куда же без них. Техасы, рубашки «индпошива», свитера, помойные ведра, чемоданы, авоськи, пишмашинки, «рябиновая горькая», польские сигареты с «американским» табаком… Квартиры, автобусы, музеи, общежития, поезда... На вещах лучше всего поверяются устройства мозгов наших авторов: «На той самой доске в старом МГУ, где Сережа в 1968 г. писал “наваха”, Миша пишет “отвага”. 2003». (МН)
«Вольный стрелок»
"«Самиздат и Тамиздат… — суть необщехудожественное в те времена. За наш с тобой московский период в этом “формате” я сумел прочесть “только” Бердяева, Мандельштама, Бродского, Пастернака, Набокова и Солженицына. Ни один яркий антисоветский нон-фикш, как видишь, ко мне не добрался, хотя я был ищущий и непугливый читатель». (ЮН)"
Кривые зеркала ложной памяти здесь несколько выпрямляются (как видим, не все поголовно читали или творили самиздат). А я, сидя сейчас в Москве, читаю этот тамиздат, доставшийся мне жестом доброй воли тамиздателя — бесплатной раздачей файла в формате .pdf в честь 7 ноября. Иронично, однако самиздательство «Вольный стрелок» мне нравится — за такими, без сомнения, будущее, хотя эта книга обращена вроде бы к прошлому. «Вроде бы» здесь, видимо, опять неслучайно. (МН)
Государственный антисемитизм
«На коллективном медосмотре в университетской поликлинике о негласной политике борьбы с евреями в МГУ с одобрением говорила врач-невропатолог, стуча мне по коленным чашечкам резиновым молоточком. А был бы я евреем? Разбила бы их стальным?» (ЮН)
"«Слово “еврей” для меня звучало едва ли не страшнее, чем “жид”. Да “жида” я почти и не слышал, это было неприлично-ругательное слово — и оттого в нашем кругу почти книжное, словарное, диалектно-далевское. А “еврей” было спокойно-убивающее слово, достающее из тебя подноготную на виду у всех. Это было аккуратное, законное слово, от которого было не отвертеться, не дать в морду обидчику, не пожаловаться. Оно звучало громко — в абсолютной тишине» (ЭН)."
— Хотелось ли бы тебе быть евреем? — спрашивал, бывало, ЭН у ЮН.
— Это как родиться вечным. Конечно, хотелось. Это было бы cool, — отвечал, бывало, тот.
Документ эпохи
Практически. От секретного письма Андропова «О поведении за рубежом писателя Юрьенена», направленного в 1978 году в ЦК КПСС, и выдержек из авторских дневников тех лет — до статистики 5-го управления КГБ и фамилий стукачей и глубоко окопавшихся высокопоставленных агентов Коминтерна. И еще картинки — здесь много картинок, это очень красиво. Мультитекст, разделенный на ся, — только саундтрека не хватает. (МН)
Жертвы режима?
Я вас умоляю. Авторы — по тем временам рядовые «окололитературные трутни», вялая романтическая «диссида», еще желавшая на Ленгорах «все перевернуть». Кто ж виноват, что в истории вообще жить страшно? Жертвы здесь скорее — не осознававшие того их родители, родители их родителей, отнюдь не «творцы истории… рассказанной дебилом»: «хрустальный свод», «целостный семейный кокон» — вот они жертвы, и о них в энциклопедической автобиографии на двоих тоже много и жутко написано. (МН)
"«Посещение башни у Донского. Семья москвичей. Фамильные фото, которые ты мне показывал. Люди 30-х, похожие на Мандельштама. Ты сказал: “Смотри, какой ужас у них в глазах…” Мне это было генетически близко — я тоже родом из жертв системы и маргиналов по нацпризнаку. Только от моих “варягов” не говоря уже о “греках”, не осталось никого, тогда как за тобой была вся мощь советского еврейства, грибницу которого я ощущал, разветвленность сетей… У тебя была крепкая подпочва». (ЮН)"
Иконы
Алешковский, Бахтин, Битов, Валери, Евтушенко, Казаков… Фолкнер, Хемингуэй. Не «святые коровы», слава те господи, и не статисты — соучастники, если и не подельники, живые люди, хоть некоторые уже к тому времени и умерли.
Магические практики
"«Так уж получается, что название книги — Эн... Юн... — частичная анаграмма наших фамилий: Э-н и Ю-н (начинаются на соседние буквы, а кончаются на общую)… Вот теперь мы, Э-н и Ю-н, и пишем вдвоем ЭНциклопедию ЮНости, как нам на роду уже написано». (ЭН)"
ЭН их очень любит: взять те же загадочные предъюнье и заюнье, местомиг, сладконемой или молчепись (гм). Но философы — на то и философы, чтобы заклинать неведомых нам божеств. «Парадоксы новизны», впрочем, по малолетству мне казались книгой очень вменяемой. У ЮН — несколько иначе: бадиленгвидж, прайвиси, нонфикш и покетбэк. Но этот человек первым опубликовал по-русски в 94-м текст Чарлза Буковски — и не где-нибудь, а в «Собеседнике», приложении к газете «Комсомольская правда» с соответствующим тиражом. Так что хрен с ними, с этими завываниями. Авторы вполне беспощадны к себе — вот что главное. И оба они — Другие. И они не разучились смеяться над собой. И мы как читатели все равно у обоих в долгу. (МН)
Низкопоклонство перед Западом
Нет, «перед западной литературой». Какой анамнез сейчас может быть слаще? (МН)
Старые песни о главном
Никто, естественно, не запрещает осмыслять не очень давнюю историю «советского содома», тем паче — под флером романтического поиска «утраченного времени». И лучше уж делать так, как авторы, чем с привлечение командно-административного аппарата и Останкинской телебашни. Но остается ощущение, что для ЭН и ЮН эта книга — некое запоздавшее «обретение лазейки». Не сказать, что их энциклопедия — единственное пособие по свернувшей за угол эпохе, но она вполне может стать одной из настольных книг для нетипичных ныне «пытливых юношей». Потому что здесь и уроки, и ролевые модели уж очень симпатичны. (МН)
«Видимо, теория не дает покоя и практикам, и всегда хочется знать, как называется то, что ты уже испытал… [А] Родина — это то, что впереди… Антисоветское содержание давалось гораздо легче, чем освобождение от советского языка». (ЭН)
Ты
«Соударение струй». (ЭН)
Да, именно тех, о которых вы подумали. Тот случай, когда постоянное обращение соавторов друг к другу не кажется натянутым. Это скорее честное «а помнишь?», чем «как ты хорошо помнишь». (МН)
Ужас
О нем — только по касательной. Да и какой, в самом деле, в юности может быть ужас? На меня, к примеру, советская хтонь навалилась, когда, вернувшись из длительного загранплавания, я посмотрел в к/т «Комсомолец» на другом краю страны фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». До сих пор не знаю, чему приписать надолго охвативший меня тогда параноидальный ужас. Вряд ли — целиком и полностью художественным достоинствам фильма.
Но. Бабий Яр здесь — в отрывке из рукописи. Будущее, кстати, — тоже. Судьба человека — в биографической справке сноской. «Небытийная» тяжесть атмосферы — в воспоминаниях о дружеских попойках и «этой преждевременной вписанности в безысходность советского быта». Абсурд — через сны, в которых очень много расстрелянных детей. (МН)
«Этот сон, возможно, отразил свойственное мне, я бы сказал, сверхчувственное восприятие в отношении “геопатогенных зон” в Советском Союзе, внезапное ощущение, что место, на котором ты находишься, есть место некоего преступления, точка, отмеченная самим Злом». (ЮН)
Эй, You… Я?
Ну а хули тут — я? «Другое поколение, другие дела». Но тем интереснее читать этих. А добавить мне, как видите, нечего.
«Мы остаемся внутри поколения, которое состоит из нас двоих». (ЮН)
На полях «Энциклопедии юности» писал МН (1963 г.р.)
О людях и кошках
"Йошкин дом", Виктория Райхер

Что вам рассказать о книге, которая начинается с трех ключевых слов: «Евреи в Израиле молятся…»?
Правильно: она — о людях. Маленьких и больших, нормальных и фриках, евреях и русских, солдатах и детях. О кошках — как с характером, так и просто животных. Среди персонажей присутствует божественная рыба. По-моему, есть даже одна мышь.
Не хватит?
В книге пять глав — пять отдельных книг. Пять маленьких вселенных. Некоторые — страшные. Составитель серии Макс Фрай — мерило душевности и задушевности нынешней русскоязычной литературы (раньше эту функцию выполняла «проза журнала «Юность»), — написал много правильных и прекрасных слов в послесловии и назвал Викторию Райхер «идеальным попутчиком». Но нет, сдается мне, не совсем попутчик нам автор — она скорее доктор. Тот, который, как вы помните, «едет, едет…»? К человеку, к его кошке, к нам с вами. Недаром же один из ключей к этой книге — вот такой текст:
“Кому-то хочется, чтобы любили, кого-то достали автомобили, кого-то бросили или забыли, а кого-то помнят, но лучше б не помнили — и «скорбная помощь», глотая мили, едет навстречу из сонной были, а может, из небыли или из пыли лепит куличики свежей полночи. Хотите булочку? Вот вам булочка. Хотите девочку? Вот вам девочка. Хотите плохого, хотите хорошего, хотите — заказывайте фрукт или овощ. По переулкам и переулочкам, чтобы кому-то полегче сделалось, чтобы кого-то спасти от прошлого, едет и едет «скорбная помощь»…”
Вот такая молитва. О мышах и людях когда-то писал еще Стейнбек. Теперь Виктория Райхер пишет о людях и кошках. Таких же некрупных и перпендикулярных обычной жизни, какими были Ленни и Джордж. И проза ее — тот «порошок целебный», который для совести — чтобы она была. Это отнюдь не куриный бульон для души — это горькое лекарство, потому что почти все истории эти — в немалой степени детские кошмары и психодрамы, в которых автор, следует думать, знает толк, потому что у автора такая профессия — психодраматист. Доктор делает нам больно. Автор делает нам катарсис. Откройте рот и скажите «а-а-а-а-а-а». Это полезно.
И порошок этот, как микроскопическую гречку на бабушкиной кухне, перебирать не кому-то, а нам с вами. Кто-то просто заслушается нормальным человеческим языком, которым, без оглядки на выморочную «литературную норму», Виктория Райхер пишет — как дышит. Как мы с вами говорим. А наметанный читательский глаз в россыпи историй, возможно, различит не только тени Стейнбека или Александра Грина, но и призраки психологических сюрреалистов — от Хулио Кортасара до Джорджа Сондерса. Еще в «Йошкином доме» живет немало тех, кто слеплен «из вещества того же, что наши сны». Или наши кошмары, но, кажется, я уже про это говорил? Кошмары — они ведь тоже как гантели для совести. Скажете, нет?
И — да, конечно, здесь читается Книга Книг: «У Рахили Соломоновны пятеро детей, пятеро мальчиков: Яков, Ефим, Иосиф, Марк и Александр…» «И от сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих» (Быт. 10:5). Маленькая повесть «Смертельный номер» — действительно, пожалуй, самый библейский из текстов «Йошкиного дома» — почти напрямую отсылает к «Песни песней» и родословным книги Бытия, едва ли не самым любопытным с жанровой точки зрения страницам Библии.
Последняя части книги — «Страдай, душа моя, страдай» — скорее запись тех мимолетностей, которым место в дневниках. И здесь, как ни странно, можно углядеть интересную статистику: тираж «Йошкиного дома» — 3 000 экземпляров. Блог Виктории Райхер, из которого произросли многие тексты книги, читают больше 7 000 человек. Чувствуете разницу? Это какой-то принципиально иной контур распространения духовного, душевного и душеполезного знания, который не зависит от материальных способов воспроизводства и воспроизведения. И впрямь ближе к ветхозаветному. «Гидеону» тут делать уже нечего. Это, наверное, уже те сказки, которые кролики будут рассказывать своим детям, когда земля опустеет.
Так что же еще можно рассказать о книге, автор которой сам сказал про себя: "Русского во мне самой — исключительно язык мой, длинный без меры, раздвоенный и неуправляемый…»?
Правильно. В ней везде — неназываемое имя Бога, которое каждый проговаривает про себя.
Во всех чернильницах страны
Сезонный литературный концерт с выходами поэтов, комментарием, сведенным к абсолютному нулю, и почему-то Эдгаром По
Итак, достаем по давней русской традиции чернила — и вперед:
…под классику, с чувством:
…расширяя контекст на другие времена года:
Да-а… поющие поэты — страшная сила. Но очень
скверно, если они умирают.
Один за другим, хоть и через много лет, как здесь:
Поэты должны жить и петь, и жить в песнях, и петь по жизни:
Но хватит о грустном и зимнем. Королеву это не развлекает:
Королева очень настаивает, призывая на помощь Роберта Грейвза и Льюиса Кэрролла:
Желаете сказку на ночь, ваше величество? Извольте:
Можно и в другой версии. Так вы быстро уснете:
Или лучше беспримесной современной литературы? Вот, пожалуйста:
Может быть, триллер? Это у нас тоже есть:
Видите, простая песня тоже может быть
литературой — мы, собственно, об этом.
Но есть у нас и более традиционные
тематические номера:
…и песни с литературным приветом:
…да и не с одним, ого-го:
И вот на этой, как говорится, оптимистической
ноте мы и завершим наш сезонный концерт.
Зачем нам, в самом деле, слезы в чернильницах, если
на свете по-прежнему есть песни с пишущими машинками?
Преданья старины глубокой, ха-ха
"Сказания древнего мира для юношества", Карл Фридрих Беккер

Перед вами — если вы не поленитесь ее отыскать — книга немецкого писателя и педагога Карла Фридриха Беккера (1777—1806) — отчасти сокращенный перевод его первого историографического труда, сделанный в 1843 году выдающимся русским просветителем, филологом, критиком и журналистом Николаем Ивановичем Гречем. Все это не должно отпугивать современного читателя: в книге Беккера нет ни намека на академичность и пыль веков смахивать с этих страниц вовсе не нужно. Да и не только «юношеству» будет интересен довольно подробный обзор истории древнего мира — от мифов о сотворении Вселенной до распада Западной Римской империи, — наполненный живыми подробностями быта различных племен и народов, занимательными историческими анекдотами, слегка неожиданными выводами и параллелями с современностью. Странным образом книга о незапамятной древности, написанная в начале позапрошлого века, началу XXI столетия оказывается созвучна.
Карл Фридрих Беккер окончил университет в Халле, где изучал историю и философию, затем преподавал в Коттбусе, но слабое здоровье вынудило его заняться исключительно литературной деятельностью. Беккер оставил три основных труда: «Сказания древнего мира для юношества» — трехтомный очерк истории древнего мира, изданный в Халле в 1801—1803 гг.; «Поэтика с точки зрения историка» (Берлин, 1803); и девятитомную «Всемирную историю для детей и их воспитателей» — ее издавали в Берлине в 1801—1805 годах, продолжали несколько немецких историков и педагогов, неоднократно переиздавали; она стала основой для учебного курса истории. Умер Беккер 15 марта 1806 года в Берлине, предположительно — от чахотки. Ему было всего 29 лет.
Будучи просветителем по призванию, Беккер в этой работе, в общем, не ставил перед собой цели создать академический труд: скорее «Сказания» — книга для душеполезного чтения. Перед читателем открывается синкретическая картина развития человеческой цивилизации, причем источниками служат не только древние хроники или труды современных автору историков, но равно мифы и литературные памятники. К тому же, Беккер — вполне в духе античных философов — пристрастен: вся древняя история цивилизованного мира представляется ему неуклонным отходом от греческого этического идеала (умеренность, скромность, забота об общем благе), низвержением в пучину изнеженности и развращенности, итогом чему может быть лишь власть дикости и варварства. История, как мы знаем, подчиняется несколько иным законам, но такой прекраснодушный идеализм не может не вызывать симпатии и по сию пору. Самое же ценное — в том, что Беккер сумел обработать и адаптировать огромный материал, из коего соткал цельное полотно, вполне способное дать начальное представление о первых тысячелетиях человеческой истории. И сделал это поистине рукой художника: он не только размышляет над «преданьями старины глубокой», но и спорит с авторитетами древности, не только разворачивает перед читателем панорамы великих сражений и переселений народов, но и выводит типы и характеры, рисует портреты и увлекает авантюрностью приключений. Он не навязывает никому своей историософской концепции, не подчиняет факты какой бы то ни было доктрине — он просто рассказывает истории. Рассказывает Историю.
Жизнеописание же переводчика этой книги достойно многих томов. Мало кто из русских литераторов XIXвека удостоился более разноречивых оценок современников и потомков, нежели Николай Иванович Греч (1787—1867). Сын обрусевшего немца (предки Гретшей происходили из Чехии, откуда, будучи протестантами, вынуждены были спасаться в Германию от преследований католиков), Греч был одним из образованнейших людей своего времени. Основал и редактировал несколько журналов, среди них — «Сына отечества», к сотрудничеству с которым привлек сначала едва ли не всех значимых российских поэтов и писателей начала века, от Державина до Пушкина, а впоследствии — и будущих декабристов. Как педагог-новатор, Греч ввел в России ланкастерскую систему взаимного обучения и занимался образованием солдат, основав Вольное общество учреждения училищ, тесно связанное с Союзом благоденствия. Именно поэтому в самом Грече увидели одного из виновников восстания 1820 г. в Семеновском полку и соответственно его покарали — отстранили от должности директора училищ и установили тайный полицейский надзор. К концу первой четверти века идеалист-вольнодумец и радикальный журналист стал консерватором: к доверию власти вроде бы располагали и реформы первых лет царствования Николая I, в частности — более мягкий цензурный устав, в разработке которого Греч принимал участие. Но Николай Иванович остался одним из самых востребованных журналистов, редакторов и критиков; литературный вкус Греча позволил ему в числе первых критиков высоко оценить множество произведений, вошедших впоследствии в канон русской классики, — от «Горя от ума» до «Героя нашего времени». Его работы по литературоведению и языкознанию тоже во многом стали новыми страницами в теории и практике русской словесности и педагогики. Отметим также, что, принимая столь деятельное участие в литературной жизни, Греч не оставлял государственной службы в министерствах внутренних дел и финансов, а в отставку в чине титулярного советника вышел лишь в год работы над переводом Беккера, в 56 лет.
Скажем прямо: его ставшее притчей во языцех многолетнее партнерство с журналистом и редактором Фаддеем Булгариным, от которого он был финансово зависим, на фоне всех этих (и множества других, в частности — улучшения организации библиотечного дела) достославных свершений, несколько меркнет. Оно, судя по всему, не помешало Пушкину поддерживать с Гречем отношения даже после известной литературной полемики. Друг Державина, Карамзина, Крылова, Гнедича, Вяземского и Грибоедова, знакомец Гёте, Гумбольдта, Талейрана, Гюго и Дюма, не предавший в свое время друзей-декабристов, похоже, даже в выборе книги Беккера для перевода не оставлял надежды на исправление современных ему нравов: уж очень силен демократический пафос этой работы в обстановке российского самодержавия, к середине века набравшего военно-бюрократические обороты и приобретшего черты худших античных тираний.
В общем, история рассудит — если не рассудила уже, — правы были Герцен (ехидничая над Гречем) и Добролюбов (шельмуя его), или же главным для нас должна остаться подвижническая и высокопрофессиональная работа незаметного солдата литературы. Нам же — здесь и сейчас — остается поблагодарить Николая Ивановича за то, что он подарил многим поколениям русских интеллигентов прекрасную книгу Карла Фридриха Беккера, и — перевернуть страницу.
Амнистии не будет
"Пересуд", Алексей Слаповский
Будто тебе наплевать, что скажет о нас страна
и Союзпечать.
— П.Н. Мамонов
Скажу сразу, чтобы предупредить воздетую бровь-другую. В рамках предложенной концепции ее можно не читать.
Как не читать можно вообще что угодно — Тору, Коран, Маркса, Достоевского, Фрая, как одного, так и другого. Мы же исходим из того, что у нас страна не только всеобщей грамотности, но и самая читающая в мире, поэтому продолжим разговаривать с проекцией сферического коня в вакууме. Что же найдет в романе «Пересуд» гипотетический читатель в отсутствие евреев?
Он найдет там красный междугородный автобус марки «мерседес», дорогу из Москвы в условный городок Сарайск и почти девять часов езды по неким ближним и дальним своясям. Он увидит там туго закрученный криминальный триллер — почти готовый классический киносценарий в «достославной черно-белой гамме» и с соблюдением трех единств. Он заметит даже вставные «сновидческие эпизоды» в цвете, вполне сродни «Покаянию» Тенгиза Абуладзе. Он встретит основных героев — числом 23. Он опознает там буквы, уже знакомые по другим книгам писателя.
Он, будем надеяться, эти буквы прочтет и составит из них в голове некое целое. Дальше пойдет полифуркация, а мы от чистой и объективной статистики перейдем в область прикладной спекуляции.
Потому что, кроме знакомых букв, мало что роднит книгу «Пересуд» с прежними произведениями Слаповского. Вот только они, да еще пара фирменных мелких росчерков стиля, вроде тени автора на кулисах текста. Только тут тень эта словно бы призвана успокаивать своим присутствием «веселых и славных детей», собравшихся на утренник с кукольным представлением, — а им вместо этого показывают эдакий гиньоль, и первые ряды зрителей забрызганы отнюдь не клюквенным соком. Потому что, в отличие даже от предыдущей книги «Синдром феникса», автор, похоже, отступил здесь от ставшего привычным популярного лубка, перестал творить миф о русском человеке и явил «чудище обло» в собирательном пресветлом лике народа — даже рецензентам, вроде бы читавшим и не такое, запросто может стать не по себе. В том-то и дело — читали рецензенты по определению не такое. Ибо отвыкли мы от спокойного, жесткого и бескомпромиссного взгляда писателя-современника на окружающую жизнь. Писательская честность вообще, похоже, стала уделом классиков. Потому что одним из литературных осадков нашего «непредсказуемого прошлого» стало частичное (вплоть до полного) отмирание нравственной ткани, и писательская «честность» у авторов «серьезной» литературы выродилась либо в расковыривание собственных гангренозных болячек на радость публике, либо в хватание собеседника за пуговицу и извержение на него содержимого кишечника. Даже отстраненно глянуть на то, чей завтрак оказался на траве под ногами, и проанализировать, из чего он состоял, никому в голову как-то давно уже не приходит. Не говоря о том, чтобы подтереть за истерикующим едоком. Но Слаповский — автор подчеркнуто «несерьезный», он сценарист и развлекатель, правила «серьезных» литераторов с этой их застарелой воспаленной «совестью» — не для него. Поэтому в «Пересуде» доброту и сочувствие к предмету изображения — и читателю — транслирует, пожалуй, только эпиграф из поэта-2008 Тимура Кибирова: «Это ведь, милая, про каждого из нас — виновен, но невменяем!» Сам же автор, похоже, взял на себя работу ассенизатора.
Не нужно быть метеорологом, чтобы сопоставить название романа и посыл эпиграфа — и прийти к единственно возможному выводу: да, Слаповский по-своему, по-слаповски, сажает на скамью подсудимых ту страну, в которой мы вроде как живем уже некоторое количество лет. Все просто: ни правых, ни левых в книге нет. Повязаны все. Вроде бы — ничего нового, только напомнить еще разок все равно не помешает. Такова прерогатива писателя, чей приговор обжалованию не подлежит, да и амнистии ожидать не от кого. Автор уже поставил последнюю точку — всё, дальше литература закончится и начнется история с географией и юриспруденцией.
То есть дальше — самое интересное. Попробуем спроецировать реакцию «страны и Союзпечати». В аннотации предуведомляется (чтобы нам, опять же, было не так страшно, не иначе), что «роман был многими прочитан еще до публикации, и одни назвали его лучшим произведением Слаповского, а другие с такой же горячностью — худшим». Это, понятно, эстетические мелочи, но диапазон обозначен.
Одни поспешат навешать на автора всех собак и обвинить в измене родине и прокладке тоннеля из Бомбея в Лондон. Это неудивительно — если публикация «Балтийского дневника» Елены Фанайловой вызвала в окололитературных кругах локализованный ядерный конфликт, что говорить о более доступном для народа высказывании в прозе. Странно было бы ожидать, что простое обращение художников к объективной реальности (это вдруг большая новость и прорыв для 2008 года — возрождение гражданской лирики) будет восприниматься иначе, нежели «пощечина общественному вкусу».
Другие поднимут роман как транспарант, не забыв прорезать дырочки в буквах «о» для лучшей аэродинамики и чтобы ослабить напор ветра. Это неудивительно тоже — дураки будут кинематографисты, если не кинутся тотчас же роман экранизировать, а с потребительской точки зрения читается он безотрывно и с немалым ущербом для прочей жизнедеятельности гипотетического читателя, включая пищеварение. Говорю же, развлечь Слаповский умеет. Все останутся довольны, будьте уверены. А то и премию какую автору дадут — очень глупо ее не дать, ибо если не за «Пересуд», то вообще непонятно, кто этих литературных «Нобелей» и «Оскаров» достоин. Все может быть, в общем.
Кто-то, возможно, кинется выискивать в книге следы дискордианского заговора, хотя это маловероятно: конспирологи не способны связно воспринимать что угодно написанное, и слава Эрис.
Как отнесутся к роману евреи, я не знаю. Их в книге Слаповского подчеркнуто нет. А наверняка должны были присутствовать, ибо курс истории СССР в силу одной даже пятой графы переживали, в общем, острее прочих категорий граждан. И, пожалуй, хорошо, что их нет, потому что в новейшей истории государства российского они превратились в такие же ингредиенты этого первобытного завтрака на траве, как репа или гуакамоле. Так что фигура умолчания у нашего автора плавно перетекает в литоту. А это правильно.
Но вероятнее всего — и это допущение мы выводим из наблюдений за доступной нам окружающей реальностью — ничего этого не будет. Ну купят. Ну прочтут. К чернухе все привыкли до того, что нервные окончания давно поотмирали. Триллеров насмотрелись так, что «мальчики кровавые в глазах» слились до полной неразличимости. Так что автор, как и встарь, похоже, «льет душистый мед искусства в бездну русской пустоты».
Одно могу сказать совершенно точно. Если «Пересуд» прочтут те, кто уже давно предпочел жизни в богоспасаемой державе внутреннюю эмиграцию, после страницы 351 возвращаться в эту страну им и подавно расхочется. Потому что на лицах присяжных все те же пустые глаза, и амнистии там по-прежнему не предвидится.
Блюз простого человека
"Дэнс, дэнс, дэнс", Харуки Мураками
Занавес
Не я придумал, что проза Харуки Мураками похожа на музыку. Только слышит ее каждый по-разному. Кому-то — веселый горячий джазец, кому-то — прохладная медленная импровизация. Кто-то видит Джона Траволту, танцующего перед зеркалом во вспышках стробоскопа, кто-то сам начинает колотить по приборной доске, не попадая в такт «Лавин Спунфул» или «Бич Бойз» из хриплого динамика старенькой «субару».
Я вижу, как на сцену просто выходит человек. В луче фонаря ставит допотопную магнитолу на пол, нажимает стертую кнопку «play». И, чуть покачиваясь под дисгармоничные воспоминания о чем-то далеком, рассказывает нам свою историю. Всем нам, застывшим в темноте холодного зала. И мы смотрим на него, стараясь не растаять в этой пустоте…
Ложа
Критики называют Харуки Мураками «современным молодым писателем», нагляднее прочих отразившим Дух Метрополии. Под «Духом Метрополии» понимаются отнюдь не чувства, переживания и запахи обитателей больших городов, но сам воздух пространства «бетонных джунглей» — уже после того, как в нем стерты все следы пребывания людей. Совершенно неорганической и дегуманизированной Метрополии, в которой больше не осталось никаких «я» или «мы». В этом двумерном абстрактном городском пространстве неоновой информации и пиктограмм не живут люди — и даже персонажи не живут. Так называемые «живая реальность» и «человеческое существование» стали раритетами, а мы в своей повседневности касаемся лишь мусора, исторгаемого на нас телеэкранами, радиоприемниками, уокмэнами, газетами и журналами. Реальность «нормальной» жизни практически кончилась. Поздравляем, говорят критики. Городские обитатели утратили опыт живого общения с себе подобными — они лишь способны впитывать холодную информацию, к примеру — о новой марке растворимой лапши или последней раскрашенной иллюзии японской мыльной оперы с уместным названием «дорама».
Литература едва ли способна угнаться за отражениями быстро меняющихся сцен городского распада. Язык подлинной плоти и крови, которым пользовались писатели прошлого, уже немеет от неспособности описать то, что видят глаза и слышат уши.
Не таков Мураками, говорят нам критики. Дух Метрополии растворен в самом его стиле — там не найдешь приемов «живой реальности» или «подлинных чувств», которые ранее поддерживали писателей традиционных школ. Мураками, кажется, всерьез заинтересован внешним лоском Метрополии, его радует счастье городского потребительства. Вернее — он притворяется. И само притворство его наслаждения становится особым и весьма выразительным литературным языком.
Книги Мураками изобилуют названиями пластинок и рок-групп, именами кинорежиссеров и джазовых исполнителей, брэндами стиральных порошков и марками машин. Это не намеренный прием — просто автор считает, что эти знаки и символы культуры и цивилизации больше знакомы обитателям Метрополии, чем так называемая «жизнь». Из них легче создать коллаж моментальных снимков, нежели живописное городское полотно. И уж конечно он гораздо вернее отразит первоисточник, правдивее покажет модель.
В своих романах Мураками выбирает из кучи разноцветного яркого хлама городских информационных помоек то, что ему нравится, и одновременно видоизменяет эти знаки. Его герои, например, по большей части, не говорят на том языке, какой использовался бы в нормальном повседневном общении, — они предпочитают перебрасываться цитатами из любимых писателей всего мира и строчками популярных песенок, становясь ходячими каталогами потребительских товаров и носителями рекламных плакатов. Их реплики превращаются в монологи закоренелых аутистов, в крайние выражения клаустрофобии. В романах «Слушай песню ветра» и «Пинбол-1973» большинство диалогов, происходящих преимущественно в баре Джея, в машинах или постелях, отнюдь не касаются тем «живой реальности». Герои вольготно обсуждают лишь писателей, сновидения, кинофильмы и книги. И — почти не движутся. Они обязательно должны лежать или сидеть: в современной городской среде «живой круг» сузился неимоверно, почти до точки, а информационное поле — расширилось чуть не до бесконечности.
Мир по Мураками очень часто пассивен и крохотен; пуще всего автор боится изобразить сцену, которая может вызвать хаос. Как и его герои за стенами и экранами пластинок, комиксов и постеров, он прячется в своих книгах только за самыми любимыми вещами и интерьерами. И эти символы только подчеркивают внутреннюю клаустрофобию, хватают за горло, душат…
Сам автор, правда, не согласен с критиками: «Я не беззаботен, и я — не певец метрополии. Есть вещи, которые мне категорически не нравятся, я живу в плоти и крови, и у меня есть реальный жизненный опыт. Я обманывал других людей, люди обманывали меня… Однако, я считаю: стоит критиковать какие-то аспекты наших современных городов. Такая жизнь потребления и наслаждения не может продолжаться вечно. Настанет день, и она рухнет и исчезнет…»
Школьные годы «послевоенного ребенка» Харуки Мураками пришлись на 1960-е — эру вьетнамской войны, студенческих диспутов и оголтелого политиканства. А кроме того — беспрецедентного эмоционального выплеска, своим носителем нашедшего универсальное средство: рок-музыку. О раскрепощении чувств, символическим пиком которого стало «лето любви», мы скромно, как и сам Мураками, умолчим. Это поразительное сочетание несвободы (политика) и свободы (музыка) и породило на свет тот поверхностный безбашенный и бесшабашный нигилизм, под которым таилась бездна отчаянья.
В 1968-69 годах идеологические распри японских университетов вылились в создание «Всестуденческого Конгресса Разногласий», активное участие в деятельности которого принимал Харуки Мураками: в отличие от существовавших тогда органов студенческого самоуправления, это были дискуссионные группы, основанные новыми политическими партиями левого толка и неорганизованными одиночками. Старшее поколение родителей в то время утверждало: «У нас есть только политика», — а молодежь резонно отвечала: «А мы еще слушаем "Битлз"». Однако уже следующему поколению «молодой шпаны», свято верившей, что у нее есть только музыка и ничего кроме, «бэби-бумеры» могли, не кривя душой, сказать: «Но у нас есть еще и политика». К началу следующего десятилетия такие актуальные вопросы выдохлись окончательно. Пришла пора выпускных экзаменов.
Протагонисту Мураками в 1967 году исполнилось 20 лет, в 70-х он откроет то ли переводческую, то ли рекламную компанию, возненавидит свою работу, поскольку она станет его единственной точкой контакта с обществом. Мальчик так и не повзрослеет. Мальчик не захочет взрослеть никогда. Такое вот замедленное развитие. И хотя все книги Мураками — в сущности, об этой «поре взросления», мы почти не видим в них родителей или семей героев — вообще никого из «поколения отцов». В феврале 1980 года он так писал об американском фильме «Молодое поколение» в журнале «Кинема», считая, что появление родителей в нем уничтожило его: «Юность или так называемое отрочество основаны на вымысле. Навязывать им окружающую реальность чревато полным провалом. Нужно не описывать ее, а выражать — и как можно точнее». Чем не исчерпывающее толкование «Ветра» и «Пинбола»? Связь времен? Ну-ну… Питеру Пэну это в голову не приходило.
И не забудем об отчаянии. Водораздел «бэби-бума» пришелся в аккурат на пору взросления: 1970 год, точка отсчета «Трилогии Крысы». Заметим, что именно тогда, вместе с необходимостью дальнейшего выбора «жизненного пути», в теле Крысы начинает формироваться «овца» — трагический символ, который отдельные критики интерпретируют как позыв к традиционно японской авторитарной власти. Решительностью и мужеством (т.е. — самоубийством) Крысе удается спасти мир от нечисти. История «овцы», разумеется, на этом закончиться не могла, но генезис образа, обозначенный в «Ветре» и «Пинболе», достигший кульминации в «Охоте на овец» и еще отдающийся смутными реверберациями в «Дэнсе», по словам Кавамото Сабуро, подвел Мураками к необходимому ключевому выводу: «Овца равна революции и самоотрицанию».
В такой атмосфере эмоционального бреда отчасти и формируется стиль Харуки Мураками. Он отказывается от методов выражения и манеры презентации поколения родителей, коллекционирует символический городской хлам настоящего и немедленного, надевает саркастическую маску натужного веселья. И принимается «рассказывать истории», превращая ужас современного мира, с которым сталкивается любой выпускник университета, в простое и понятное «счастье» нескончаемого потребления. Казалось бы. Его собственные чувства и совесть остаются под личиной «адвоката дьявола», а нам показывают зеркало, в котором не отражается ничего, кроме плоской реальности дорожных знаков и рекламных вывесок более не одушевленного, зато очень современного настоящего. Наступает Эра Пустоты, в которой парит Дух Метрополии.
Не только японцы называют нынешнее время «Эрой Пустоты» — в 1980 годах в Соединенных Штатах даже сочинили термин «нет-поколение», удобно обозначив им тех, кто ни к чему не стремится: они не курят и не пьют, воздерживаются от мяса и даже не носят никаких украшений. Такие люди слишком отчетливо осознают себя крохотными незначительными сущностями гигантского социального института Метрополии, а потому им нет нужды слишком явно выражать свои эмоции и пристрастия.
У персонажей Харуки Мураками есть, разумеется, любимые джазовые пластинки, иностранные романы, марки пива — тривиальные игрушки, которых хватает лишь на то, чтобы оборудовать «детскую комнату», где можно жить в полном довольстве и счастье. Например, в «Пинболе» герой — «я» — живет с сестрами-близнецами, и ему завидуют окружающие, но едва ли их отношения можно называть нормальными взаимоотношениями полов. Безымянные пронумерованные сестры в одинаковых майках из нового супермаркета сильнее всего напоминают куколок Барби. «Мы» в романе не занимаемся любовью — «мы» лишь убаюкиваем друг друга. Неплохо, конечно, и так…
Да и отношения «меня» с Крысой очень похожи на дружбу Снупи и Вудстока — наверное, самых любимых у автора персонажей комиксов, созданных Чарльзом Шульцем в 1950 году. Девиз Снупи: «Мне наплевать на тебя, поэтому и ты меня не трожь, будь добр». Явных родителей у него тоже нет — как и у Чарли Брауна. Снупи не любит спорить, он только валяется на крыше своей будки, смотрит в небо или просто спит. Герои Мураками не любят спорить, сидят в машинах, смотрят на море или просто спят. Правда, они еще любят готовить себе еду, но все равно — если хотите сделать Харуки Мураками комплимент, не говорите: «Ваши романы отражают ментальность молодого поколения». Скажите просто: «Ваши герои похожи на Снупи». Ему это больше понравится. Наверное.
Японский молодежный журнал «Эй-Джи» однажды представил книги Мураками своим читателям так: «Детали очень ярки, стиль письма — гладкий. Даже чужеродные эпизоды не нарушают этой гладкости, а лишь прибавляют эластичности и создают эффект жизнеподобия. Однако общую картину едва ли можно охватить взглядом… Но у некоторых все равно возникает вопрос: насколько соотносится эта беззаботность в отношении к жизни с реальностью нашей необходимости выжить в ней? Тем не менее, уже слишком много романов сплетено из языка такой реальности. Почему же мы не можем быть более открытыми, почему нельзя шире и глубже исследовать возможности такого анти-традиционного романа?»
И на самом деле: счастливый альянс языка и рассказчика к настоящему времени совершенно распался, и насколько же пустой предстала перед нами эта так называемая «живая реальность». Реальность мира и жизни намного отстала от реальности знаков и символов. Тем незначительным «маленьким людям», кто это понимает, язык больше не кажется принадлежностью сюжета — он сам становится сюжетом: минимальный «аварийный запас» выживания городского обитателя, кольчуга урбанистического Дон-Кихота, сплетенная из цитат и имен, головоломка из очеловеченных фраз — «я тебя люблю», «больно», «одиноко». Их все, вместе с именами «культурных икон», с готовностью вербализует городская элита — и, как рекламные слоганы или брэнды товаров, сложенные вместе или сопоставленные друг с другом, они имеют очень мало смысла. Ибо под ними — все та же серая клубящаяся пустота автостоянок и брошенных строек.
Видимо, из Харуки Мураками получился бы хороший джазовый критик или дизайнер. Иноуэ Хисаси так описывал роман «Пинбол-1973»: «Ежедневные эпизоды осени, выраженные через хорошо продуманную аранжировку, но без претензии — как готовая джазовая пьеса». «Слушай песню ветра», с другой стороны, Кавамото Сабуро считает не «художественным романом» в полном смысле слова, но книгой разговорной, болтливой. Мы просто болтаем о том, что приходит в голову, пока перед нами и с нашим участием проходят эпизоды нашего существования. День за днем. Только части головоломки все же не до конца совмещаются друг с другом, и цельной картинки в конце мы не получаем. Работы Мураками фрагментарны навсегда — осколки, просто упавшие на землю перед первыми заморозками и вмерзшие в лужи вместе с бурыми листьями осени. Картину какого цельного мира, в самом деле, можно представить по ним?
Если читателя трогают эти книги, то явно не верностью цветопередачи и реалистичностью взгляда — скорее искусным использованием белого цвета и пустого пространства, паузами между музыкальными фразами. Разум читающего погружается в атмосферу разрозненных эпизодов — точно так же наша повседневная жизнь транслируется множеством каналов, и мы поглощаем отдельные сцены и фрагменты. Они проникают в нас и точно так же исчезают без следа. И мы точно так же не находим в этом смысла и уж подавно не можем контролировать процесс. Время — настоящее неопределенное. Связь времен не просто распалась — она оборвана намеренно; перед нами — лишь плоская урбанистическая поверхность жесткого настоящего.
Об американском писателе-фантасте Харлане Эллисоне Мураками как-то сказал, что его стиль можно назвать «машинописным»: «Определить машинопись довольно трудно. В общем и целом, мне представляется, что суть письма как такового — сосредоточенность и сходимость сознания. Языком машинописи, напротив, становится рассеянность и разобщение сознания. Иными словами, чтобы стало яснее: в хаосе и смешении ценностей современного мира та сущность, которая называется писателем, должна что-то упускать из виду в том, что она пишет. Выразительными становятся сами пробелы. Именно это я и называю машинописью».
Мураками — писатель не нудный, этого не отнять. Он не желает развивать какую-то одну тему с непреклонностью бронепоезда — конечно, вытаскивать кусочки головоломки и весело их разбрасывать гораздо приятнее. Но он и не мечется из стороны в сторону. Романы его обычно строятся на параллельных и противоположных эпизодах, точно он сам боится свалится в пропасть «одиночества» и «абсолюта». Потому и книги его заканчиваются беззаботно и легкомысленно — но в то же время остается непереданная и непередаваемая горечь. Оттого ли такая отстраненность, что его собственные лучшие времена — позади? Или это обычная меланхолия жителя большого города, знающего, что сколько бы он ни брился по утрам, к вечеру щетина все равно вылезет наружу?
Главная причина, однако, наверное, все же в том, что ему слишком хорошо известно о существовании современного «эпизодического ада», по необходимости противопоставляемого «аду личному». Хотя ему самому — его герою — «я» — удается довольно успешно и счастливо выживать в хаосе фрагментов нынешней Эры Пустоты, разробленность и противоречивость этих фрагментов истощают силы, срывают по ночам с якорей, насколько хорошо бы ему ни удавалось к утру перезаряжать аккумуляторы и снова насвистывать в ванной веселенький мотивчик. Все как у нас, в общем. От пустоты и суетной бессмысленности не убежать. На выездах из города затруднено движение.
Стиль Харуки Мураками сейчас довольно безошибочно можно определить даже по одной странице. Знаки и сигналы просты: например, крайняя абстрактность диалогов его персонажей — до афористичности. В реальной жизни такие реплики, наверное, звучали бы претенциозно, но в разреженной атмосфере книг Мураками они до предела реальны, они звучат живее и естественнее, чем многие из наших разговоров перед телевизором или на кухне. Но автор пускается еще на одну хитрость: такие диалоги встраиваются в анти-реалистическую повестовательную канву.
Наверное, так и нужно: тот, кто стремится воссоздать «внутреннюю реальность» своих персонажей, неизбежно в языке предпочтет абстракцию и анти-реализм. Нагой индивид в современном урбанистическом обществе так лучше кристаллизуется. В аллегорию или афоризм — итог определенных наблюдений, теоретических выкладок банальных и стертых фраз.
И еще одна характерная черта — «детскость» его персонажей. Естественная человеческая доброта, богатое воображение, шаловливые сравнения и описания становятся игрой, которая не перестает удивлять и раздражать читателя: господи, ну когда же он повзрослеет? Цифры и несопоставимые пласты реальности, якобы значимые для описания состояния героя, — разновидности такой игры, доходящей иногда до полного абсурда. А вы как хотели? Мураками — не тот человек, кто будет писать серьезно о серьезном; но к важным для себя темам он не станет подходить легкомысленно. Он лучше рассечет сложную ситуацию на головоломку простых фрагментов, а каждый эпизод лишит его стандартной привычной ценности — и покажет вам вне зависимости от того, чего тот на самом деле стоит. Сами разберетесь, не маленькие. Цифры абстрактнее языка и требуют иных порядков мышления, а несопоставимость — сама по себе принцип дзэнский, ведь и коаны — не что иное, как короткое замыкание совершенно разных проявлений реальности друг на друга. Не думаю, что дневник подыхающего от скуки подростка из пригорода Токио был бы более познавательным чтением. А двойные структуры Мураками насквозь пронизаны аллегориями.
Детскость героев проявляется и в другом: ну кому, скажите на милость, придет в голову прилагать такие усилия, чтобы ехать на далекую станцию просто посмотреть на собак на перроне, или переворачивать вверх дном чуть ли не всю Японию, чтобы найти старый игральный автомат? Детское любопытство, дух изыскательства, любовь к приключениям — да, все правильно. Но — зачем? Зачем мы вообще совершаем на первый взгляд бессмысленные поступки? Только ли для того, чтобы заполнить пустоту внутри и раскрасить пустоту снаружи? Или это тщетные попытки обрести утраченную невинность отрочества и по-детски ясно взглянуть на мир, хорошенько постаравшись забыть, что он сильно изменился? «Том? — Нет ответа. — Том? — Нет ответа. — Куда же подевался этот несносный мальчишка? Том!» Куда же мы, черт возьми, все подевались, а?
Одинокий голос человека
Для меня читать романы Мураками — как снова и снова переживать любовный цикл. Это любовь, обреченная на неудачу. В начале мы страстно влюбляемся в его книги. Дойдя до середины, начинаем сходить с ума — точно напились допьяна, — и нам даже хочется, чтобы книга не кончалась. А к концу в нас вползает печаль: мы начинаем понимать, что эта любовь — книга — неизбежно подойдет к финалу. Но мы смело пускаемся в окончание романа — нам же любопытно, что произойдет в самом конце. И в то же время знаем — разлука близка.
Мы всегда испытываем к книгам Харуки Мураками одни и те же чувства, ибо книги его напоминают всю романтическую любовь в этом мире сразу. Но как бы мы сами ни старались, как бы глубоко и истинно ни переживали, Судьба возьмет свое.
У меня с книгами Мураками — любовь. Как, на самом деле, и у большинства из нас. Этим чувством и объясняется, почему мы так легко покупаемся на ту печаль, которую создает в них автор. Каким бы ни оказался конец — счастливым или грустным, — у нас остается лишь ощущение безысходности, комок в горле и слезы на глазах.
Все из-за Харуки Мураками.
Толпа
«В принципе, все, что я говорю, очень мало кто понимает. Потому что большинство людей вокруг меня думает как-то совсем по-другому. Но я для себя все равно считаю свою точку зрения самой правильной, поэтому вечно приходится всем всё разжевывать…»
Я прочел почти все книги Харуки Мураками. Когда его еще не переводили на русский, читал по-английски. Долго и преданно. И могу точно сказать: врет. Хитрит. Увиливает.
Все его отлично понимают. Потому и любят его книжки чуть не до судорог — и не только как реквизит для знакомства с умненькими девушками в модных кафе. Потому и стучится ровный голос его героя в национальное подсознательное. Тук-тук. Ку-ку? Узнал меня? Я — это ты.
Я точно такой же, хоть и живу в стране восходящего светила. На самом деле, светило вот уже некоторое время бесповоротно закатывается. И для тебя, дружок, оно тоже закатывается — только ты пока этого не знаешь в своей бескрайней европейской Сибири. Или бескрайней американской Монтане. Ты просто боишься признаться, что рождаешься в уже мертвом мире — это в детстве он еще не кажется таким мертвым. А потом ты становишься старше, начинаешь ходить в бары и кино, открываешь с приятелем рекламную контору…
И постоянно хочешь вернуться назад, в свое акварельно-пастельное детство. Снова услышать песню ветра, сыграть в пинбол. Вот только не очень получается. И от этого тебя клинит, крючит и тормозит. Ты не можешь внятно выражаться и вообще предпочел бы не видеть никаких людей, кроме тех, что еще живут в твоей голове. У тебя приступы эхолалии, тебя прет по детскому буквализму и тебе очень трудно удержаться от разжевывания до-ломоты-в-зубах-банальных вещей, которые кажутся откровениями разве что тебе самому. Да и разжевываешь ты их преимущественно самому себе — все равно рядом больше никого нет, все умерли. Даже слишком взрослая тринадцатилетняя девочка, твой единственный собеседник.
Все вокруг давно умерли для каждого из нас.
Тогда почему же мы все равно слышим мертвую песню этого марсианского ветра?
Потому что у нас есть уши. И не только затем, чтобы слушать Вивальди, джаз или старенький рок-н-ролл — чем старше и ближе к детству человечества и ХХ века, тем лучше. Ухо у Мураками — явная метафора возврата в крайнее детство, материнскую утробу. Недаром у еще безымянной в «Овцах» Кики, которую критики сильно хвалили за «выпуклость и убедительность образа» (чуть ли не первого реального женского образа в японской, такой «нефаллоцентричной» литературе), ухо — единственная по-настоящему выпуклая и убедительная черта. Остальное — мираж. Все правильно, писатель вообще очень старался над женскими образами — но почему же они тогда чуть ли не во всех его книгах пытаются поскорее себя убить? Наверное, у женщин тоньше кожа, наверное, им сильнее хочется назад, и окружающий мир им нестерпимее. Попытки же автора усилить женский образ в «Пинболе» за счет энди-уорхоловской редупликации — довольно хромые, надо признать. Там стерео все равно в конце выключили: фантомы остались фантомами и так и уехали в свое призрачное никуда.
…И вот в это ухо-вагину главный персонаж Харуки Мураками — он сам, не иначе — и пытается безуспешно вернуться на протяжении нескольких романов. А когда не получается, влезает в ухо другим призракам — нам с тобой. Говорит, рассказывает, разжевывает. Но, наивный, думает, что дойдя до простых истин своего биологического одиночества в мире собственным «кривым, глухим и окольным» путем, уже «оттуда», из приобретенной «мистической мудрости» своей, а на деле — обычной и житейской, сможет что-то объяснить. Рассказать остальным фикциям разума, как срезать углы, сможет нанести на карту ориентиры — бар Джея, отель «Дельфин»… Он же писатель, елки-палки, — значит, должен писать, правило такое. Но не понимает, что лишь топчется на месте — выходит то невнятная метафизика, то банально, то просто проповедь. Да и не вернешься этим путем в детство — скорее, пожалуй, наоборот.
И мы топчемся на месте вместе с ним. Почему японский шестидесятник (по внутреннему ощущению) и семидесятник (по внешнему результату) вдруг так попал на волну в России только в середине 90-х? Дело не в подвигах переводчиков и разведчиков. Просто тормозной путь у нас длиннее, чем у японцев, и темпоритм совпал лишь недавно. Интерференция альфа-излучения случилась не только у переводчиков с автором — у всех нас, у городской массы, а насчет сельской местности врать не буду.
Весь этот «новый экзистенциализм» Харуки Мураками и его инфантильных персонажей — одна сплошная попытка вернуться в детство, «родиться обратно». «Возврат в утробу» характерен для всей японской литературы, объясняют нам. Но Мураками-то в детстве читал другие книжки, и от «старого», классического экзистенциализма теперь мало чем отличается: там, где корнями вросшие в европейское общество камю и сартры, отрицая свою «ангажированность», кидались на пол и в детской истерике капризничали и колотили ногами по ковру, Мураками, едва ли не прочнее вписанный в еще более жестко структурированную действительность, дуется на весь свет, капризничает и аутично забивается в угол. Разница в темпераменте, не больше. А мир — мир за последнее время стал еще гаже повсюду. Были, знаем.
Ну а мы с тобой, дружок, мы-то тут где? Мы с тобой — те самые монстры, которые по-детски до сих пор мерещатся под кроватью. Ведь в «мирах Мураками» нет ничего вокруг — есть только мое малышовое испуганное я. Нет «героя своего времени». Нет «прочувствованной и осознанной позиции» — есть маленький человечек, и ему по-настоящему страшно. Одному. Потому что ни толпы, ни тем более читателей вокруг тоже нет. Вернее, ему до них нет дела, как никому другому в этих многомиллионных метрополиях нет дела до него. Они — такие же чудовища.
Поэтому, среди прочего, абсолютно все равно, где происходит действие романов Мураками — а мы-то с тобой все удивлялись, почему у него Япония такая неяпонская, почему пицца, «Битлз» и Снупи. Ах, новое открытие Америки, ах, космополит... На самом деле, свои местные Дзюнитаки не просто в голове у каждого из нас — мы сами и есть эти самые «двенадцать водопадов». И Человек-Овца — тоже мы. И коммутатор из «Пинбола»… А похоронили они его с девчонками-близняшками не зря — в «Дэнсе» Мураками попробовал оживить железку снова, но получилось плохо, энергии хватило только на призрак, да и тот не работал, не коммутировал… Наверное, оказалось просто некого и не с кем.
И мы с тобой не просто ведемся на его рассуждения за жизнь и пытаемся найти глубокий смысл там, где его не может быть, — мы в упор не видим, вернее — не слышим этой банальности бытия, сквозящей из всех «пауз в словах». Ведь почему мы с тобой иногда не можем оторваться от мыльных опер по телевизору? Там все линейно, иначе мы не ловим смысл — не успеваем. Тормозной путь глаза длинный. Почему так любим обласканные в модных журналах книжные серии длинных замшелых романов, а коротких стихов почти совсем не читаем? Все потому же — в толстых книгах есть где разогнаться уху и хоть что-то расслышать… А постоянное подспудное ощущение тотального фак-апа — это скорее для детей, которые только начинают понимать, что они в мире остались одни, и мама их обратно больше не родит.
И мы жуем ириски, по вкусу похожие на неоднократно пережеванный чуингам, — да так, что за ушами трещит. И пролетает мимо этих ушей простое и беспафосное авторское: да, мой герой — мечтатель, мозгляк-интроверт, банальный лузер, я сам — такой же банальный лузер, у банальных лузеров есть своя литература, и она — вот такая. За что меня на родине терпеть не может писательская элита и боготворят массы — потому что все они такие же «бата-кусаи» и банальные лузеры. Я просто показываю им форточку и даю подышать воздухом остального призрачного мира, послушать старую музыку, чтобы они смогли узнать припев. Но это ведь не главное — это я им просто кости швыряю, шевелю ложноножками, только бы не подумали, что я никогда не жил. Главного они увидеть, наверное, и не должны. Того, что мне — страшно.
Мураками, такой недалекий, но симпатичный, совсем как мы с тобой, не боится не скрывать своей растворенности в толпе. Или ему в голову просто не приходит ее прятать. До ответов на вопросы собственных книг он еще не дожил, ибо пока не умер. Но, к своей писательской чести, продолжает вести этот репортаж с петлей на шее, честно описывая это безысходное существование как оно есть, в процессе. Подводит к вопросам, а не задает и тем паче — не отвечает на них. Такое себе приглашение к танцу. Invitation to the blues. А дальше он пока не придумал.
Оттого-то и тоска, оттого и блюз неплохого человека, которому довольно фигово. Такого же маленького человека из толпы, как ты и я, дружок. Которому хочется стать еще меньше, а никак…
Такие вот грустные сказки. Для старшего школьного возраста.
(Сокращенная версия довольно старого предисловия к первым романам сэнсэя).
Эта бесконечная гирлянда
"Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда", Даглас Р. Хофштадтер

Хофштадтер — великий воин в борьбе за человеческий разум. Книга эта больше всего напоминает пульт дистанционного управления, которым он пытается программировать человеческое мышление — терпеливо, кропотливо, обстоятельно, разъясняя и нажимая на все кнопки в нужной последовательности. Видеомагнитофон — т.е. мозг — пассивно этому сопротивляется. Все как в жизни.
Я недаром выбрал низкотехнологичную метафору. «ГЭБ» — приключения на границе человека и машины. В конце 70-х интерфейс этот был вполне широк, и автор для описания применяет аналоговые слова. Сейчас, похоже, он стал гораздо уже, тоньше, заточенней. Это натуральный Bleeding Edge. Но для понимания перехода от одушевленного к неодушевленному — которое мы сейчас склонны принимать как данность — эта книга, я бы решил, совершенно необходима. Но только если действительно нужно и/или хочется это понять.
Общее замечание: читать трудные книги полезно для здоровья. Если даже вы их не очень понимаете, они тренируют мускулатуру — обогащают душу и развивают мозги. Конец выступления Капитана Очевидность. Теперь читерская подсказка: неисправимым гуманитариям здесь можно читать только главы о безумных, как Кэрролово чаепитие, приключениях Ахилла и Черепахи, а все про науку, формальную логику и дзэн-буддизм просматривать по диагонали. Соблазн очень силен, но хочу заметить, что таким читателям в интеллектуальном аду уже приготовлены особые котлы. Честнее бросить на полпути.
Постскриптум специально для переводчиков: знать, что происходит у тебя в голове (не на химическом и не на физиологическом уровнях), как там все устроено и как оно работает (или должно работать), наверное, нужно и полезно, однако губительно и чревато полной остановкой работы. Я предупредил.
Восемь тезисов о современной ёп-культуре
"Хедлайнеры. 8 главных артистов и продюсеров России", Александр Кушнир

1. Верить Кушниру не обязательно. Верить Кушниру даже иногда неполезно для здоровья — поговоришь с ним, бывает, и понимаешь, что тебя укачало. Посмотрите на логотип его компании: очкасто-зубастый геликоптер (была такая марка динозавров, мои маленькие читатели) без намека на рессоры и мягкие сиденья, зато с чем-то подозрительно похожим на сопла ионных ускорителей. Верить Кушниру — себе дороже: уболтает так, что мало не покажется. На этом строится весь PR-бизнес, а вы чего ждали?
2. Все истории Кушнира «проходят литературную обработку». Я очень люблю жанр «заливистого трепа» — люблю как потребитель, сам, увы, не преуспел. Kushnir is a natural, что не может не вызывать уважения на грани с истовым поклонением эдакому талантищу. Когда же редактировать текст вербуется другой ас вербального пилотажа — Сергей Геннадьевич Гурьев, патриарх русской прикладной культурологии и, фактически, отец нынешней музыкальной критики, — результат просто-таки вьет мертвые петли. Потому что Геннадьич еще в 80-е делал читабельными самиздатские телеги и прогоны любой степени бредовости, разбрасывая тут и там свои фирменные мелкие хуевинки (видите, я тоже так делаю). Дмитрий Евгеньевич Галковский тогда нервно курил в подвале.
3. За творческим путем Кушнира я стараюсь следить вот уже лет двадцать, и наблюдал из своих дальних своясей практически все его вехи — от младшего члена редколлегии журнала «КонтрКульт'Ура» до великого «спин-доктора» в блестящем галстуке и накрахмаленной сорочке. За всем, правда, с Кушниром не уследишь — это просто физически невозможно. Но личного в моем восприятии «Хедлайнеров» ничего нет: наш последний с Кушниром продолжительный персональный контакт случился на фестивале «Полный гудбай» в Киеве, в 1990 году, когда Кушнир пригласил меня в 8 утра на завтрак в родительскую квартиру. Посреди вполне рок-фестивального рок-фестиваля это… освежало. Само собой, с папой автора я не единственный так знакомился. В книжке про это есть. Видимо, это у Кушнира был такой аттракцион.
4. В «Хедлайнерах» рисуется традиционная схема построения отношений Кушнира и Артиста. Сначала судьба, помимо воли участников, сводит Кушнира с Кем-то. Потом Кушнир придумывает Артиста с нуля, полюбляет его всей душой, жизнь за него кладет, переживает 19 нервных срывов и столько же сердечных приступов. Потом Артист начинает много о себе мнить, выебываться и отказываться от «счастья-всем-даром» в лице Кушнира. Артист и его Пресс-Агент расстаются, градус накала их чувств при этом варьируется непредсказуемо. Этот композиционный прием используется во всех главах «Хедлайнеров», кроме двух. В последней Илья Валерьевич Кормильцев просто взял и умер, не доведя отношения до логического конца.
5. А в первой, как многие уже заметили, явно воспевается «хедлайнер» № 1 — сам Кушнир. Логично же: на обложке заявлено 8 хедлайнеров, а фигурантов всего семь (один мультяшный — некая Глюкоза, — но все равно). Не менее очевидно и то, что, явно не будучи ни артистом, ни продюсером, Кушнир уже столько лет остается при деле. Казалось бы, так не должно быть, ха-ха, но взгляд его ловят, понимая, что все это глупо и странно, новые и новые люди и сущности (см. список клиентов и проектов). На самом деле, все здесь просто: в царстве слепых одноглазый — король… нет, что это я: в нашем очень сложном мире правит очень узкая специализация… черт, опять не то.
6. Во: в нашем очень сложном мире ни хуя уже не правит. У нас — экономика внимания и политэкономия трепа. Иными словами: кто смел, тот и съел. Кушнир большой мальчик, хорошо кушает. Я, упаси боже, не осуждаю — это констатация. Без пресс-поддержки никакой гений сейчас не станет Артистом. Я не говорю, что это плохо и, дескать, раньше (когда? в 60-е в Англии? в 80-е в СССР?) было как-то лучше. Просто сейчас это стало важнее до той степени, когда само зерно таланта становится избыточным, а в поп-музыке продаются не музыка и слова, и даже не сиськи или умение танцевать чечетку на битом стекле, а «уникальное торговое предложение» и «креатив». Иными словами, идет торговля кукурузными фьючерсами. И почему звездой не стать в таком случае брокеру?
7. Наверное, это не очень страшно. У нас больше нет ни героев рок-н-ролла, ни «молодой шпаны», а есть эстрадные певцы и певицы разной степени востребованности. Исключения лишь подтверждают правила, но источник «креатива», как показывает практика, рано или поздно пересыхает. Не удержусь: раньше вот, конечно, бывало проще. Тогда у нас было колесо сансары, сменяли друг друга «культура» и «контркультура», а сейчас наступила на нас полная нирвана, и даже попытки определить — не то что заклеймить — «попсу» как «попсу» выглядят дурно срежиссированным хулиганством и воинствующей неискренностью. Знаете, почему? Потому что не у всех такой пресс-агент, как Кушнир. Ну и все возможные субкультуры, конечно, гомогенизировались донельзя. В царстве слепых… но это я уже, по-моему, говорил.
8. Нам отчасти проще, потому что мы примерно помним — не сожженными алкоголем, не закопченными планом и не заплывшими жиром рудиментами мозга, — кто чего когда-то стоил. Не сколько стоил — чего, это важно. Кому «Аквариум» «Равноденствием» кончился, а кому история величайшей русской группы и ее лидера-орденоносца с этого кособокого плода любви Ленинградского рок-клуба и фирмы «Мелодия» только началась. Бывает, да. Но ведь те, кто придут после нас, — они ведь прочтут книгу, например, Кушнира (если в ней, то есть, для них не окажется «многабукоф») и у них сложится представление (если они, то есть, окажутся способны свести тезу с антитезой), что Максим Фадеев и Илья Кормильцев, Глюкоза и тот же Бе-Ге — фигуры равновеликие. Что Илья Лагутенко и Катя Лель вскопали одинаковые грядки в садике поп-музыки начала XXI столетия. Понимаю, что тут, видимо, дело вкуса, но вот от такого, блядь, безоценочного релятивизма все же неприятный холодок по спине.
А читать «Хедлайнеров» стоит хотя бы потому, что Кушнир излагает очень увлекательно. Заслушаешься. Пусть кто-нибудь попробует сказать, что у них это не семейное — вековых традиций ёп-культурой не перешибешь. Велик соблазн всякий раз толковать букварь заново, пусть Талмуд в итоге и получается гм… несколько постмодернистским.
Перекуем мечи на орала. И будем орать, а не метать
«Краткая история тракторов по-украински», Марина Левицкая
Сначала Марина Левицкая собиралась писать книгу о маме. Но получилась «Краткая история тракторов по-украински» — магический роман, взявший штурмом вершины книжных хит-парадов Европы и Америки, книга, заставляющая одних и читателей и критиков яростно негодовать, других — хохотать в голос, третьих — стыдливо ежиться. На литературной карте мира после «Оранжевой Украины» появилась новая страна — Украина в эмиграции.
Этот роман о тракторах и семейных тайнах сейчас модно сравнивать с «Полной иллюминацией» Джонатана Сафрана Фоэра и «Невыносимой легкостью бытия» Милана Кундеры. Но для Марины Левицкой, автора нескольких неопубликованных романов и шести практических пособий по уходу за стариками, «Краткая история» — еще и очень личная книга. Как и ее героиня, автор родилась в самом конце Второй мировой войны в лагере для перемещенных лиц, у нее тоже есть дочь и она преподает в университете; как и герой романа, ее отец писал свою историю тракторов. Но роман — далеко не автобиография. Он рассказывает не только о «скелетах в шкафах», но и о реальных проблемах иммиграции в мультикультурном мире, не только смеется над людскими пороками, но и заставляет думать о том, как нам остаться людьми в довольно бесчеловечном мире. Впрочем, решение множества загадок этой книги лучше оставить на долю читателя.
Только вот еще что… Героев книги и их поступки не стоит понимать однозначно. «Краткая история тракторов», конечно, провоцирует экстремальные реакции, — но их всегда провоцировала любая сатира, любые насмешки над косностью и стереотипами, в том числе — стереотипами эпохи «политической корректности». В намерения автора не входило кого-либо оскорблять — Марине Левицкой лишь хотелось сохранить и донести до читателя правду самой жизни. И, признаемся себе, ей это удалось. Читатели всего мира, вне зависимости от национальности, — те, кто почестнее и поумнее, — с легким содроганием узнают в героях книги себя. Им хватает мужества над собой смеяться.
Не стоило бы и судить персонажей этого загадочного романа — ни на кого из, них не снисходит мистическое просветление, никто к концу книги не становится «лучше». Только старше — и несколько мудрее. Как и рассказчице «Краткой истории», нам хотелось бы видеть всех героями, а их жизнь — историей мужества и любви. Но мы понимаем, что «в них не было ничего героического. Они просто выживали — вот и все».
Меньше чем за год после выхода «Краткая история тракторов по-украински» стала сенсацией в англоговорящей Европе и Америке. Не читать такие книги нельзя — острые, неоднозначные и волшебные, они расширяют горизонты понимания нашей реальности: в самом деле, невозможно даже представить, чтобы такой роман был написан на рубеже веков — не говоря уже о том, чтобы он завоевал признание и критиков, и читателей мира. Роман Марины Левицкой — одна из тех немногих пока еще книг, благодаря которым современная мировая литература выходит на новые границы, а «человечество, смеясь, расстается со своим прошлым».
Война не окончена
«Хороший немец», Джозеф Кэнон

Добро пожаловать в Берлин лета 1945 года. Тертый военный журналист Джейк Гейсмар чудом попадает на Потсдамскую конференцию, куда прессе путь заказан, но его задание — серия статей об оккупации Германии, а потому ему нужен сюжет. Мало того: он должен отыскать свою возлюбленную довоенных времен. Но когда на берег озера буквально рядом со Сталиным, Черчиллем и Трумэном, позирующим фотографам, выносит труп американского военного с огромной суммой оккупационных марок, Джейк даже не предполагает, что наткнулся не только на сюжет будущей статьи — он попал в самую сердцевину клубка, где сплелись страсть, ненависть, тайны трех держав и преступления, которым не может быть оправдания.
Помните, когда-то была такая невзрачная на вид книжная серия — «Военные приключения»? Ею зачитывались все от мала до велика — стояли по ночам в очередях перед магазинами «Подписных изданий», передавали из рук в руки, выстраивали на полках, аккуратно оборачивали… Казалось бы, жанр военных приключений канул в лету вместе с эпохой, и вроде бы интерес ко Второй мировой войне поугас и как-то разъелся обилием трудов, представляющих всевозможные точки зрения на всем казалось бы, известные события. На читателя обрушился вал иллюстрированных изданий, наводящих романтический флер на Третий рейх, истерических работ, развенчивающих старые авторитеты, откровенно чепуховых спекулятивных поделок… Пошел естественный процесс литературно-исторического забывания.
Но время от времени и сейчас появляются книги, со страниц которых веет реальным порохом Второй мировой. Хотя роман, который вы сейчас открываете, пахнет чем-то иным. Это едкий аромат августа 1945 года, к которому примешивается пыль разбомбленного Берлина, сладковатый запах тления из-под руин, вонь перегара и пота от усталых победителей, дым американских сигарет, что дороже золота… Но главное — пахнет опасностью, непонятным прошлым и крайне тревожным будущим. Союзники не могут договориться о переделе Германии, уже взорвана Хиросима, а перед нами на скамье подсудимых — народ, единственной линией защиты которого может стать лишь: «Виноваты все, никто не виновен».
Американский редактор и издатель Джозеф Кэнон написал один из лучших исторических триллеров о Второй мировой войне. Написал мастерски: напряженное детективное расследование сплетается с захватывающей историей любви, похожей на причудливо изломанную «Касабланку», и все это — на фоне более чем реального города, разграбляемого победителями, хотя в нем вроде бы уже нечего красть, кроме душ и умов. На фоне исторической Потсдамской конференции, ход которой нарушен весьма странным образом. На фоне преступлений настолько чудовищных, что последствия их не исчерпаны и через шестьдесят с лишним лет.
Поэтому добро пожаловать в Берлин — город перемещенных лиц и сместившихся ценностей. Война еще не окончена.
Искусство не знает запретов
«Кража», Питер Кэри

«Не знаю, потянет ли моя повесть на трагедию, хотя всякого дерьма приключилось немало. В любом случае, это история любви, хотя любовь началась посреди этого дерьма, когда я уже лишился и восьмилетнего сына, и дома, и мастерской в Сиднее, где когда-то был довольно известен — насколько может быть известен художник в своем отечестве. В тот год я мог бы получить Орден Австралии — почему бы и нет, вы только посмотрите, кого им награждают. А вместо этого у меня отняли ребенка, меня выпотрошили адвокаты в бракоразводном процессе, а в заключение посадили в тюрьму за попытку выцарапать мой шедевр, причисленный к “совместному имуществу супругов”»…
Так начинается одна из самых неожиданных историй о любви в мировой литературе. О любви женщины к мужчине, брата к брату, людей к искусству.
В более раннем своем романе «Моя жизнь как фальшивка» (2003, рус. пер. 2005) австрало-американского писателя Питера Кэри искусство оживает, чтобы мстить своему творцу. Тема, скажем прямо, дьявольская, хоть и проверенная веками. Вспомним чудище Виктора Франкенштейна. Человек любит творение рук своих до самоубийственного самозабвения — до того, что не замечает той грани, за которой его человеческое естество перестает быть всего лишь биологически организмом и превращается в чистую идею или чувство. «Не дай нам Бог сойти с ума» — наверное, примерно об этом. Только для героев «Фальшивки» «посох и сума» оказываются гораздо менее предпочтительным выбором. Результат, впрочем, известен — открытый финал…
Через три года Кэри заканчивает и публикует «Кражу» — «историю любви», как сам автор лукаво обозначает жанр на титульном листе. Эту книгу, наверное, можно воспринимать как выстрел из второго ствола. Этакий дуплет по сакральному, по самому бессмысленному роду человеческой деятельности — творчеству. В «Краже», предупредим сразу, все происходит ровно наоборот. Человек… ну хорошо, пускай творец — возвращается «к себе естественному», вновь обретает почти забытую в пароксизмах творчества способность жить, страдать, любить… Забытую ли? Ибо какова биологическая подоплека того, что мы именуем «поэзией», «живописью», «музыкой»?
Питер Кэри лукаво уходит от ответа (а если вы думаете, что в этом кратком монологе мы изложили вам суть, лучше прочтите книгу — потом и поговорим). Возможно, тема найдет свое продолжение и развитие в следующих книгах, и двумя выстрелами по человеческому искусству дело не ограничится. Тогда нас, видимо, ожидает шквальный огонь или ковровая бомбардировка.
Серж Генсбур, счастливый человек
"Евгений Соколов", Серж Генсбур
Это будет не о книжке, а о ее авторе. Хотя что бы ни сказали уже о Генсбуре, окажется неправдой.
Что бы ни написали о нем, неизбежно будет повторением. Таково свойство живых легенд, становящихся мертвыми мифами.
Серж Генсбур, жизнь которого сейчас кажется нескончаемой чередой скандалов и вызовов обществу, сдался своему неуемному сердцу десять лет назад. Жизненная статистика очень проста -- осталось больше двухсот песен и примерно столько же колоритных историй, которые хочется пересказывать друзьям.
В самом начале его поддержал Борис Виан, один из основателей школы шансона Сен-Жермен-де-Пре. Виан разглядел в пианисте кабаре «Милорд д'Арсуй» личность, полную очарования цинизма и черного юмора. Сочетание, близкое самому Виану -- лиризм и мизогиния, нежные лилии, растущие из легких, «женщинам не понять». Недаром Виан, представляя слушателям одну из первых -- теперь уже коллекционных -- 25-сантиметровых монофонических пластинок пианиста, решившего, что лучше него его песен все равно никто не споет, говорил о необходимости «орать против -- против ложных песен и против лжи в песнях». Искренность своего уникального голоса тоже может быть модной.
Для высоколобой публики Левого Берега в конце 50-х годов Генсбур оказался находкой -- Мишель Арно и Жан-Клод Паскаль, видимо, уже начинали утомлять искушенный слух. А у Генсбура, только начинавшего путь к полному воплощению собственного эго, уже в самых ранних песнях сквозил веселый фатализм -- «к черту торпеды, полный вперед...»
Критиков и коллег привлекали его наблюдательность и восприимчивость ко всему новому. Он быстро впитывал и адаптировал музыкальные идеи, превращая их в талантливые свежие мелодии: собрание его песен -- почти энциклопедия музыкальных стилей конца века. Он не опережал слушательскую моду на ту или иную разновидность музыки -- он ее разрабатывал и делал собственно модой. Делал музыку.
Его называли смелым экспериментатором просто за то, что он пел не на выхолощенном академическим бдением стерильном французском, а говорил со слушателями так, как они разговаривали между собой за столиками кафе на Левом Берегу. До Генсбура никому не приходило в голову петь песни, в которых обыгрываются названия небоскребов Нью-Йорка или пузыри диалогов из комиксов, хотя Америка оставалась прекрасной мечтой об иной культуре для тысяч французских меломанов. Генсбур написал для них яркую поп-артовую икону.
«Ужас обыденности» -- постоянная мишень его песен, от «сиреневого контролера» из метро до «моего легионера». Этот ужас не давал ему покоя всю жизнь, его он отторгал, пускаясь в хорошо отрекламированные излишества, его высмеивал зло и скабрезно. Дело поэта -- всегда быть против того, что его окружает. Генсбур даже курил безостановочно «из ненависти к кислороду». А на другом конце провода противостояние лирика и мира понимается только как скандал и намеренный эпатаж. Сплошной «Реквием по пизде».
Этот порочный круг замыкался в его отношениях с женщинами, казалось бы, становившимися реквизитом его практических шуток над обществом. Юная Франс Галл обиделась за «анисовые леденцы», Брижит Бардо -- за то, что Генсбур записал на пленку ее оргазм. В жизни Генсбура было много блистательных женщин -- Джейн Биркин, Катрин Денёв... Можно было бы сказать, что эгоманьяк Гинзбур просто использовал их. Но. В своих мемуарах «Инициалы Б.Б.» (1996) Брижит Бардо тем не менее написала о своем былом возлюбленном: «То была безумная любовь -- такая любовь бывает только во сне, любовь, которая останется в памяти и у нас, и у них...» Публика постоянно оставалась третьим и далеко не лишним партнером любовной игры Сержа Генсбура. «Нравственность -- газ по всем этажам,» как он написал в 1979 году в своей версии национального гимна Франции.
Другой великий иконоборец другой страны, Уильям Барроуз в конце жизни написал: «Людям и критикам нравится думать, что я в отчаянии, поскольку им очень не нравится считать тех, чей образ жизни они не одобряют, счастливыми людьми... Фройд говорит, что единственные счастливые люди -- те, чьи детские мечты осуществились. Опасность в том, чтобы пройти по жизни, ничего не видя».
Наверное, за 63 года жизни Серж Генсбур все же стал счастливым человеком.
Некоторая версия этого текста была когда-то опубликована в газете "Алфавит" (кажется).
Идеальные бродяги
"Луна неизменная", Д.С. Литерас
Это сага об идеальных бродягах: такими были бы битники после Вьетнама, еще более сломанные, но не менее живые. Очень жалко, что этой книжки не было у нас в начале 80-х, потому что Льитерас мог бы научить нас гораздо большему, чем какой-нибудь Ричард Бах, к примеру. Он гораздо беспонтовее и честнее. Хотя нынешней молодежи, у которой "духовный шоппинг" (а не тяга к знанию), трудновато будет ассоциироваться с бомжами средних лет, а нам, бомжам средних лет, уже не очень нужна дзэн-индоктринация. Но я бы рекомендовал Льитераса в обязательный курс всем искателям истины.
Но духовность и метафизика - ярлыки на этих романах, несколько вводящие в заблуждение. Это не пособие по духовному росту/поискам, это все же честная литература в битницкой традиции (недаром на полке у главного героя - Керуак и Бротиган), и мне кажется, как таковую лучше эту трилогии и рассматривать (целее будете). Герой-рассказчик - битник с Вьетнамской (а не Второй мировой, и в этом все различие) войной в анамнезе, он точно так же стремится к пониманию (не просветлению), старается обнять и постичь жизнь как есть, мотаясь взад-вперед по стране. Ну и, что немаловажно, у него, в отличие от персонажей Керуака, нет художественных амбиций.
И этим проза Льитераса похожа на прозу Буковски - непритязательно крепкая, высочайчей дисциплины лирическое высказывание, когда из жизненного потока выбираются только строго необходимые для замысла детали. В этой дисциплине Хэнку часто отказывают поверхностные читатели. Вот и здесь за обманчивой простотой распознать ту же дисциплину будет не очень просто (если не сложнее, чем у Хэнка, хотя внимание читателя не будут отвлекать "нижние чакры" - здесь, напротив, легче будет улекаться "духовным"; в общем, неизвестно, что лучше). И это лирическое высказывание не стоит путать с "акыническим" - мол, что вижу, о том пою: даже Керуак так не поступал, у него просто дисциплина высказывания отличалась.
На русском существует только первая часть "трилогии Роберта Льюэльина", собственно - вот эта. Очень жалко, что продолжения так и не последовало. Хотя есть в этом, наверное, какой-то кармический затык.
Крестики-нолики
"Сказки для Марты", Дмитрий Дейч
Утверждают, что Буковски и Довлатов писали для новых поколений читателей-в-общественном-транспорте с синдромом дефицита внимания. Утверждают, что Стивен Кинг революционизировал повествовательные техники и заложил основу современного нарратива, ибо длина его абзацев (и, соответственно, глубина заложенных в оные смыслов) определялась полем экрана словопроцессора. Значит ли это, к примеру, что современный нам израильский писатель Дмитрий Дейч сочиняет сказки для КПК и мобильных телефонов? Или под формат френдленты ЖЖ? На обложке утверждается, что сказки его написаны для Марты. Попробуем разобраться. Марта… Марта… Who the fuck is Марта…
Вообще, конечно, писатели — они очень бедные люди. Не в том смысле, что «трудно писать, брат» — когда это было легко? — а в том, что герои кончились. Нет больше Самсонов, Давидов, Соломонов — эти кончились еще во время оно. Герои помельче тоже как-то измельчали. И что делать? Фэр-то ке? У Дейча героями вынужденно становятся чайники, моль, банковские автоматы и телеграфные столбы. Ну что, какова община, таков и ребе, поэтому на-гора в лучшем случае выходят столь излюбленные нынешним грамотным народом сюрреалистичненькие притчи без особой морали, ибо с моралью нынче тоже довольно туго — в системе координат, где неизвестных и переменных больше, чем символов на клавиатуре.
А народ стал вроде как ужасно грамотен, на кривой козе его не объедешь, Бебеля от Бабеля и Гегеля от Гоголя отличат — казалось бы. Но «если приглядеться к крапиве», станет до жути ясно, что читатели кончились тоже. Ибо они и были подлинными героями настоящей литературы ровно столько, сколько на этой планете существует связная письменность — от клинописных инвойсов на покупку лошадей.
Я о том, что писательство — как и чтение, — судя по всему, становится занятием в высшей степени необязательным. В самом деле, как тут попишешь, когда все уже написано, все всё знают и говорить, когда нечего сказать, вроде бы не о чем?
“Люди, например, стали гораздо многословнее по сравнению с 1949 годом, им стоит гораздо больших усилий придерживаться определенной линии разговора, они тратят вдвое больше слов, и слова эти означают вдвое меньше, вдруг они сбиваются на явную бессмыслицу… Мне кажется, это станет ясно любому, стоит только попытаться проследить внимательно за течением посторонней беседы. Да и я уже не могу вспомнить достоверно, каким образом рассуждал в семьдесят первом, ведь мышление, несомненно, зависит от языка по принципу обратной связи, а язык с тех пор оплошал.” Так нам говорит сам автор, это не я придумал. Вот и получается, что писатель пишет, а в ответ ему раздается:
“Странная книжка, которая вначале кажется сборником необычных сказок, к середине ты понимаешь, что Дейч пишет не сказки, а нечто такое, что никакому жанровому определению не поддается, для каждого текста он придумывает новый жанр или находит какие-то новые черточки старого, всем хорошо знакомого жанра. К концу книжки становится ясно, что я ничего не знала ни о том, как пишут книжки, ни о том, что такое сказки, ни о мире, в котором живу. Очень здоровски!”
Странная книжка, ага. Бедные Марты — всё для них приходится изобретать заново. Кафку, Насреддина, Лао-цзы, «практически все, что так или иначе может быть отнесено к сказке, легенде, притче, мифу: сказки Андерсена и Киплинга, библейские сюжеты и греческие мифы, китайскую мудрость и платоновские диалоги». И резюме — критик сказал, как отрезал: «пародия». Пародия на что? На «Агаду»?
Ключик к Марте, мне кажется, довольно прост. Нынче с подозрительным упорством повсюду начал раздаваться призыв к «обнулению», который, видимо, среди прочего означает, что нынешние Тедди должны мягко спихнуть с круизного лайнера современности не только «все богатства, накопленные человечеством», но и «реальность, данную нам в ощущении». И ощупывать слона заново, опять, опять и опять. При размытости этических критериев, эстетическом изобилии и передозе чистой информации труд сей — под стать и Сизифу, и Танталу. Возникает простая потребительская проблема выбора и фильтрации. У Дейча же в «Моли и именинном пироге» НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ «карается немедленным ОБНУЛЕНИЕМ». Модный призыв «будемте как дети» может запросто обернуться тем, что с водой этими новыми детками окажется выплеснут и пресловутый младенец— собственно младшенький из того же помета. Как в старом анекдоте про папашу, которого застали за мытьем ребенка: папа держал чадо за уши и полоскал в кипятке, а в ответ на гневный вопль супруги невозмутимо произнес: «Ну так вода же горячая». И куда тут деваться бедному писателю, я вас спрашиваю?
Вот он и старается как может, изо всех сил тщась своими крестиками-клинышками-закорючками обогнать незримый легион противников, заполняющих поле ноликами. Воссоздает самое близкое к новой литературной вселенной в «Переводах с катайского» — обманчиво знакомую Поднебесную. Пытается синтезировать нового героя-голема в Насреддине — условно-арабском разгильдяе с многовековой мудростью талмудиста и уличной сметкой одесского жулика. Подлинная же писательская сила часто оказывается заключена в первой фразе — и только в ней. «Возьмите слово — любое слово»:
“— А все потому, что нам чертовски не хватает гибкости, — сказал телеграфный столб…”
— Что ж, теперь можно подумать и о поэзии, — пробормотала моль, окончательно запутавшись в складках тяжелого драпового пальто…
Жил-был банковский автомат…
О старом Исааке говорили, что он не ослеп, но однажды просто перестал открывать глаза…
И подлинными героями — в традиционном, едва ли не голливудском значении — «Сказок для Марты» остаются двое: нос дедушки Довида Гирша реб Ицхака Дейча, выведший советскую часть из немецкого окружения, и Исаак-Слепец, под знаком которого в итоге и воспринимается вся книга:
“Мы попросили его: «Поговори с нами об этом», и он открыл книгу на другой странице, понюхал ее и прочел вслух: «…молчание мое создало высший Храм, бина, и низший Храм, малхут. Люди говорят: 'Слово — золото, но вдвойне ценно молчание'. 'Слово — золото' означает, что произнес и пожалел. Вдвойне ценно молчание, молчание мое, потому что создались этим молчанием два мира, бина и малхут. Потому что если бы не смолчал, не постиг бы я единства обоих миров».
Тогда мы спросили его: «Как же в молчании происходит твое заступничество?» Исаак ответил: «Молитва хороша, но лучше молитвы танец. Я пляшу с вами и так беседую во Храме». Мы вспомнили, что часто потешались над ним, видя, как слепой пляшет, и устыдились этого, и вышли от него.”
Так вот и вынуждены мы плясать нынче — и писатели-реликты, и читатели-эндемики. Мы говорим, мы спорим, мы спрашиваем, мы читаем и записываем. Пишем сказки для Марты. «Увы, это — все, что мы можем».
Лучшее средство борьбы с осенней хандрой
Наш новый литературный концерт
Хей, мы вернулись с новой программой музыкальных произведений, вдохновленных литературой, воспевающих книги и укрепляющих нашу любовь к этому полезному роду занятий — чтению. Ну и бороться с осенней хандрой так гораздо проще. Поехали.
Для начала нужно представить уникальный творческий коллектив — «Оркестр книжной лавки» из города Бат, Великобритания. Они работают только в местном независимом книжном магазине — «Универсальном лабазе читательских наслаждений мистера Б.» — и сочиняют только такие песни, на которые их вдохновляют только любимые книги или авторы. Что может быть уместнее для нас, правда? Итак, песня по роману Неда Бомона «Несчастный случай при телепортации»:
А первый номер нашей остальной программы — песня, вдохновленная романом Льюка Райнхарта «Человек [игральных] костей». Не пробуйте это дома:
По традиции второй номер — о книжках вообще. Лучше примера, чем у Бьорк, пожалуй, не сыскать (ну и Мишель Гондри постарался).
Признания в любви к авторам, как мы неоднократно убеждались, бывают разные. Например, такое — Флэнну О’Брайену:
Или такие — Михаилу Булгакову, вернее — его персонажице:
Ну, кидаться камнями нам, пожалуй, не с руки, у всех свои недостатки. Это же не половое преступление, в конце концов:
Фактура «Юритмикс» тут видна довольно неплохо — роман Джорджа Оруэлла «1984», конечно. А вот в следующей песне источник вдохновения разглядеть будет сложнее:
Ключевое слово тут — «Хэрри Лайм». Старая песенка «Преступного элемента» натурально отсылает нас к фильму Кэрола Рида «Третий человек», а от него — к одноименной повести Грэма Грина. Но — продолжим. Еще немного европейской классики, раз уж о ней речь зашла:
Из Европы плавно переносимся в Америку, где Лу Рид споет нам «Ворона» Эдгара По — и это одно из лучших исполнений этого текста, на мой вкус:
Как вы заметили, наверное, концерты наши устроены по принципу свободной (но прозрачной) ассоциации, поэтому дальше логично послушать Джона Кейла и замечательную компанию с композицией, основанной на одной из самых древних аллегорий в мировой литературе:
Ну и последним номером в нашей программе сегодня пусть будет еще одно возвращение в сказку:
А вы это… не выключайте буквенных радиоприемников. Голос Омара вам еще и не так споет.
Не исчезая
"Не сбавляй оборотов. Не гаси огней", Джим Додж
Не спрашивайте, почему я дочитал его только сейчас. Время пришло.
Первый из двух крупных романов великого пост-битника и около-хиппи, одного из немногих еще живых мудрецов современной мировой литературы (да, это честь — жить на одной планете и в одно время с Джимом Доджем) — скорее исторически-культурологический, нежели «сигнально-опорный». Он примерно идеален — рок-н-ролльно-наркотический роман дороги, основанный на мифологии середины ХХ века, что нужно еще? Додж увязывает в одном повествовании (линейном, как дорога, — но и таком же причудливым, как поездка Призрака, со вставными новеллами и обрамляющей это путешествие историей, которая несколько обманка, хотя призвана быть реальнее некуда в этом пространстве) «эпоху битников» с концом 60-х (при том, что основное действие происходит в 1965-м) и всеми вытекающими. Распад «бит-поколения», к которому автор сам опоздал родиться, показан как бы изнутри, но с нужной долей отстранения, чтобы не тонуть в мелких деталях. Керуак здесь — набор клише и имя, которое может взять себе буквально кто угодно, а Кэссади и вообще обратился в миф. Хиппи только начинают бродить (не в смысле перемещений — перемещаются они только по Хэйт-Эшбери; в этом смысле присовокупленный блёрб «Гардиана» — очень смешной: «“Беспечный Ездок”, только без хипья»). Но пунктиром прочерчены все основные силовые линии, намечены основные (и важные) притяжения идей и, гм, культурологем.
Но и это, как мы понимаем не главное. Хорошие романы дороги — это наглядные развертки романов взросления и поисков а) себя, б) свободы в себе (а плохие трогать мы не будем) — ну и то, конечно, что мы сами в них вчитываем. Душа, транценденция, человек в мире, любовь — все это там есть. Он грушевиден, в нем вообще есть почти все. Хотелось бы, чтобы у романа на русском сложилась и дальнейшая судьба.
Поймай Штирлица! Теория игры (в честь "праздника всенародного похмелья")
"Альтернатива", Юлиан Семенов
 «Ваша история — просто-таки тема для литературы: трагедия упущенного времени».
«Ваша история — просто-таки тема для литературы: трагедия упущенного времени».
Роумэн — Штирлицу, «Экспансия II»
ВВЕДЕНИЕ В ИГРУ
Дорогой незнакомый друг. Сегодня нам хочется предложить тебе новую традиционную еврейскую игру, которая сочетает в себе все лучшее из традиционных еврейских игр, обогащенных веками стратегии, тактики и практики. Да, мудрецы не первое столетие спорят о традиционных еврейских играх, но нам кажется, что наша игра подведет итог этим спорам раз и навсегда, ибо она поэтична, как мидраш, активна и даже брутальна, как игра в мяч, изощренна, как катовес и... да, пожалуй так же древна, как «сенет» или «ур». Хотя она непостижимее «двойного тау», в ней можно использовать дрейдл. Игра тренирует глазомер и речевые навыки. Рекомендуется начинающим писателям. Итак, увлекательный параноидально-конспирологический настольный триллер —
Нет, не «Раскрась Штирлица». Раскрашивать Штирлица — вчерашний день, интеллектуальная забава для средних умов. Passé. Outré. Lamé. Whatever. Мы предлагаем вам качественно новое развивающее развлечение третьего тысячелетия. Та-дамм! Встречайте: игра ПОЙМАЙ ШТИРЛИЦА .
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
(На этом месте должна быть обширная монография об истоках игры, произрастающей из всем известного всемирного кинематографического заговора. К сожалению, ныне она утрачена. Приводим сохранившиеся фрагменты, обосновывающие некоторые подспудные положения предлагаемой игры.)
…родилось из попыток избыть в себе детский трепет перед величием магнум-опуса писателя Юлиана Семенова и попыток ответить на простой вопрос: почему «Альтернатива»? Многие помнят бледно-красный четырехтомник издательства «Московский рабочий» в матерчатом переплете (1975—1978), с которого все началось. Мы также прекрасно осведомлены, что «Альтернатива» — заглавие одного из романов серии, и еще нам известно, что ложно-многозначительные слова из 4-5 слогов, ставшие названиями книг о Штирлице, — черта фирменного стиля автора, наряду с предлогом «для», который можно размещать между двумя случайными словами или словосо…
…остается неясным, какая и чья «Позиция» имеется в виду в одноименном переиздании саги (1985—1987) (не Андрея Андреевича же Громыко, в самом деле); кого и куда «Экспансия» в трех томах одноименного романа; чье «Отчаяние» в наспех написанном позднем примечании к карьере известного советского шпиона. Нас больше интересовала «Альтернатива» — чья и чему? Вряд ли имелась в виду многострадальная страна Югославия перед вторжением фашистов, как нас пытался убедить (неубедительно) автор. Нам явно представлена альтернативная версия истории всего ХХ века, но неужели даже тогда они были настолько циничны и даже не считали нужным от нас что-то скрывать?!
…не стали искать ответы в текстах произведений — они рекурсивны как определения и самосбываются, как пророчества. Мы пошли по пути каббалистов, убежденных, в сущности, что если достаточно долго вглядываться в знак на пергаменте, взору предстанет широкоформатное панно в «Техниколоре», если не в трех измерениях. И, само собой, отталкивались от общеизвестного всем прикладным конспирологам факта: не существует на свете такой закулисы, которой не хотелось бы оказаться на авансцене в луче прожектора. Поэтому мы и решили присмотреться к кинематографическому воплощению книжной 15-логии, ибо из всех искусств важнейшим и т.д. Сделать с кино то же самое, что Юлиан Семенов делал с историей…
…и немедленно обратили внимание на то, что в привычных нам представлениях об этом киногерое господствует ряд досадных заблуждений. Принято считать, что киносага о древнем герое Штирлице, ровеснике ХХ века, в хронологическом порядке действия состоит из следующих произведений: «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Исход», «Пароль не нужен», «Испанский вариант», «Майор “Вихрь”», «Семнадцать мгновений весны» и «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». Но остается неясным — и нам хотелось бы сразу расставить все по местам, — из каких соображений некоторые источники утверждают, будто забытый советско-монгольский фильм «Исход» (1967) можно числить в этом каноне. Главного героя, явленного нам через агента Заманского, зовут Прохоров (по некоторым версиям — Сомов). Обстоятельства его задания настолько выпадают из хронологической канвы и карьеры Штирлица («В мае 1921 года банды барона Унгерна, захватив власть в Монголии, пытались нанести удар по Советской России. Всеволод Владимиров под видом белогвардейского полковника проник в штаб Унгерна и передал своему командованию военно-стратегические планы противника»), что об этом даже как-то неловко говорить, — даже если не обращать внимания на то, что текстуального подтверждения этому факту биографии Штирлица ни в одной работе Семенова мы не находим. Поэтому далее в целях достижения всеохватной ясности в игре мы будем учтиво относиться к этому факту биографии (и самому «Исходу») как к апокрифу, не забывая полагать, что это наверняка есть тактический прием «тень на плетень» и не более чем дымовая завеса, призванная скрыть от нас, что же там происходило в действительности. Нет, это не наш путь. Наш путь через сие непредсказуемое прошлое — лишь ясность и гласн…
…не случайно обмолвились выше: «кинематографический заговор». Ибо при внимательном рассмотрении советского кинонаследия становится понятно: многое, очень многое в этих целлулоидных пленках с движущимися картинками за минувшие годы намеренно перепуталось, да и картинки зачастую движутся куда-то не туда. Мы не будем касаться таких странных и зловещих шедевров, как «Строгий юноша» (1935), в котором все не так, начиная от пропаганды сексуальной распущенности и промискуитета и заканчивая гитлерюгендом в мраморных бассейнах и тортиком в рожу бессмертного Ильича (агент Штраух), или «Повесть пламенных лет» (1960), где на щит поднимается сексуальная нетерпимость и поется гимн оголтелому гомосексуализму. Это подлинная эзотерика, ее мы пока оставим за кадром. Мы обратимся к более свежим и доступным примерам и почувствуем, как пелена слепоты спадает с наших…
…убедительно доказывают, что в канон кинопроизведений о Штирлице также должен входить в виде приквела (сиречь пролога) и фильм «Адъютант его превосходительства». Да, мы отдаем себе отчет, что его первоисточник приписывается каким-то совершенно посторонним людям, но ведь и отец Штирлица Ляндрес известен нам лишь под псевдонимом, неспа? Агент Соломин по своему героическому фенотипу мало чем отличается от агента Тихонова: лица у обоих «добрые, но справедливые» (хотя на самом деле это «странное свойство их физиономий» — всегда выглядеть профессорами математики при вручении Железных крестов). В карьере обоих известен случай, когда они вообще едва не слились в одного человека — князя Болконского. В «АЕП» сценарно-режиссерская закулиса сменила герою имя, но нам совершенно ясно, что Павел Андреевич Кольцов — это Штирлиц под прикрытием. Сдвиг фактуры кураторами операции проведен ювелирно-криптографически: Семенов так никогда и не описал в деталях деятельность Штирлица, (он же Владимиров) под именем ротмистра Исаева в пресс-службе правительства адмирала Колчака в 1920 году; кукловоды с «Мосфильма» переносят действие в 1919 год, Колчака подменяют Деникиным, Корниловым и Алексеевым, объединив их в фигуре Владимира Зеноновича Ковалевского, тасуют географические карты, но скрыть от нас правду не в силах. О маскировке при работе в глубоком вражеском тылу см. пароль и отзыв:
"— Пал Андреич...
— Да?..
— Вы шпион?
— Как ты думаешь, Юра: Владимир Зеноныч — хороший человек?"
…Помимо пролога у саги о Штирлице в ее нынешнем виде подозрительно отсутствует эпилог (сиречь сиквел). Из источников нам хорошо известно (см. текст «Отчаяния»), что «через месяц после освобождения он начинает работать в Институте Истории по теме «Национал-социализм, неофашизм; модификации тоталитаризма». Ознакомившись с текстом диссертации, секретарь ЦК Суслов порекомендовал присвоить товарищу Владимирову ученую степень доктора наук без защиты, а рукопись изъять, передав в спецхран…» Спустя почти два десятилетия Штирлиц продолжает работать над той же темой, как становится ясно из текста «Бомбы для председателя», однако слабо верится, что такой мощный ум способен просиживать задницу в праздности в кабинетах советской Академии наук. Нет, его энергия должна требовать иного выхода — и хотя Юлиан Семенов тщился скрыть это от нас, кинематографисты не прошли мимо соблазнительной возможности вернуться к полюбившемуся герою. Они выводят Штирлица на пенсии в фильме «Доживем до понедельника», даже не особо пряча ключ:
"— Что с вами? У вас такое лицо...
— Какое?
— Чужое.
— Это для конспирации."
Но не все в этой его третьей жизни протекает так гладко и безмятежно, как мы видим на экране. Тайные пружины шпионажа и теперь приводятся в действие, разрывая ткань реальности на мелкие клочья…
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Отсутствует. Каждый играет в нее, руководствуясь собственной наблюдательностью. Но так смотреть кино гораздо интереснее.
ПРАВИЛА И ЦЕЛЬ ИГРЫ
Один ход = одному году. Других правил нет. Это игра без правил. Цель определяется самим названием: поймать Штирлица.
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ИГРЫ
Золотой запас Российской империи. Золото Колчака. Золото Рейха. Золото партии. Такого количества золота просто не бывает. Это очень много золота, но все это — одно и то же золото.
Итак, бестрепетно вперед, пытливые киноманы. Ловить Штирлица. Штирлиц от нас не уйдет.
Играем.
Впервые опубликовано Букником как первая часть дилогии. Вторая часть (собственно игра), судя по всему, бездарно утеряна серверами Букника.
You don’t have to be illegal to be an outlaw
"Трикстер, Гермес, Джокер", Джим Додж
Это супер-роман о супраментальном. Это идеальный роман идей. Пинчон назвал его «изгойским эпосом», и это недомолвка столетия — по крайней мере, второй половины прошлого века. Потому что это намного больше и алхимического триллера, и квеста поперек Америки, из которого о жизни вообще — не только в Америке — можно узнать намного больше, чем из многих томов. В нем есть все, что нужно для умеющего читать.
Если «Трилогия общественных работ» Мэтта Раффа — «Пинчон для нищих», то «Каменная росстань» (очень, очень условная версия названия) — «Пинчон-light». Весь этот роман располагается в воображаемом пространстве Пинчона, и с него можно начинать вхождение в эту вселенную тем, кто пытлив, но не очень обучен; а подарков внутри этого мира можно собрать неисчислимо, было бы желание. Додж дает нам некоторый ключ — очень доступный, надо сказать, обманчиво простой и легкий для понимания — к этому миру.
А ключ к этому роману дает Пинчон в своем известном предисловии (и этим, среди многого прочего, книга тоже ценна). В нем ТРП яснее некуда излагает некоторые основные элементы своего мировоззрения — от луддизма до активного сопротивления Системе, от идеального анархизма до трансценденции. Иногда роман Доджа читается натурально как топографическая карта к романам Пинчона — «Винляндии», «Against the Day», над которым Пинчон примерно тогда же и работал, когда писал это предисловие, и далее, ко «Внутреннему пороку» и «Bleeding Edge». У Доджа весь спектр «изгойской Америки», того континента, что залегает глубоко внутри видимой культуры: анархистский фронтир (AtD) перетекает в цифровой Дикий Запад (ВЕ, хотя роман Доджа подчеркнуто аналогов, как «Винляндия») через движение (ВП) как один из принципов противостояния Системе и подрыва ее, из которого может прорасти некая новая (хотя на самом деле хорошо забытая старая) форма самоорганизации людей, идеальное братство, «Альянс магов и отщепенцев», а оттуда уже рукой подать до преодоления себя и выхода к иным планам бытия. Сумеречная зона, интерфейс тут тоже вполне пинчоновский — это «Радуга тяготения» в пространстве «Винляндии», где нет четкого деления на черное и белое, предательство и милость. Где каждый за себя у себя в голове. Где до всего нужно доходить своим умом, не поможет никто.
Я по необходимости упрощаю, но одно из наставлений этой книги — в том, что у подлинно осознающего себя существа нет иного выбора, оно может существовать лишь вне Системы. В Системе живет только скот. Она и предназначена для загона скота. Роман Доджа, среди много прочего, — об осознании, о том, как становятся персонажами Пинчона. Ленитроп и Дэниэл Пирс (заметим эти прекрасные инициалы, DP — перемещенное лицо) растворяются в воображаемом пространстве — реализуют себя — различными способами, но Система оказывается в дураках. И если ты нихуя не понял здесь, это значит, что ты душевно здоров. Это значит, что с этой точки неплохо опять начать сходить с ума. В этом наша единственная великая надежда.
Роман Доджа — важный элемент той металитературы, которая сама себя пишет в головах читателей, и важная часть системы опорных сигналов, которая подводит человека к осознанности. Это еще один «роман, создающий ценности». Без него нам никак. И опять — хотелось бы верить, что его издательская судьба на русском еще не окончена.
Не лучшие времена для литературы
"Темные начала", Филип Пулман
Вся трилогия Пуллмена — многомерная доска, на которой разыгрывается, конечно, вполне детский этюд. Это, я полагаю, отстраняет от этой чудесной книжки некоторых взрослых читателей. На самом же деле, трилогия — отличный полигон фантазии для детей, автор детскости своего произведения, в общем, и не скрывает: ну и что с того, что в нем все растет из Милтона и Блейка? Такие книжки деткам тоже надо когда-то начинать читать. Здесь, есть более-менее реальный компонент, есть немного сдвинутая реальность, которая постепенно будит фантазию (мир Лайры с ее Сибирью особенно трогателен), есть героический слой, традиционно-сказочный, мифологический, есть сфера невообразимого (мир «животных на колесиках», к примеру), что вообще редко для человеческой литературы, а есть область чистой абстракции, в которой наглядно (как могут) воплощаются символы и некие идеи. Традиционная английская сказка сильно обогащается за счет такой полихроматичности и многомерности.
А возрастная путаница с восприятием трилогии Пуллмена, видимо, происходит в немалой степени от того, что сам автор проводит границу между детскостью и взрослостью достаточно зазубренно (особенно путает тут вброс концепции грехопадения). Не раз, читая, ловил себя на том, что многие мои знакомые, сильно младше меня — люди очень "взрослые" и "серьезные". Сам я, наверное, не «повзрослею» никогда уже, как бы это ни выглядело со стороны, — да и не очень-то хотелось, если честно. «Мы никогда не станем старше», ну да. Поэтому книжка мне понравилась безусловно.
Кроме того, она страшно актуальна. "Страшно" здесь — не просто словесная затычка. Например, известный российский правозащитник и друг "Додо" Андрей Юров, побывавший, наверное, во всех "горячих точках" бСССР минимум последнего десятилетия, считает (и говорит об этом не первый год), что в наше время основной конфликт эпохи — не между разными национальностями или даже вероисповеданиями. Тут у нас по-прежнему "один с изумлением смотрит на запад, другой в восторге глядит на восток" (или как там в не новой песенке поется?). Нет, главное противостояние — между фундаментализмом (даже либеральным, он может быть пострашнее инквизиции, потому что его уж точно никто не ждет) и гуманизмом. Человеку по сути отказано в праве не только не становиться на чью-либо сторону, но и не иметь по какому-то поводу мнения (к примеру, потому, что это ему может быть неинтересно или что-то для него — давно пройденный и усвоенный организмом материал). У человека в наше сильно поляризованное время остается меньше возможности быть собой, работать над собой, развивать себя и, да, блин, "возделывать свой садик", нахрен. Без этого садика, вы будете смеяться, останется пустыня — выжженная фундаменталистами и вытоптанная теми или иными боевиками, партизанами, ополченцами, фанатиками. Мысль тоже не новая, и Филип Пуллмен облекает все эти, созвучные нашему времени и этой территории представления в сложную, но понятную — в том числе, детям, что важно, — метафору.
И так же безусловно подкупает в ней богоборческий пафос — этот вектор раскрепощения сознания, стремление к свободе мышления. Система же у Пуллмена довольно проста: любая организованная религия (и, берем шире, система власти) — зло, она все портит, калечит, убивает, порабощает сознание и оглупляет человека. А высшая ценность — свободное сознание, хоть и «мудрость в наше время говорит шепотом».
Октябрьская натально-литературная аномалия
Наш книжный концерт, сопровождаемый праздничным салютом
Да, мы решили отпраздновать ее музыкальным фейерверком, равного которому еще не знало Радио Голос Омара. Будем считать, что «С днем рожденья всех вас» все уже спели хором про себя, поэтому такой классикой мы ничей слух терзать не станем, тем более что литературный слух — он же музыкальный, это всем известно. Поэтому нашим эпиграфом лучше будет «Книга любви» (ну потому что и книги, и музыка — это про любовь, правда?) в исполнении «Симпатичных мальчиков и симпатичных девочек» (мы все, конечно, тоже симпатичные, но не настолько):
Ну а дальше — строго в беспорядке, ибо это есть наш основополагающий принцип. Лично замечательного поэта Сашу Черного никто, похоже, не воспевает, а вот песни на его стихи нами крайне любимы:
Традиционно почему-то считается, что стихи э.э. каммингза не поются, а только читаются, и в этом-то содержится вся музыка. Wrong. Это не значит, что их нельзя спеть. Вот один пример:
Нам показалось, что двухсотлетие великого русского классика М.Ю. Лермонтова имеет смысл отметить очень нежным трибьютом замечательного коллектива «Несчастный случай»:
В честь Итало Кальвино будет иметь смысл поставить, наверное, самую известную песню на его стихи - вы, конечно, сразу все ее узнаете:
Нет, наверное, лучшего способа доказать жизнеспособность поэзии Вергилия, которой больше двух тысяч лет, чем читать ее рэпом. Пожалуйста — «Энеида-рэп»:
Насчет П.Г. Вудхауса у нас как-то даже не было сомнений — праздновать его рождение нужно гениальной мелодией Энн Дадли, написанной для любимого телефильма с Фраем-и-Лори, которые навсегда слиплись в нашем сознании с любимыми персонажами. Но это не значит, что ее нельзя сыграть иначе. Как это делает Бен Пауэлл:
С Фридрихом Ницше все тоже довольно просто — нужно вспомнить, что он был не только философ и писатель, но и композитор, и послушать немного его музыки. Она того стоит.
Над Мишелем Фуко мы, признаться, несколько призадумались, но глядите — и он вдохновляет "Профессоров" на музицирование (да еще на какое):
Оскара Уайлда когда-то чествовала «Портретом Дориана Грея» группа «Нирвана» — нет не та, которую вы все знаете, а другая, игравшая задолго до и в другой стране. Вот, пожалуйста:
Гюнтеру Грассу тоже повезло — хорошо нам всем знакомая Аманда Палмер не только сочинила и сыграла с коллегами «темную рок-оперетту» «Луковый погреб», написанную по мотивам главы из его романа «Жестяной барабан», но песни на его стихи поют, например, известные арабские исполнители:
А вот стихи Михаила Кузмина поют немного — но поют, недаром в России еще какая-то литературная традиция осталась. Хотя Кузмина могут и запретить. Пока до этого никто не додумался, послушаем:
А вот день рождения Шодерло де Лакло нам показалось скучным отмечать довольно помпезной музыкой Джорджа Фентона из одноименного фильма, поэтому мы выбрали то, что повеселее:
Философией Анри Бергсона так или иначе проникнута значительная часть нынешней музыки, поэтому выбрать было сложно, но нам удалось:
То же самое относится к Д.Т. Судзуки, потому что дзэн там, где «элан виталь». Нам показалось правильным отметить день рождения сэнсэя вот такой песенкой:
Следующий наш именитый именинник — Джон Ле Карре, и его мы будет чествовать, как полагается, криптическим манером. Кто угадает, почему, тот не провалит явку и его не разоблачат.
Ну и последнему нашему имениннику в этом месяце — Филипу Пуллмену — мы просто поставим его любимую песню, так уж вышло - тоже, в частности, о литературе:
Приращенная реальность книжных магазинов
'The Bookshop Book", Jen Campbell
 Это идеальная книжка, которая дает силу — и не дает думать, что мы одиноки во вселенной. 300 независимых книжных магазинов и люди, которые их создали, описанные Джен Кэмбл в разных форматах — от интервью до личных впечатлений, от кратких исторических очерков до анекдотов и отдельных фактоидов, — это и есть наша вселенная, наш прайд, наши братья по разуму, где бы они ни были. Они похожи на нас, они вообще такие же, как мы, у нас даже шутки одинаковые и во многом такие же пути к книгам и отношение к ним. Поэтому все, что следует ниже, — скорее комментарий к прочитанному, нежели рецензия как таковая. "Книжку о книжных" я советую открыть каждому для себя, — и обрадоваться, найдя в ней истории, похожие на ваши. Утешительное чтение, утешительное знание.
Это идеальная книжка, которая дает силу — и не дает думать, что мы одиноки во вселенной. 300 независимых книжных магазинов и люди, которые их создали, описанные Джен Кэмбл в разных форматах — от интервью до личных впечатлений, от кратких исторических очерков до анекдотов и отдельных фактоидов, — это и есть наша вселенная, наш прайд, наши братья по разуму, где бы они ни были. Они похожи на нас, они вообще такие же, как мы, у нас даже шутки одинаковые и во многом такие же пути к книгам и отношение к ним. Поэтому все, что следует ниже, — скорее комментарий к прочитанному, нежели рецензия как таковая. "Книжку о книжных" я советую открыть каждому для себя, — и обрадоваться, найдя в ней истории, похожие на ваши. Утешительное чтение, утешительное знание.
Читая ее, я поймал себя на том, что не помню, какую книгу я купил в жизни первой. Даже какую сам прочитал, не помню. А многие персонажи Джен Кэмбл помнят это отлично. Я с книжками жил всегда — они были дома, бабушка работала библиотекарем, приносила меня на работу в соседний дом, расстилала между стеллажами одеяло (розовое суконное, довольно жесткое, но помягчевшее от времени, окантованное бордовым атласом, не очень большое, как я потом понял), и там по нему ползал и перелистывал книжки, еще не умея, само собой, читать. Но этот проход между стеллажами библиотеки Клуба связи помню отлично, помню стеллажи, помню одеяло. Год мне тогда был, что ли, вряд ли больше, как мне потом рассказывали. Помню даже, где там стояла «История государства российского» Соловьева и энциклопедии, хотя названия эти я прочел гораздо позже, когда бабушка вышла в первый раз на пенсию, а я записался в эту же библиотеку сам и подружился с бабушкиной сменщицей — смешливой барышней, обожавшей югославских певцов. Эти тома мне казались очень большими и я рассчитывал когда-нибудь их прочесть. Может, и прочту еще.
Книжки из библиотеки, натурально, иногда списывали, и бабушка их не выбрасывала, а тайком приносила домой (а может, и не тайком, может, это можно было), поэтому они составляли основу нашей домашней библиотеки — огромного стеллажа под потолок (когда переезжали на новую квартиру, пришлось отпиливать, он высотой был метра три). Многие до сих пор у меня – с перечеркнутым овальным штампом библиотеки и инвентарными номерами, написанными бабушкиной рукой. Читать я любил до того, что мне запрещали, «чтобы не портил зрение». Зрение я себе все-таки испортил, как гласил семейный миф — потому что «читал с температурой», когда болел ангиной (а я ею в детстве болел постоянно), а шрифт был мелкий. Но это было несколько позже, а года в два-три от меня книжки закрывали, прикнопив к нижним полкам стеллажа газету и загородив его стулом. Я отлично помню, как пробирался под этим стулом, отковыривал пальцем газету, вытаскивал что-нибудь и с добычей уползал под стол. Стол до сих пор у меня, но я под ним уже не очень помещаюсь, а когда-то он был огромный, как пещера, и с тайными полками (где — не скажу, они до сих пор тайные). Там-то я книжки прятал от мамы, надеясь, что пропажи с полки и прорыва газеты на стеллаже она не заметит (газета же за стулом, правда? но мама замечала всегда). В два-три года это было, и я, конечно, в основном смотрел картинки в раннесоветских изданиях русских классиков, которые были с меня ростом. А страниц не рвал никогда, в этом мама и бабушка были уверены — запрещали, говорю же, не поэтому.
А читать я научился года в четыре, но это уже другие истории. Когда мы переехали на другую квартиру, выписываться из библиотеки Клуба связи не пришлось, хоть она и осталась на другом краю города практически, в центре, а мы переехали на окраину, к Луговой. Там у меня был пожизненный абонемент за бабушкины заслуги. Но я записался и в ту библиотеку, которая была недалеко от дома, обычную районную или типа того. Там было не очень интересно с точки зрения худла, а весь детский внятный научпоп я перечитал довольно быстро. Но меня уже начали пускать и во взрослые отделы, и вот там было много книжек по кино и вообще «западной культуре», которые никто не брал (я не знаю, что вообще там брали, не помню ни одного посетителя, кроме себя, хотя наверняка же были). Поэтому у нас с Иэном Рэнкином, который дал интервью Джен Кэмбл, истории похожи. Только его не пускали на взрослые фильмы, потому что мал был, а в совке они не шли в принципе. Но в книжках воспроизводились кадры, тусклые, смазанные, довольно ужасного качества, но это были окна в большой мир. Рэнкин у себя читал романы, по которым ставили запретные для него фильмы, а я рассматривал картинки и выуживал из советской кинокритики скупые отрывки сюжетов, пропущенные через сито «культурологов в штатском».
Ну а потом уже были магазины. «Букник» когда назвал серию своих очерков о книжных «Места силы» (не поленитесь прочесть ее всю, это еще один кусок нашей общей приращенной реальности). Таких «мест силы» на планете немного, но они есть, и когда тебе дается выбор, какие вспоминать, поневоле теряешься. Магазин «Подписные издания» в «Серой лошади» родного Владивостока, где в 70-х стояли многосуточные очереди за «книжным дефицитом»? Несколько букинистических магазинов Франкфурта, которые ритуально обходятся одним маршрутом во всякий приезд на книжную ярмарку? Изящно европейские книжные лавочки на Дюпон-Сёркл или в Джорджтауне в Вашингтоне?
А наткнулся я на него случайно, как обычно это и бывает, — решил выйти прогуляться по Чайнатауну, что-нибудь съесть, отложив обстоятельную экскурсию на потом… шел-шел, свернул в какой-то замызганный проулок между глухих стен, весь заставленный мусорными баками… решил дойти до конца — и тут увидел граффити со знакомым портретом и табличку: «Переулок Джека Керуака». Вынырнул на другом конце — и вот он, слева. Практически — цель моего первого путешествия по Америке. Ноги сами привели.
Там я и остался на все последующие дни — и, видимо, на всю оставшуюся жизнь. «Городские огни» стали начальной точкой всех моих систем координат. Тогда я облазил все их закоулки на трех уровнях, вынес чемодан книг. Даже набрался наглости и пристал к чувакам за кассой: «А с мистером Ферлингетти нельзя ли встретиться? Я, видите ли, переводчик из России, про Владивосток слыхали?» Про Владивосток они слыхали краем уха, а про основателя и мэтра ответили вполне любезно и как-то даже ничуть не удивились такому несуразному запросу: «Так Лоренс тут теперь не бывает практически — ты зайди вон напротив, в кафе “Везувий”, он там на втором этаже заседает». У Джен Кэмбл в "Книжке о книжных" есть похожая история.
Книги, привезенные тогда (вернее — высланные мною мне же, на деньги Информационной службы США, за перевес я бы никогда не расплатился) из «Городских огней», живут у меня до сих пор. Две полки битников, Чарлза Буковски и других авторов издательства «Черный воробей», Генри Миллера… Вот уже двадцать лет я ношу купленную там рекламную черную футболку кафе «Везувий» — с портретами Керуака и Эразма Роттердамского. Я думаю, она будет вечной. И да — я до сих пор храню чек магазина, на котором под названием «Городские огни» пробита строчка: So they, like, publish, excuse me, literature?

А эпилог тут может быть такой: глава про "Додо" в ней тоже есть.
Как не ржать над пропастью (если она смешная)
"Над пропастью во сне: Мой отец Дж. Д. Сэлинджер. Воспоминания", Маргарет Сэлинджер
Фамилия писателя Сэлинджера на обложке - циничный ход русского издателя. Книжка совсем не про него, а представляет собой не очень честное художественное жизнеописание детства и юности клинически истеричной его дочки, несчастного ребенка, который по прошествии лет рассматривает свою жизнь крайне "готишно" (в отличие от своего брата Мэттью, который, как известно, выступил с опровержением после ее публикации). Девочка из очень квадратной и консервативной, хоть и дисфункциональной, семьи, ничем не отличающейся от массы других консервативных, но дисфункциональных американских семей прошлого века, попала в самую середку сдвига культурных и общественных парадигм. Ситуация Маргарет отличается разве что наличием более трёхнутой (и от этого не менее несчастной), чем у других, мамы - это она, действуя в полном согласии с садистской школой, и повлияла на развитие у девочки клинической истеричности (вплоть до галлюцинаций). А всем, как выводится из текста, приятным и полезным для выживания, девочка все же обязана папе, который в какой-то момент, само собой, больше устраняется из жизни ребенка, но не перестает любить его и заботиться о нем. Родив (поздно) собственного ребенка, Маргарет принимается гонять своих бесов (и эту книжку стоит, на мой взгляд, воспринимать исключительно как частное психотерапевтическое упражнение, отнюдь не как документальный рассказ о папе), а вовсе даже не сводит счеты с папой, как это не раз пытались представить подслеповатые читатели. Сам папа дочку никогда особо не интересовал, она его и в детстве не понимала (само собой), и по прошествии лет даже не пытается (что оправдать несколько труднее).
В части антуража этот вполне художественный текст читается вполне увлекательно, а в части мемуара о папе - с объяснимым раздражением. Ну, потому что для понимания Сэлинджера нужно просто внимательно читать Сэлинджера - он рассказал о себе все, что считал нужным, а снаружи действительно ничего хорошего не увидишь. Это даже его дочке, как мы читаем, не удалось. Вполне типично.
Автора очень жаль, но еще жальче ее ребенка, внука Дж. Д., для которого мамаша должна быть весьма инфернальной. С таким-то анамнезом.
Страшная книжка про что-то другое
"История с кладбищем", Нил Гейман
Дорогие дети, сидите смирно, сейчас вас будут пугать. Не я, не бойтесь – я не умею. Пугать вас будет один замечательный английский писатель, его зовут Нил Гейман. Пишет он в основном сказки – и для детей, и для взрослых. А иногда – для тех и других сразу.
Эта книжка у него – вот такая. Вроде бы про детей и для детей. Точнее – про одного мальчика. Когда ему было полтора года, его папу, маму и старшую сестру убил один очень гадкий негодяй. Зарезал очень острым ножом по некой тёмной и таинственной причине. А мальчик успел убежать. Ну, он не специально убегал, а так получилось. Той октябрьской ночью мальчик просто вышел из дому – и забрёл на кладбище. Тут-то всё и началось.
Мальчика воспитала семья духов – призраков тех людей, которых когда-то на этом кладбище похоронили. Поскольку духи эти с кладбища выходить не могут, мальчику назначили опекуна. Тот может свободно передвигаться по ночам в настоящем мире – приносить мальчику еду, одежду и всячески о нём заботиться. Опекун, то есть, не совсем призрак, скорее – вампир.
Мальчик растёт, его воспитывают и учат всяким призрачным премудростям. Как растворяться в пространстве, чтобы тебя не заметили. Как гулять по чужим снам. Полезным вещам, в общем, учат. Арифметике, чистописанию и прочим премудростям обычной школы – тоже. К чему-то его явно готовят. И не надо забывать, что учителя у него – такие же духи, как приёмные родители, то есть все умерли много лет назад. Кладбище-то очень старое.
Мальчик растёт дальше, знакомится с другими детьми – из настоящего мира. Для них он – какой-то другой, странный. Чужой. У него появляется гувернантка – она тоже не дух. Она оборотень. А ещё мальчик ссорится с жуткими трупоедами, встречается с Очень Подозрительными Личностями и юной, но крайне симпатичной ведьмой (та тоже давно умерла весьма неприятным манером). И наконец понимает: он должен выйти с кладбища в большой мир, узнать о нём побольше, понять, что за судьба ему уготована призраками, разобраться в конце концов, кто и зачем когда-то убил его родителей. И, если получится, – отомстить.
А какие-то мерзавцы между тем мальчика ищут все эти годы. Чтобы разделаться с ним по-своему. Интересно? Жутко? «Есть мнение, что это книга о смерти и её нельзя давать детям. Я его не разделяю», – пишет автор в предисловии к русскому изданию. Это правильно – не разделять такого мнения.
Закончиться всё должно, конечно, Страшным судом. Знаете, что такое Страшный суд? На самом деле, должно быть, довольно весело (сам, правда, не знаю – не был, врать не буду). Но представляете – в конце времён, все, кто когда-либо умер на земле, возьмут и воскреснут. Шум, гам, толкотня. Столько народу-то. Трубы трубят, гром гремит. А вот потом начнется страшно. Когда все получат по заслугам от высшего судьи – Господа Бога. И кто отправится в рай, ну а кто – известно куда. И что-то мне подсказывает: этих последних будет гораздо больше. Кстати, вы хорошо себя вели последнюю неделю? Ну-ну, смотрите.
Но «История с кладбищем» заканчивается совсем не так, а очень даже грустно. Хотя, возможно, вы грустить и не будете. «Эта книга – о ценности жизни и о том, как найти свою семью», – скучно говорит нам автор. Не слушайте его – он уже написал свою книжку. Слушайте меня – я её только что прочёл.
Эта книга – о том, как медленно, однако неотвратимо закончится ваше детство. О том, как вам всем было хорошо и спокойно, когда вы были маленькими и чуть постарше. О том, что всё равно, живёте вы в большом доме, набитом красивыми игрушками, или в маленькой хижине с земляным полом, где игрушки старые и поломанные. Или вообще на кладбище без никаких игрушек.
И о том, как непонятно и страшновато всё будет дальше, когда настанет время и вы уйдете из своего дома. А вы обязательно оттуда уйдете. Рано или поздно.Хотя и меня не слушайте. Лучше прочтите «Историю с кладбищем» сами. Наверняка для вас эта книжка будет про что-то совсем другое.
Жизнь замечательного человека
"Льюис Кэрролл", Нина Демурова
Отличная книга, написанная с огромной любовью не только к ее главному герою, но и к Англии, - и еще один дополнительный повод никогда больше не читать русских рецензентов. Кэрролл просто-напросто был очень хорошим человеком - а рецензентам, по-видимому, очень сложно даже просто принять эту мысль. Кроме того, они, как в очередной раз становится понятно, просто не умеют читать то, что написано, - ну или не читают того, о чем пишут. Прочитавшему же книгу Нины Михайловны, мне кажется, становится очень понятно не только как из Доджсона получился Кэрролл, но и многое в этом человеке - очень цельном и сильно неодномерном.
Ну и да - разговорам про девочек тоже пора положить конец. Понятно же, что если викторианцы абсолютизировали детство и были одержимы "паранормальными явлениями" (спиритуализмом и феями, в частности), то девочки были для них телесной и посюсторонней манифестацией чего угодно потустороннего - эдаким идеальным подтверждением веры, живым доказательством того, что не все в этом мире так зарегулированно и мерзко, как мы видим. Иными словами - есть к чему стремиться и есть ради чего жить. Мне кажется, логично. Поэтому и в нынешнее время, и в здешней стране сам Кэрролл будет по-прежнему недостижимой идеальной фигурой и по-прежнему непонятен и неуместен. Русские рецензенты это еще раз наглядно доказали.
Сказки кроликов
"Смерть Банни Манро", Ник Кейв
Парень занимается сексом с подружкой и просит ее встать на четвереньки, потому что хочет отыметь ее в зад. А подружка такая: «У-у, это же извращение». А парень ей: «Послушай, “извращение” — это очень сильное слово для шестилетки».
Понравилось? Ну да, можно сказать: «Дурак ты, автор, и шутки у тебя дурацкие». Но такими анекдотами наполнен весь роман австралийского экспата Ника Кейва, а из 280 страниц книги лишь на нескольких слово «fuck» присутствует в среднем меньше семи раз. «Осторожно! — как часто пишут ранимые читатели. — В книге встречается ненормативная лексика!»
Дебют любимого народом рок-музыканта в большой литературе состоялся двадцать лет назад. В 1989-м вышел роман «И узрела ослица ангела». Это был, без преувеличения, шедевр: вязкий, жуткий, мрачный и безысходный текст, музыкальный, как песни Кейва того периода. Автор был одержим Богом, смертью и насилием, и результат был вполне потрясающ. Ветхозаветная эстетика граничила с «южной готикой», и критики в кои-то веки угадали, поставив «Ослицу» в один ряд с книгами Уильяма Фолкнера и Флэннери О’Коннор. Следующей книги Кейва ждали почти так же, как ждут нового поэтического сборника Леонарда Коэна.
И вот — рок-проза двадцать лет спустя. Время действия — 2003 год, место действия — Брайтон и окрестности, где, собственно, и проживает ныне автор. Зайка Манро, сын умирающего от рака легких восьмидесятилетнего торговца антиквариатом Зайки-старшего, отец девятилетнего проблемного вундеркинда Зайки-младшего, наизусть выучившего энциклопедию, торгует вразнос косметикой и трахает все, что движется. Одно слово — кролик. По имени Зайка. Его жена тем временем горстями ест таблетки, потому что у нее депрессия, вполне объяснимая мужниным промискуитетом. Видимо, на ее месте любая жена к четвертой главе бы повесилась.
На самоубийстве жены движение сюжета заканчивается. Папа, считая, что сыну лучше учиться торговому ремеслу, а не ходить в школу, начинает возить его кругами по своим клиенткам, которых он старается разнообразно приходовать, а сын, дожидаясь папу в машине, общается с призраком мамы в оранжевом. Помимо этого мало что происходит — до самого бого… точнее, демоноявления в конце, когда все участники, числом два, как-то моментально умнеют и видят свет. Да поздно, случается конец романа. По ходу же действия — ничего, только бабы дают Зайке-папе все меньше и меньше. Даже количество фетишей практически не увеличивается. Как и в начале, они ограничиваются энциклопедией и фигуркой Дарта Вейдера из «Макдоналдса» для сына (естественно, чем еще иллюстрировать библейскую связь поколений, как не мемом «Люк, я твой отец»?), — и золотыми шортиками Кайли Миноуг, а также вагиной Авриль Лавинь для, разумеется, папы. Смерть какого из трех Заек Манро стала названием романа, я вам не скажу, чтобы не лишать вас зачаточной интриги.
О, мои глазки, ушки и усики… Никакое количество литературных критиков, полагающих книгу Ника Кейва «порнографией», «этюдом о сложных психологических отношениях отца и сына» или «исследованием культуры английских мачо», не убедит меня, что «Смерть Зайки Манро» — не книга о просто-напросто шлемиле. Наш Зайка сексуально одержим, помадит кок, носит рубашки попугайских расцветок и идиотские галстуки с кроликами, убежден в собственной половой неотразимости и не способен взглянуть на себя со стороны или вовремя остановиться. Наш Зайка — типичный шлемиль. Шлемиль, можно сказать, с историей.
Предок его — Петер Шлемиль у Адельберта фон Шамиссо (1814). Тот, как вы помните, загнал свою тень дьяволу за бездонный кошелек, но общество отвергло человека без тени: слишком подозрительный. Классика: «Скажите, зачем вы разделись догола и прыгали в заросли кактусов?» — «В тот момент мне казалось, что это неплохая мысль». В случае Зайки, мы понимаем, бездонным кошельком выступает неопадающий член, а дамочки, что разбегаются в ужасе от дикого мужика с вываленным наружу болтом, гоняющегося за ними, многое скажут нам об отношении общества к перепаянной версии наивного зайки, верящего, что сексуальные домогательства сойдут ему с рук. Ну или с другой части тела.
Само слово «шлемиль» пришло в английский из идиша примерно в 1892 году, а в идише, как считают специалисты-лексикографы, завелось благодаря библейскому персонажу Шелумиилу, начальнику колена Симеонова. Некоторые источники полагают, что Шелумиил этот — не кто иной, как Зимри (Замврий), сын Салу, открыто (в спальне) прелюбодействовавший (возлежавший) с моавитянкой (мадианитянкой) Хазвою (Хааной), за что они оба пронзены (истреблены) были мечом (копьем) прямо in flagrante delicto. В пылу, так сказать, деяния. Учитывая эдакую множественность библейской ономастики и вариативность толкований (ибо во всей истории, пожалуй, бесспорно только, что они поролись чуть ли не у всех на виду, а прикончил их праведный Финеес, «встав из среды [опять же] общества», Числ 25), можно считать, что сей бессчастный коленоначальник, как бы его там ни звали на самом деле, и есть первый в истории цивилизованного человечества шлемиль. Не повезло мужику, что сказать… Чем заканчивается роман Ника Кейва — см. название.
При всей краткости и резвости такого сравнительно-литературоведческого очерка, понятно, что уже в библейской истории звучат типичные блюзовые ноты. Шлемиль, без сомнения, всегда был одним из главных персонажей блюза, где на месте песика мог оказаться любой подручный зайка:
“Давай я буду твоим щеном, пока большой кобель в бегах,
Давай я буду твоим щеном, пока большой кобель в бегах.
Когда вернется, скажешь: ты нас перепутала впотьмах…
— Большой Джо Тёрнер, «Ребекка»”
Болотным духом блюза Дельты был пропитан весь первый роман Кейва. А вот во втором не только блюза или рока, но и вообще никакой особой музыки, в общем, не играет, как бы ни старались автор с Уорреном Эллисом раскрасить его разными звуками. Разве что фоном по радио, но мы знаем, что сейчас крутят по радио, — см. фетиши. «Смерть Зайки Манро» — обычный добротный мейнстрим, вполне изящный путь отхода симпатичной стареющей звезды панк-рока в «большую литературу». Дневник наблюдений за еще дрыгающейся природой, бесстрастные критические заметы натуралиста о повадках кроликов, которые, известное дело, только жрут и совокупляются. Мясо для «приличных переводчиц», впадающих в ужас от слова «жопа». Пища для книжных червей.
Такой вот скверный анекдот. Такие вот у кроликов теперь сказки.
Концерт по заявкам читателей
Еще немного песен о литературе и книгах
По многочисленным аплодисментам и воплям «браво», которые мы на радио «Голос Омара» воспринимаем как знак одобрения, — продолжаем.
Открывает наш сегодняшний воскресный концерт Дэвид Боуи с собственным прочтением культового романа Колина Макиннеса «Абсолютные новички»:
Продолжает его песня о книгах вообще, популярная больше тридцати лет назад, когда группа с запоминающимся названием «Слеза взрывается» (...и не взрывается) тоже считалась новичками:
По хорошей традиции наш концерт продолжают объяснения в любви любимым писателям: Марина Барешенкова объясняется таким образом с Кьеркегором (и «Джетро Талл»):
Поговорим о вдохновении: группа The Pogues одну
из самых своих знаменитых и нами любимых песен написала под воздействием веществ
жидкостей классического стихотворения Артюра Рембо «Пьяный корабль»:
Желающие могут написать диссертацию: вот текст Рембо в переводе Евгения Витковского — и вот текст Джеймза Фёрнли. А мы пока продолжим — песней творческого коллектива The Cure (очень начитанного, вне всяких сомнений), написанной по мотивам детского романа Пенелопы Фармер «Шарлотта иногда»:
Без песен по мотивам произведений Томаса Пинчона у нас, конечно, тоже ни один концерт не обойдется, поэтому вот, наверное, самый знаменитый номер, вдохновленный романом «Радуга тяготения» (вернее, имитирующий идиотские песенки, которые разные персонажи поют там в изобилии), — «Хлещи давай» группы Devo:
Перемотаем немного — Натали Мёрчант и группа «10 000 маньяков» с посвящением писателям «бит-поколения» — «Эй, Джек Керуак» («...я думаю о твоей маме», что вообще-то не фокус, потому что мы о ней все время думаем, читая Джека Керуака):
Еще одно любопытное прочтение: Джон Кейл (и все Velvet Underground в свое время) увлекся романом «Венера в мехах» Леопольда Захер-Мазоха. Получилось, мне кажется, лучше, чем в оригинале, — по крайней мере, несколько поживее:
Вернемся в будущее ненадолго. Рик Уэйкмен, человек несомненно грамотный и любящий литературу (а также, конечно, историю), вдохновился в какой-то момент на оперетту (рука не поднимается сказать «мюзикл») по нехарактерному для этого жанра роману Джорджа Оруэлла «1984». Самый известный зонг оттуда исполняет мало кому в то время известная певица Чака Хан:
Ну и еще одно воспоминание о будущем, раз к слову пришлось — сценические постановки по мотивам литературных произведений мы пока решили не трогать, иначе мы просто запутаемся, но одно гениальное произведение я обойти молчанием все-таки не могу: концептуальную пластинку (раньше их называли «дискоспектаклями») и впоследствии полноформатное мультимедийное шоу Джеффа Уэйна на стихи Гэри Осборна «Война миров» по известно какому произведению. Вот один из самых знаменитых кусков оттуда — вы сразу поймете, о чем речь:
Ну и последний номер нашей сегодняшней программы — по
традиции песенка, к книгам и чтению непосредственного отношения не имеющая, но
уж очень уместная. В ней, судя по изобразительному ряду, речь идет о тайной жизни Хелены Бонэм-Картер библиотекарей:
В общем, не выключайте своих буквенных приемников, мы вам еще и не такого споем. С вами говорил «Голос Омара»
Портрет кого-то где-то
"Портрет художника в юности", Джеймс Джойс
Понял одну простую, но странную вещь. Раз в десять лет нужно перечитывать Джойса.
По ходу чтения "Портрета" всплыла занятная маргиналия (пишется под рубрикой "наши маленькие велосипеды"): "исследовать" параллели у Стивена Дедала и Холдена Колфилда, как выяснилось, давно стало общим местом (я проверял - их сравнивают все, кому не лень), но вот занимался ли кто-то компаративистикой вообще? Потому что "Catcher in the Rye", такое ощущение, весь построен на последнем эпизоде второй главы "Портрета" (после того, как Стивен просаживает премию, после разочарования в отце), а ключевая сцена разыгрывается у Сэлинджера чуть ли не дословно. Т.е. такое ощущение, что весь "Ловец" написан как экзерсис на заданную тему, как вариация, и ключ ко всему образу Колфилда (который через Джойса восходит, понятно, к луне Шелли) - уж не "swoon of sin" ли? Вообще будет, мне кажется, полезно прочесть "Ловца" через призму "Портрета", но это задача для молодых и пытливых академиков (оксюморон?).
...Хотя нет, конечно, это я слукавил. Понятно, зачем я вдруг взялся перечитывать Джойса именно сейчас. Стивен в "Портрете" - примерно ролевая модель для ХХ века, олицетворение разборок не просто индивида, но художника со своей страной, ее историей, религией и политикой. И вывод о невозможности жить в ней - он же не из личных лирических причин, а потому что само пребывание в этой стране становится формой коллаборационизма с отвратительным и эстетически безобразным - нет, даже не режимом, ВСЕМ (недаром же Стивен отталкивается в последний раз от эстетики: у него с Ирландией тоже "эстетические разногласия" (с)). Выполнение своих внутренних (творческих, среди прочего, но, само собой, не только) задач всегда важнее какой угодно национальной / политической / иной аффилиации. Тут же не просто вопрос климата или семьи, тут даже не просто родина из-под ног уходит - у нас такое бывало и раньше, - это тотальный обрыв связей с опостылевшей культурой, с народом, предавшим личность. И вопрос тут далеко не только в "религиозном воспитании", как любили задумчиво посасывать палец совлитведы. Стивену - как, надо думать, и самому Джойсу - в переломный момент кристаллизации творческой личности просто-напросто стало стыдно быть ирландцем.
Цитат приводить не буду - сами все знаете. Но вот уже больше века, как стало понятно еще раз, тексты Джеймса Джойса - по-прежнему отличная прививка от всеобщей экскрементальности.
Мастурбационные фантазии и ру-литература вне зоны .рф
Наши на удивление книжные новости
Мировой сенсацией последних недель стало, конечно, открытие,
что великий затворник Томас Пинчон не только самолично редактировал скрипт той самой серии «Симпсонов», где он появлялся с пакетом на голове, а говорил своим
голосом,
но и то, что Гомер Симпсон для него был ролевой моделью:
Пинчон вычеркнул фразу, в которой должен называть желтого персонажа «жирной жопой»
и приписал: «Простите, парни. Гомер Симпсон — моя ролевая модель, я не могу дурно
о нем отзываться».
Кроме того, обозреватель «iDigital Times» высказывает вполне обоснованное предположение, что Пинчон приложил руку и к сценарию «Внутреннего порока» Пола Томаса Эндерсона — иначе с чего бы вокруг фильма столько странных телодвижений, а также их отсутствия. Меж тем, кинокартину уже окрестили «наркотическим нуаром» и присудили категорию R — это, трепетные наши радиослушатели, «детям до 17 лет»: смотреть его можно только в сопровождении родителей или взрослых опекунов. Причина же в том, что фильм обещает быть примерно идеальным: «на всем протяжении картины — употребление наркотиков, сексуальное содержимое, (не)наглядная нагота, языковые особенности и щепоть насилия».
Ну и еще про литературное кино, раз мы о нем заговорили. Гении книжного блога «Book Riot» предлагают сделать из «Властелина колец» телевизионное реалити-шоу — и обосновывают вполне убедительно. Нам же интересно, считают они, как именно хоббиты топали эти самые 1779 миль от Шира до Роковой горы каждый день (здесь нёрды с тягой к физической культуре и спорту восхитительно скрупулезно подсчитали все расстояния), а подобные передачи-травелоги уже имеются. «Неделя 5: Еще сотня миль. Дойдем ли мы уже когда-нибудь? Вряд ли». Ну и другие идеи у них есть — например, «Шоу Сэма и Фродо» с гостем эфира жутиком Горлумом.
Ну и последняя на сегодня киновость. Теперь прямо у нас по радио можно посмотреть 26-минутный лирически-документальный фильм режиссера и оператора Глеба Телешова «Шум времени», сделанный в 2002 году для Дальневосточного отделения ПЕН-клуба. Это удивительные размышления о судьбе Осипа Мандельштама, в которых участвуют писатель Андрей Битов, автор памятника Мандельштаму скульптор Валерий Ненаживин и город Владивосток.
Теперь о еще более вечном. В «Блумзбери» вышла биография классика английской поэзии «Филип Ларкин: Жизнь, искусство и любовь» Джеймза Бута.
Один из хайлайтов книги — плохо замаскированное сожаление, что «почти вся
коллекция порнографии [поэта] безвозвратно утеряна». Когда б мы знали, из
какого сора…
Свой роман «Коллекционер» 37-летний школьный учитель Джон Фаулз написал всего за месяц, но на публикацию не рассчитывал — как и все предыдущие 15 лет, он работал в стол. Однако случилось невероятное, и роман стал классикой, а его автор, соответственно, — классиком. Когда к Фаулзу в начале 60-х годов кинулись за разъяснениями того, «что же нам хотел сказать автор», он не особо скрывал источники вдохновения: «Замок Синей бороды» Бартока (1911) и кусок криминальной хроники 1961 года, в котором сообщалось о человеке с севера Англии, который похитил девушку и несколько недель продержал ее в личном бомбоубежище у себя в огороде. Но это была не вся правда — в дневнике Фаулз приводит еще несколько: свою давнюю эротическую фантазию о заточении девушки под землей (например, принцессы Маргарет или какой-нибудь кинозвезды) и свою давнюю эротическую фантазию о гареме или отборочной комиссии (с пулом из 600 барышень)… Нет, некоторых вещей о великих писателях лучше, видимо, все-таки не знать.
А в Сан-Франциско устроили новый показ мод хит-парад щеголей и модниц литературного мира — и среди них Донна (естественно) Тартт, Майкл Чейбон, Джеймз (как ни странно) Эллрой,
Джеффри Евгенидес, Джумпа (она выбрала не ту карьеру) Лахири, Зэйди Смит, Эми Тань,
Гей Тэлиз и Том Вулф (два последних по экстерьеру — вообще один человек) и еще
кое-кто. Фэшн-индустрии пора менять парадигму, кинозвезды как-то поднадоели.
Будущее моды — за писателями.
Ну и немного примечательных новинок русской литературы за рубежом, на которых остановился наш не слишком разборчивый взгляд.
Чикагский таксист (и бывший москвич, но это не марка машины) Дмитрий Самаров выпустил продолжение своего мемуара «Водила» — «Куда?». Автор не только возит пассажиров — он уже 14 лет выпускает одноименный самиздатский журнал (и блог), а также очень хороший художник и дизайнер.
У другого москвича — видимо, пока не бывшего — Сергея Кузнецова — в сентябре выходит в Штатах и уже вовсю обозревается критиками «нетипичный детектив с убийством». Называется «Butterfly Skin» и вы все его, конечно же, читали по-русски. А если нет, рекомендую: «Шкурка бабочки» — это «Коллекционер», только пружина сюжета в нем заточена подло и бритвенно.
Один из самых крутых новых игроков на американском книжном рынке — техасское издательство «Deep Vellum Publishing» (а круто оно в силу того, что печатает переводную литературу, а не вот эту вот обычную вашу; в Техасе) — подписало себе еще одного московского писателя — Алису Ганиеву. Ее, как они это называют, «дебютный» роман выходит следующим летом. Называться он будет (в обратном переводе) «Русская стена», и о каком тексте Алисы идет речь, я решительно не понимаю.
Еще одна новинка — на сей раз поэзии и иллюстрации: «Пищевая цепь» Славы Могутина. Выходит в этом году, включает тексты и картинки аж с 1990-х годов, никогда прежде не переводившиеся на английский. Эпиграфом там значится знаменитая русская поговорка: «Волков бояться — в лесу не ебаться». Интересно, переводчику кто-нибудь сказал, что по-русски это еще и рифмуется?
Но что мы все про известных? Этим летом в литературе появилась «темная лошадка», про которую почти ничего не известно. У Ксении Мельник, судя по всему — девушки из Магадана, в издательстве «Хенри Холт» вышел сборник рассказов «Снег в мае». Причем — не в переводе. Он, вы удивитесь, — про Магадан, отчего этот суровый город появился на литературной карте мира. Такие дела.
Ну и на десерт, раз уж у нас зашла речь о Дальнем Востоке (не понимаю, что в этом названии неполиткорректного и чем оно хуже «Тихоокеанской России», о которой последнюю неделю было столько разговоров на фестивале V-Rox), еще несколько любопытных книжек для теоретических дальневосточных книгоиздателей (согласитесь, странно было бы предлагать такое, например, воронежским):
— Кристиан Волмар. «На край света. История Транссибирского Экспресса, величайшей железной дороги на свете». Название говорит само за себя — обязательное чтение для сибирско-дальневосточных краеведов, историков и патриотов.
— Дженет М. Хартли. «Сибирь: история народа». Очерк 400-летней истории освоения Сибири и Дальнего Востока с этнографическими отступлениями, очень нужная книга.
— Джош Вейл. «Большое стеклянное море». Роман-антиутопия, действие которого происходит в тех же дружелюбных краях, что и у Ксении Мельник. По описаниям похоже на заповедник клюквенных деревьев, но кто его знает.
— Лайонел Дэйвидсон. «Колымские высоты». Шпионский триллер 1994 года, переизданный в цифровом формате. Судя по всему, еще раз клюква, но занимательная. Автор уже помер, но, говорят, мог бы писать еще и еще, а так это первая и единственная его книжка, и возникает только один вопрос: почему Колыма?
Ну вот и все на сегодня, дружочки, не выключайте ваши буквенные радиоприемники. Голос Омара вам еще и не такого наговорит.
Интернет - это вирус. Комментарий к новой мифологии для информационного века
"Счетная машина. Избранные эссе", Уильям Берроуз
"Язык - это вирус". Зарождение этого гениального предчувствия Уильяма Сьюарда Берроуза комментаторы относят к 1955 году. Давно определены источники, повлиявшие на эволюцию его мысли: дианетика Л. Рона Хаббарда, а особенно - теория энграмов, которая, в свою очередь, развилась из идеи "мнем" Ричарда Вольфганга Семона; общая семантика графа Альфреда Коржибского (по выражению Дугласа Кана - "теория с безграничными патологическими возможностями"); оргонная теория Вильгельма Райха; иероглифика Древнего Египта. Немалую роль сыграла и личная одержимость Берроуза "Иной Половиной", "Мерзким Духом", сбившим прицел его "кольта" в сентябре 1951 года, когда он с женой Джоан играл в Вильгельма Телля... Но я не о демонах. Вирусной теорией языка в большей или меньшей степени проникнуто все написанное Берроузом. Но, пожалуй, нигде так четко она не сформулирована, как в трактате "Электронная революция", опубликованном в 1971 году. Если вообще можно говорить о четкости его формулировок.
Не претендуя на глубину и всеохватность взгляда (довольно недисциплинированного притом), попробуем сформулировать несколько простых вопросов, возникающих после прочтения этой работы. Потому что прошло больше тридцати лет, а вопросы остались. Больше того - их актуальность подтверждает сама тема "интернета как экосистемы".
Итак, "возьмите слово - любое слово".
Например, "интернет". Грубо говоря - механизм, который разрабатывался с начала 60-х годов в первую очередь для передачи слов. Система, рассчитанная на самовозрождение после насильственного обрыва линий связи (скажем, в результате атомной бомбардировки). Система, способная к самовоспроизведению, местами - к самообучению, имеющая встроенную возможность для расширения самой себя. Иными словами - коммуникационная система, новое средство передачи слов и хранения языка. Немного похожая на энграм. И очень похожая на вирус.
Вслед за Берроузом, язык в данном случае можно рассматривать как некую сущность, предваряющую любые другие индивидуальные или групповые сущности. Язык диктует свои условия фундаментальной способности индивида существовать общественно. Индивид заражается языком с самого юного возраста, задолго до того, как вступает в действие профилактика критического самоосознания и рефлексии. Язык не ограничен телом. Язык для своего биологического носителя - "Иная Половина", часто довольно перпендикулярная:
"Иная Половина - это слово. Иная Половина - организм. Слово - организм. Присутствие Иной Половины - отдельного организма, присоединенного к вашей нервной системе воздушной линией слов, - сейчас можно доказать экспериментально. Одна из самых широкораспространенных галлюцинаций субъектов сенсорной депривации - ощущение постороннего тела, распростершегося внутри тела испытуемого под неким углом... да еще и под каким углом... Иная Половина довольно долго сосуществовала с вами на симбиотической основе. Симбиоз от паразитизма отделяет лишь один маленький шажок. Теперь слово стало вирусом. Вирус гриппа, наверное, когда-то был совершенно здоровой клеткой легкого, а теперь это паразитический организм, вторгающийся в легкие и разрушающий их. Слово, наверное, когда-то было здоровой нервной клеткой, а теперь это - паразитический организм, вторгающийся в центральную нервную систему и разрушающий ее..." ("Билет, который взорвался", 1962).
Анализируя причины "особой злокачественности... словесного вируса" в "Электронной революции", Берроуз говорит о мутациях вирусов, вызванных воздействием радиации в неких секретных лабораториях под покровом национальной безопасности. Прочесть сейчас его тропы и метафоры не проще, чем иероглифы древних египтян. В конце 60-х он вряд ли обладал полными данными о работе над новыми коммуникационными системами в лабораториях институтов, сотрудничавших с Министерством обороны США: как известно, первый план АРПАнета возник к 1966 году, а первых успехов передачи данных в новой среде добились лишь к 1969-му.
Или его прозрение основано на общей логике развития общества как биологического организма, которую он принял как "рабочую гипотезу" уже в самых ранних своих работах? Сама по себе радиация тут явно ни при чем - видимо, он условно называл радиацией любой внешний фактор, вызывающий мутацию в живом организме. По этой логике, возникновение интернета естественно - не появись Сеть, возник бы иной способ обмена данными. Например, телепортация. Или "культы карго" на островах Полинезии.
Столь же поэтически Берроуз пользовался терминологией в конце 60-х годов при проведении экспериментов по распространению звуковой информации с Брайоном Гайсиным и Иэном Соммервиллом. Ему было проще использовать метафору магнитофона как некоего нового технического средства, таящего в себе до конца неясные в то время возможности коммуникации. Что именно можно назвать магнитофонами сейчас, в контексте интернета, - серверы, ноды, jump stations?
Берроуз в сущности вычленял три элемента, необходимые и достаточные для развития вируса - вируса информации, языка, слова:
Магнитофон 1 - носитель вируса, любой биологический организм, который можно рассматривать как клетку, а в случае интернета - тело социума.
Магнитофон 2 - средство доставки вируса, а одновременно - точка входа вируса в носитель, магнитофон 1; применительно к интернету - существующая система коммуникации (например, телефонная сеть или беспроводной эфир).
Магнитофон 3 - воспроизведение, действие, произведенное в носителе вирусом, объективная реальность, созданная этим вирусом (Берроуз также называет его Богом - в этом случае магнитофоном 1 выступает Адам, а магнитофоном 2 - Ева). У гриппозных больных это выглядит просто: жар, кашель, сопли. А в биологическом теле общества? Какова, собственно, цель вируса слова, проникающего в общественный организм? Достижение стазиса, возможность дальнейшего воспроизведения? И только?
Берроуз ссылается на работы Белявина, писавшего, что, с точки зрения вируса, идеальна ситуация, в которой он воспроизводится в клетках, никак не тревожа их нормального метаболизма. "Вирус с добрыми намерениями на медленном пути к симбиозу?" Но все вирусы по природе своей паразиты. Стремление к симбиозу - это стремление к полному клеточному представительству, к замене здоровой клетки. Что в этом хорошего?
"Существует только одна разновидность благоприятной вирусной инфекции, положительно влияющей на малоизученный вид австралийских мышей... Если вирус не вызывает никаких вредных симптомов, мы никак не можем убедиться в его существовании..."
Правильно, пусть ходит непойманный и обиженный, как фотон, ускользнувший от измерительных приборов наблюдателя. Как Неуловимый Джо.
Но мы-то - что мы имеем в нынешней реальности интернета? Мы жалуемся на информационную передозу или на девальвацию слова вообще. На тошноту. Да и сами пресловутые информационные бомбы и войны (тактику ведения которых Берроуз описал еще в 1966 году в эссе "Невидимое поколение") - лишь гнойники, пустулы на общественном теле. Их лучше видно, но симптоматика ими далеко не исчерпывается.
"Может ли этот груз быть хорошим и красивым? Возможно ли создать вирус, который будет передавать спокойствие и милую рассудочность? Вирус должен паразитировать на носителе для того, чтобы выжить. Он использует клеточный материал носителя, чтобы производить копии самого себя. В большинстве случаев это причиняет вред носителю. Вирус вторгается с помощью подлога и закрепляется силой. Нежелательный гость, от одного вида которого вас тошнит, не может быть хорошим или красивым. И более того - гость, который непрерывно повторяет себя, слово за словом, дубль за дублем".
Информационная передоза началась не вчера. И в начале века хватало газет, от которых нормальных людей тошнило. Общество, добившееся удовлетворительного стазиса, традиционно защищается от развития языка целым арсеналом приемов - от реформы правописания и введения языковых норм до прямой цензуры и домостроевской политики доменных имен.
"По большому счету, вирус - глупый организм... Если атака не удается, вирус не получает себе нового носителя... Мы можем... разработать некоторое количество альтернативных методов вхождения. Например, носитель одновременно атакуется вирусом-союзником, который сообщает ему, что все в порядке, и вирусом боли и страха".
Так какова же цель вируса языка, который очень хочет жить? "Диким мальчикам" Берроуза - агентам инфекции - действительно было гораздо проще разжечь беспорядки, чем прекратить их. Они-то сражались с раком бюрократизма и вообще идеей государственности, заразившей здоровый общественный организм, каким его рассматривали условные "дети-цветы", изумленные несправедливым устройством мира. Там все было просто: кому за тридцать, тот и враг. Кто не спрятался, я не виноват. Что мы имеем через тридцать с лишним лет? Интернет стал изобретательным вирусом-союзником языка, не признающим географических границ, территориального деления и вывертов административного устройства. Чего добивается Повсеместно Протянутая Паутина на пути к симбиозу с носителем? Разъедания общественных функций? Распада речи? Биологической мутации всей планеты как единого живого организма?
"Вирус характеризуется и ограничивается обязательным клеточным паразитизмом. Все вирусы должны паразитировать на живых клетках ради собственного размножения. Для всех вирусов инфекционный цикл состоит из вхождения в носитель, внутриклеточного размножения и выхода из тела носителя в целях инициации нового цикла в свежем носителе".
Выход из "глобальной сети" - куда? На Марс? Винтон Сёрф, конечно, хорошо читал Берроуза, он не дурак - TCP/IP все-таки изобрел. Он решил двигаться по простому и очевидному пути экспансии. Как конкистадор. Так, видимо, безопаснее, чем рвать устоявшиеся ассоциативные цепочки на родной планете. Вот только есть одно маленькое "но":
"Если любой может стать [магнитофоном] номером 3, номер 3 теряет силу. Бог должен быть единственным Богом".
Нет никакого Марса. Иллюзия - оружие революции, а не эволюции - тем паче, эволюции вирусной информационной системы.
Паразитизм - в природе вещей. Я не хочу лить воду на мельницы луддитов, но все, что происходит сейчас с нами в Сети, естественно. Вирус слова давно выпустил свои щупальца эктоплазмы. Мы безнадежно заражены и заразны:
"Современный человек утратил способность к молчанию... Попробуйте достичь хотя бы нескольких секунд внутренней тишины - и некий организм начнет сопротивляться вам, заставляя говорить..."
Новая сигнальная система все равно встроится в тело - дополнив или заменив собой прежние скелеты, кровеносные и нервные сети общества. А также, возможно, опорно-двигательный аппарат. Ведь даже сами средства коммуникации становятся ближе к телу клиента - "клеточными": термин "сотовая связь" - не более чем неуклюжий эвфемизм беспроводных гаджетов, которые так эффективно и пугающе жарят нам мозги. Не в этом ли один из смыслов мутации?
Ассоциативные линии неизбежно перераспределяются и перегруппируются. Возьмем пример - простой и очевидный даже в нашей отдельно взятой стране. Кто будет спорить, что система массовой коммуникации несовершенна в том виде, в котором мы ее сейчас имеем? Она уродлива и шизофренична: поистине "царства обратились на ся". Но представьте себе: как жить единому организму, если его левой пятке вдруг захочется выкрасить всю вашу кровь в сиреневый цвет? Что делать остальной анатомии, если нужный голос все труднее разобрать в общем гаме, который постепенно перекрывается стуком красного сердца с явными тоталитарными наклонностями? А глазу вообще приятнее получать информацию нежно-желтого оттенка.
С этой точки зрения так нелюбимая ревнителями чистоты журналистского жанра формулировка "по данным сети интернет" оказывается гораздо внятнее, чем контраргумент "как сказала одна баба в телевизоре". И уж по крайней мере - честнее.
В интернете написали, что Чебурашка становится национальным символом Японии, что Борис Березовский - антихрист и крестный отец Кремля, а в Уганде женщина родила семерых младенцев с песьими головами. Не орите так громко. Все это правда. Это голос вашей лимфы, кровяных телец и нервных волокон. Это новости, которые нужны вашему организму.
Впервые опубликовано Гранями.РуКнижка была лучше? Вот и поглядим
20 грядущих литературных кинопремьер
Может показаться, что мы тут на радио «Голос Омара» только книжки
читаем, да? Ну и музыку иногда слушаем? Признайтесь, так вы уже давно думаете. А
вот и нет. Кино мы тоже смотрим, особенно литературное. Итак, что нас ждет на
экранах в ближайшие пару лет, начиная с условного послезавтра, строго в беспорядке — и только самое, на наш взгляд, занимательное.
1. Конечно же, экранизация «Внутреннего порока» Томаса Пинчона, из-под дирижерской палочки (или чем там они руководят) Пола Томаса Эндерсона. Премьера 4 октября этого года на Нью-Йоркском кинофестивале, ограниченный прокат в Штатах и Канаде с 12 декабря.
2. Конечно же, экранизация неведомых кусков «Трилогии Маккабрея»
Кирила Бонфильоли, из-под пера Дэйвида Кеппа. Английская премьера — 30 января,
далее везде.
3. «Гордость, предубеждение и зомби» Сета Грэйма-Смита снимает Бёрр Стирз, в роли Элизабет Беннетт — Лили Коллинз. Когда выйдет — непонятно.
4. «Скорпионовы гонки» по роману Мэгги Стифватер. Явно про детей и лошадок. С выходом на экраны — то же самое.
5-6. «Книга джунглей» Редьярда Киплинга. Так, главное в них не запутаться. Первую для Диснея ставит Джон Фавро, а на разные голоса там разговаривают Скарлет Йоханссон (Каа — ну кто решится теперь думать, что это мальчик?), Билл Мёрри (Балу), Бен Кингзли (Багира — ну и кто теперь посмеет сказать, что это девочка?), Кристофер Уокен (царь обезьян) и Идрис Элба (Шер-Хан). Она выйдет в 2015 году. Вторую под предсказуемым названием «Книга джунглей — начало» для братьев Уорнер снимает Горлум… пардон, Энди Сёркис. Вот тут будут звучать Бенедикт Камбербэтч (Шер-Хан, естественно, — после драконов ему играть больше просто некого), Кристиан Бейл (Багира), сам Энди Сёркис (Балу), Кейт Бланшетт (Каа) и прочие говорящие зверюшки. С половой принадлежностью персонажей тоже, как видим, все в порядке. Случится это уже в 2016 году. Поскольку изображений никаких пока нет, поставим нашу любимую песенку Питона Каа из диснеевской экранизации 1967 года:
7. «Прогулка в лесах» Билла Брайсона — не совсем роман, скорее забавные мемуары туриста-дикаря в горах Аппалачей. Самого Брайсона сыграет Роберт Редфорд, а его друга Стивена Каца — Ник Нолти. Также следует ожидать появления на экране Эммы Томпсон. Снимает Кен Куопис. Европейская премьера назначена где-то на конец следующего года.
8. «Доказательство юности» Веры Бриттейн — тоже мемуары, только о Первой мировой войне и зарождении «потерянного поколения». Должно быть, интересно, хотя в 1979 году был такой мини-телесериал Би-би-си, поэтому переделывать будут, пожалуй, его. На экране засветятся Кит Хэрингтон, Эмили Уотсон, Миранда Ричардсон, Энн Чэнселлор и т.д. В общем, очень английское кино, всё как мы любим. В Англии премьера 16 января.
9. «Бруклин» Колма Тойбина, а сценарий по нему писал Ник Хорнби, должно получиться что-то путное, хотя рассказывается в этом историческом романе о тяжелой доле ирландских эмигрантов в Америке в 1950-х годах. Сыграют в нем Джули Уолтерз, Джим Бродбент и все эти чудесные актеры с непроизносимыми ирландскими именами.
10. «Тысяча сияющих солнц» Халеда Хоссейни. Про него, правда, еще ничего не понятно, кроме того, что снимает его Стив Заильян.
11. «Инферно» Дэна Брауна. Ну тут наоборот все понятно: Рон Хауард снимает, Том Хэнкс изображает работу мозга. Премьера 18 декабря следующего года.
12. Зато — Серхио Доу (это который «Хемингуэй, охотник на смерть») собирается снимать в Голливуде… та-дамм — «Кожу для барабана» по роману дона Артуро Переса-Реверте. Это, впрочем, будет еще очень нескоро, зато нам есть чего ждать.
13-14. Вторая часть «Сойки-пересмешницы» по «Голодным играм»
Сюзанн Коллинз положит конец этой саге 20 ноября будущего года. Вот заодно один
из трейлеров на первую «Сойку» — она тоже еще грядет, хоть и скорее — в ноябре
этого года:
15. «Франкенстайн» Мэри Шелли. Непонятно, в чем притягательность этого сюжета, а вот поди ж ты. На сей раз самого Франкенстайна сыграет Джеймз Макэвой, а его верного Айгора — Гарри Поттер. Ну, то есть, вы поняли. Правда, ходит слух, что кино будет не про ученого и даже не про его чудовище, а про, собственно, Айгора. Также следует ждать на экране одного из гениев английского Голливуда — Марка Гейтисса. Снимает Пол Макгиган, премьера — 2 октября будущего года. Что-то мне подсказывает, что тут книжка окажется однозначно лучше.
16. Тим Бёртон тем временем экранизирует роман в своем духе — «Дом странных детей мисс Перегрин» Рэнсома Риггза. В нем ожидается Эва Грин, а покажут нам его не раньше следующего лета — после 31 июля. А вот пока кино, которое снял сам автор про свою книжку:
17. Еще одно прекрасное кино — «Инсургент» по роману Вероники Рот, который снимает Роберт Швентке, а на экране следует ждать Наоми Уоттс, Кейт Уинслет и Зои Крэвиц — как, собственно, и в первом фильме, который без затей назывался «Дивергент» (за ним последуют третья и четвертая части трилогии — «Аллегиант» раз и два, по одному в год). «Инсургента» начнут показывать 20 марта, должно быть крайне занимательно:
18. Ну, про «50 оттенков серого» мы долго не будем — там все должно быть гораздо лучше, чем в книжке, как ни верти. Издевательски начнут показывать вокруг 14 февраля.
19. «Последний подмастерье» Джозефа Дилейни будет называться «Седьмой сын» и снимает его Сергей Бодров. В главных ролях — Джефф Бриджес и Джулианна Мур, а также Оливия Уильямз где-то должна быть. Начнут показывать 6 февраля. Вот один из трейлеров:
20. Ох, ну и «Хоббит» конечно же, — который уже давно соотносится с текстом Профессора так же, как гномы со своим золотом. Но — ждем, куда же нам плыть.
Где мы? В Хельсинки...
"Sinä", Игорь Мальцев

«Самые красивые песни у самых отвратительных народов. У тех, которые готовы вам перерезать глотку за какую-нибудь хрень. Например, за веру в бога. Или за кусок земли под маковый посев».
С этих слов начинается четвертая книга известного журналиста Игоря Мальцева. У него, как многие говорят, тоже скверный характер. Мальцев любит старую музыку, играет блюз, коллекционирует гитары. Знаток выпивки и порнографии. Раньше делал журналы — «Медведь», «Водка», «Другой»: в них было что почитать. И возил в Москву музыкальные коллективы из шотландских пабов. Нет, вы не поняли — это не группы, которые там начинали и стали знаменитыми. Это реально группы из пабов. За свои, в общем, деньги возил. Не знаю, как вас, а меня такое к человеку вообще располагает.
Но и это не вся преамбула. Книга Мальцева вышла в криптоиздательстве «Вольный стрелок» Сергея Юрьенена — писателя с такой биографией, что мало не покажется. Те, кто читал его прозу, тоже могут заключить, что человек он не розово-пушистый. Ну и самиздатская платформа «Lulu.com» подсказывает, что в овощных ларьках России «Sinä» вряд ли появится. Тем лучше — ее прочтут те, кому это действительно зачем-то нужно, и коллективный разум российского читательства избавит нас от своих спазмов и метастаз.
О книге своей Игорь Мальцев в самом начале говорит буквально следующее:
“Иногда надо просто извиниться. Перед человеком, перед народом. Если ни у кого не хватило совести извиниться перед народом, придется это сделать мне.”
Мне, сказать вам правду, хватило этих слов для того, чтобы начать читать — и не останавливаться до конца. Так же просто писали простые слова для взрослых людей Воннегут, Довлатов и Бротиган, примерно так же пишет Мартин Миллар. Я читал и хихикал про себя от чистой радости звонких строк («Мы сидели за столом, и Рити сделала нам ужин. Лет десять назад») и «гнутых нот» («Билирубин работает. Альдегид покидает здание. Как Элвис…» — это, надо понимать, о преодолении похмелья), от счастья узнавания ситуаций и персонажей, от потока фраз и историй, вроде бы бессвязного, но аранжированного по музыкальным законам, которых не увидишь глазом, а надо только слышать, от блюзовых аккордов — названий глав. За такие музыкальные истории о людях я бы много чего отдал в детстве: электрофон «Аккорд», может, и не отдал бы, но вот кассетник «Весна» — точно. Потому что «Sinä» — насквозь музыкальная проза, маленький рок-н-ролльный роман, каких нам в свое время так сильно не хватало:
“Удивительное дело — но вот точно так же относятся к своему времени в Ленинграде. Много разговоров о чем-то гениальном, что предстоит сделать. Потом многие часы за бутылкой. Потом посылаем еще. Потом ребята приехали и поехали к Коле. Там еще купили выпить. Потом Алекс Оголтелый приехал, свернули папиросу и еще выпили. На следующий день все то же самое. Это они называли рок-н-ролл. Я выдержал всего месяц и слинял в неродную Москву.”
И такие вот рассказы о вещах как раз по мне:
“…Вообще-то у него еще есть старая неглаженая майка с портретом Боба Дилана. И расписанием его концертов за 1992 год. — Ты знаешь, Боб Дилан никогда не знал, что он будет делать в студии. И музыканты у него не знали ничего до последней минуты, пока он не начинал играть и петь. «One More Cup of Coffee» потому так звучит раздолбайски, что она — Эммилу Хэррис — или Джони Митчелл просто повторяет за ним только что услышанный текст. Про последнюю чашку кофе, перед тем как он уйдет вниз, в долину. И, конечно, еще девочка скрипачка, которую они просто пригласили с улицы. Вот прикол — еврейский мальчик сделал американскую народную музыку. Городской ковбой.”
Такой безбашенный постмодерн многие пытались писать, но по-настоящему получается у единиц. Я бы сказал — у людей подлинно свободных, как снаружи, так и внутри. И Финляндия здесь — лишь точка приложения творческих сил. Страна может быть любой. Igorrr — «человек от музыки, а не от России» — мог бы написать о чем угодно, да и список народов, у которых другим народам стоило бы сейчас попросить прощения, был бы длинен. У евреев, русских, немцев, американцев… Немцам, русским, американцам… Евреям тоже наверняка, если поискать, найдется, перед кем извиниться.
Сейчас, казалось бы, извиняться русскому перед финнами как-то неактуально. Это ведь даже не «Двести лет вместе» — нет того накала страстей, да и история, пожалуй, не так длинна и не настолько подла и кровава. Империи каюк, и больше не нанесет она никакого ответного удара. Однако есть все же в идее массового покаяния нечто постыдное, свойственное пресловутой «соборности» рад, сеч и коммунизма. Мы вот, мол, сейчас встанем на коленки, постучим челами в пол все дружно, мы пожалеем, нас пожалеют, а потом опять можно грешить и делать пакости сопредельным народам… А то и не все дружно постучим, тут же как в групповом изнасиловании, знаете, — в толпе сачкануть легче.
Нет, Мальцев явно выбирает «путь самурая» и остается с историей и совестью наедине. Так уже не будет обратной дороги, и мы, читатели его книги, можем быть уверены: по крайней мере еще один человек не пойдет жечь и убивать, не побежит с погромом, не полетит бомбить Хельсинки… Потому что свое личное прощение у народа просит он, наверное, единственно верным способом, возможным для порядочного человека. Он просто рассказывает нам о своих знакомых финнах — неизвестных гениальных музыкантах и конструкторах винтажных усилков, коллекционерах порнографии, битых жизнью официантках, медсестрах и учительницах начальных классов. О фриках, чудаках, выродках, маргиналах. А в этом котле варятся не только финны и русские, но и арабский студент Одесской мореходки по имени Джихад, и черные швейцары, и сириец, отзывающийся на ветхозаветную кличку Моисей, и депрессивные венгры — создатели Знаменитой Суицидальной Песни «Gloomy Sunday», ну и евреи, конечно, куда ж без них…
“Евреи? Где евреи? Джихад оживляется. Он затягивается косяком, от которого осталась одна только пяточка. Да. Точно. Во всем виноваты евреи. Если бы не евреи я бы сейчас… да я бы… Джихад, сидел бы ты в своей Сирии как цуцик и помалкивал, вот что бы ты делал. Так что не болтай лишнего.”
И надо сказать, что варево это обильно приправлено музыкой, едой, историей, бухлом, гитарами и клавишными, архитектурой, порнухой и любовью. Любовью не только к стране, которая едва бибикает на экранах российских массовых радаров, войдя в анекдоты и довольно низкопробные кинокомедии, но и ко всем ее людям. К каждому в отдельности — в том числе.
“Знаешь, чему меня научила Ритва? Нет, не минету. Я вас каждого могу научить отсосу и без Ритвы. Однажды я стоял на краю питерской мостовой и провожал группу «Tarot», которая только что дала просраться местным питерским легендарным музыкантам. Рядом со мной стояла баба, которая привезла в Питер финские провинциальные команды. Провинциальные настолько, что выглядели рядом с легендами питерского рок-клуба словно натуральный Давид, мать его, Ковердейл. Мы ждали автобус. Тут она встала раком и начала собирать стекла от битых бутылок, которые были рассыпаны вдоль улицы Рубинштейна. Русскому человеку эта картина кажется дикой. Потому что каждый из нас знает, что в битье стекол мы обретаем наше русское национальное сознание с детства. И никому в кошмарном сне не придет в голову собирать осколки с тротуара или с проезжей части. Потому что, раз начав, он может посвятить этому всю оставшуюся жизнь. Зачем ты собираешь осколки? И она сказала фразу, которая глубоко чужда русскому национальному характеру: А вдруг сейчас подъедет машина и распорет об осколки шину? Ты знаешь, в чем дело — в России всем глубоко наплевать, подъедет или не подъедет машина и распорет ли она себе шину о разбитую пивную бутылку или нет. Ритва мне преподнесла урок лютеранского отношения к жизни…”
А потом в какой-то миг таинственным вывертом авторской логики все становится уже не так весело. Потому что вдруг понимаешь, зачем перед трагическим, страшным концом автор вставил в свой вроде бы исповедально-автобиографический разухабистый текст новеллу о дозоре — о нескольких финских долбоебах с уже знакомыми нам именами, которые во время Зимней войны случайно берут в плен отбившегося от своих войск русского долбоеба Игоря и несколько дней порываются расстрелять у озера, но так почему-то и не расстреливают, а, наоборот, ловят и коптят с ним рыбу, допивают остатки спирта, играют в шеш-беш, парятся в сауне и прячут от проверяющих… Общаясь при помощи всего двух слов: minä — я, и sinä — ты… Sinä - от слова «грех».
Это не русофобская, не финнофильская и не мизантропическая книга, что бы вам ни говорили о ее авторе. Это взгляд на всех нас и на нашу общую историю — трезвый взгляд честного и здравого человека, пропущенный через призму, троекратно промытую чистейшим «Синебрюховым». Взгляд автора, много повидавшего в человеческой жизни, однако не упустившего из виду самую большую ценность этой самой жизни — ее саму. Вне зависимости от акцента, цвета кожи и волос на лобке… Ну и отличный способ даже не попросить прощения у народа — это было бы слишком просто и по-детски, но — принять его, Принять Другого. Просто бухнуть с человеком, покурить, переспать, поездить с ним на поезде без билета. А потом рассказать — о разных фриках и выродках. Из других русских писателей так когда-то умел, пожалуй, один Аксенов, только это было давно.
Трактат об ужасе
"Слепота", Жозе Сарамаго
Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Слепота. «Мы слепы», — подумал однажды подмастерье, после чего сел и написал «Рассуждение о слепоте», чтобы напомнить тем, кто, быть может, прочтет его, что, унижая жизнь, мы извращаем разум, что человеческое достоинство ежедневно попирается сильными мира сего, что множественность истин заменена одной универсальной ложью и что человек перестал уважать самого себя, когда потерял к прочим представителям рода человеческого уважение, которого они заслуживают. И тогда подмастерье, словно в попытке изгнать бесов, порожденных слепотой рассудка, стал писать самую простую из своих историй: один человек ищет другого, потому что понимает — ничего важнее не может потребовать от него жизнь. Ибо Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Господь? Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы преткнуться ему; бойся Бога твоего. Я Господь. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. И когда приносишь в жертву слепое, не худо ли это? или когда приносишь хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф. Говорит? Еще как говорит. А нетерпеливые водители, то выжимая, то отпуская педаль сцепления, все равно не дают своим машинам покоя, и те чуть поерзывают вперед-назад, нервно подрагивают, как кони при виде хлыста. Пешеходы уже прошли, но сигнал, именуемый разрешающим, появился лишь через несколько секунд, укрепляя кого-то во мнении, что именно эта заминка, которая кажется столь незначительной, умножившись на тысячи светофоров по всему городу, постоянно чередующих свои три цвета, и есть главная причина тугой закупорки уличных артерий, пробок, проще говоря. Наконец дали зеленый, и когда пошли к нему Сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: порази их слепотою. И Он поразил их слепотою по слову Елисея. Изумляйтесь и дивитесь: они ослепили других, и сами ослепли; они пьяны, но не от вина, — шатаются, но не от сикеры; а так не скажешь. На вид, то есть на первый и неизбежно в таких обстоятельствах беглый взгляд, оба глаза у них целы и невредимы, радужка блестящая и светлая, склеры белые и плотные, как фарфор. Обычное дело: сдох акселератор, гидравлика накрылась, заело что-нибудь в коробке передач, заклинило тормозные колодки или отошел контакт, а, может, просто бензин кончился. Новое скопление пешеходов, образующееся на тротуарах, видит, как за лобовым стеклом размахивает руками водитель, слышит, как истошно сигналят ему задние. Одни уже выскочили на мостовую с намерением оттолкать застрявшую машину с проезжей части на обочину, другие стучат негодующе в поднятые стекла, а человек за рулем вертит головой туда-сюда, кричит что-то, и по шевелению его губ можно понять, что он повторяет одно и то же слово, нет, не одно, а два — два, что подтвердится, когда удастся наконец распахнуть дверцу: Я ослеп. И всех людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа. И автомобили здесь брошены другие, дорогие, просторные, вместительные, удобные, вот почему столько слепцов желает ночевать в них, и, судя по всему, этот огромный лимузин превращен в чье-то постоянное обиталище, потому, надо думать, что возвращаться к машине легче, нежели в квартиру, и занявшие его поступали, наверное, как те слепцы в карантине, ощупывали и отсчитывали машины от угла: двадцать семь, левый ряд, вот я и дома. А в доме, у подъезда которого стоит этот лимузин, находится банк. Сюда на еженедельное пленарное заседание, первое после начала эпидемии белой болезни, привезли председателя совета директоров, но отогнать машину в подземный гараж, где она ожидала бы окончания дебатов, уже не успели. Шофер ослеп в тот миг, когда председатель через центральный подъезд, как ему нравилось, вошел в вестибюль банка, закричал, это мы все о шофере, но он, а это уже — о председателе, не услышал. Впрочем, и заседание оказалось не таким уж пленарным, как предполагалось и каким бы ему полагалось быть, ибо за последние дни ослепли некоторые члены совета директоров. И председатель не успел объявить об открытии сессии, на которой собирались именно обсудить, какие меры следует принять по поводу внезапной слепоты всех членов наблюдательного совета, и не успел даже войти в расположенный на пятнадцатом этаже конференц-зал, потому что поднимавший его лифт застрял между девятым и десятым — электричество отключилось, причем, как оказалось, навсегда. А поскольку известно, что пришла беда — отворяй ворота, в этот самый миг ослепли электрики, ответственные за внутренние сети и, следовательно, за бесперебойное функционирование генератора, старинного, давно уже подлежавшего замене на автоматический, и в результате, как уж было сказано, лифт стал намертво между девятым и десятым этажами. Председатель увидел, как ослеп сопровождавший его лифтер, а сам потерял зрение час спустя, а поскольку электричество так больше и не включилось, а случаи слепоты в банке в тот день почему-то участились, то, надо полагать, эти двое и сейчас еще пребывают там, мертвые, разумеется, замурованные в стальном гробу кабины и потому счастливо избежавшие участи быть сожранными бродячими псами. Сумасшествием и оцепенением сердца тоже поразил их Господь. И стали они ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит впотьмах, и не имели успеха в путях своих, и теснили и обижали их всякий день, и никто не защитил их. Бродили, как слепые по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одеждам их. Осязали, как слепые стену, и, как без глаз, ходили ощупью; спотыкались в полдень, как в сумерки, между живыми — как мертвые. Стражи их слепы все и невежды: все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. А ну, тихо, сказал главарь, еще не все. Плотно ухватил девушку в темных очках и восхищенно присвистнул: Ух ты, подфартило нам сегодня, такое богатство подвалило. Войдя в раж и не выпуская девушку, другой рукой провел по телу последней в шеренге и снова присвистнул: Малость переспелая, но тоже хороша, хороша, очень даже. Дернул к себе обеих и, в предвкушении едва не захлебываясь слюной, объявил: Эти две мои, потом получите, как оприходую. И потащил в глубь палаты, где штабелями громоздились коробки, жестянки, пакеты с продовольствием, которого хватило бы на целый полк. Все женщины уже подняли крик, перебиваемый звоном оплеух, глухими ударами, ревом: Да не ори, тварь, что вы за народ такой, не можете не скулить. Врежь ей еще, пусть заткнется. Ничего, это поначалу, распробует, потом сама еще попросит. Ну, разложите вы ее, сколько можно, нет больше сил терпеть. Уже пронзительно выла под грузным слепцом та, которая не спит по ночам, четырех других взяли в кольцо, плотно обступили, тянули в разные стороны, отпихивая друг друга, огрызаясь, как гиены над полуобглоданной падалью, стягивали с себя штаны. Но проклят, кто слепого сбивает с пути! И весь народ сказал: аминь; привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? глаза людей сих ты захотел ослепить? не пойдем! Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. И явился средь них тот, кто был глазами слепому и ногами хромому; и повел слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями повел их; мрак сделал светом пред ними, и кривые пути — прямыми: вот что он сделал для них и не оставил их. В тот вечер опять читали и слушали чтение, иных развлечений у них не было, и как жаль, что доктор не был, к примеру, виолончелистом-любителем, ах, какие нежные мелодии полились бы тогда с пятого этажа, лаская слух соседям, которые с завистью думали бы, наверно так: Ишь, как у них там весело, или: Есть же такие бесчувственные люди, думают убежать от своего несчастья, смеясь над несчастьем других. Но нет, иной музыки, кроме той, что звучит в словах, из окон не доносится, слова же, особенно написанные в книгах, скромны и негромки, так что если кому-нибудь придет в голову подслушать у двери, он ничего не разберет, кроме одинокого бормотания, тянущего длинную нить звука, который способен продолжаться бесконечно, ибо количество книг в мире бесконечно, как, говорят, и сам этот мир. Только ничего хорошего из этого все равно не выйдет. Сами увидите. «Я — не безбожник, — сказал подмастерье. — Ежедневно я пытаюсь отыскать приметы Бога, но, к несчастью, мне это не удается».
В композиции использованы фрагменты Танаха, цитаты из романа Жозе Сарамаго «Слепота» и его Нобелевской лекции 1998 г. в переводе А.С. Богдановского.
Битники по-английски
"Под сетью", Айрис Мёрдок
Первый роман Айрис Мёрдок считается философско-плутовским романом (с юмором), а советская критика (естественно) причислила его к образцам творчества «сердитых молодых людей» (потом, правда, русская несколько одумалась и теперь не причисляет его ни к чему).
На самом деле, это битницкий роман, только пересаженный на британскую почву: нормальный герой Керуака (только чуть больше вписанный в социум и устроенный в жизни) попадает в мир примерно Вудхауса и мотается не с одного края континента на другой, а из Лондона в Париж и обратно, а также шляется по самому Лондону и купается в Темзе. Вот такие в Англии были бы битники: как Джейк Донахью. Но в Англии, как известно, битников не случилось, они случились в другом месте.
И Айрис Мёрдок поставила эдакий трогательный и трепетный эксперимент, поэтому роман остался эдакой диковиной, а традиции, в общем, не породил. Но все условия соблюдены, и книга действует на сознание точно так же, как романы Керуака: на всю жизнь делает инъекцию тяги к свободе. Только читать, естественно, ее нужно в правильном возрасте — где-то в районе двадцати. Именно тогда послушные мальчики и девочки становятся сердитыми молодыми людьми, битниками, хиппи или панками.
P.S. Из русского издания зачем-то убрано посвящение Раймону Кено, а оно бы многое объяснило.
…А у нас идет концерт
На фоне лондонских дождей
Наши воскресные литературные концерты, как оказалось, пришлись по душе скитальцам по волнам буквенного эфира, поэтому — продолжим. И начнем в этот раз, пожалуй, с гимна писателей, усовершенствующих реальность, — «Каждый день я пишу книгу» Элвиса Костелло и его «Аттракционов»:
Следующий номер нашей сегодняшней разнообразной программы — Рэчел Блум с эпохально литературной песней «Выеби меня, Рей Брэдбери». История умалчивает, успел ли классик научной фантастики выполнить просьбу, но песенка ему, судя по всему, понравилась.
Перенесемся через города и годы — и вот это или тоже признание в любви другому хорошему писателю, или я не знаю что. Светлана Сурганова и «Мураками» (и они, по-моему, еще не встретились):
Едем дальше — вглубь веков. Спорим, вы не знали, что коллектив, членов которого сразу не заподозришь в любви к чтению, эту песенку сочинили, начитавшись Уильяма Барроуза. «Дюран Дюран», «Дикие мальчики»:
Кстати, о Барроузе. Он стал персонажем великой песни Джона Кейла «Dying on the Vine», которая, в общем, вся про битников:
И еще один трибьют писателю — вернее сказать, его творческому методу. Песню Кенни Чесни «Виски Хемингуэя» поет Гай Кларк — у него это получается достовернее:
А теперь вернемся к классике: «Лед Зеппелин», как известно, среди прочего (и веществ) вдохновлялись не только фольклором и оккультом, но и Профессором. «The Battle of Evermore» — один из примеров того, как «Властелин колец» проник в музыку ХХ века:
Как работает вдохновение — великая загадка, но на гениальный монолог «Ангел тяготения» Лори Эндерсон вдохновила «Радуга тяготения» Томаса Пинчона. Его, впрочем, тоже можно считать объяснением в любви писателю:
Ну и последний наш классический номер. Когда в жизни встречаются два гения, из этого может и ничего интересного не получиться: поговорят о погоде, кукурузных фьючерсах (tm) или вообще будут сидеть и дуться, как Джойс и Пруст. Но если встреча происходит в иных мирах — над пространством и вне времени, — может возникнуть и нечто гениальное. Пример тому — песня Леонарда Коэна «Возьми этот вальс», написанная на основе «Маленького венского вальса» Федерико Гарсии Лорки:
А это — наш традиционный бонус. Песенка, в которой книжки играют важную роль, — такие мы тоже любим. Ну и про литературу, конечно:
С вами была радиостанция «Голос Омара». Не теряйте нашу волну, у нас для вас еще много разного припасено.
Достоверно, ибо невозможно
"Мистериум", Эрик Маккормак
 Каррик — окутанный туманами сонный городок где-то на севере Острова. Но в него приезжает чужак из Колоний, и начинается бесовщина: сначала кто-то уничтожает памятники героям Войны, затем оскверняют кладбище, заливают кислотой книги в городской Библиотеке… Посреди зимы на городок наступают полчища насекомых. Однако подлинная чума обрушивается лишь после того, как находят варварски изувеченный труп местного пастуха. Сначала гибнут животные, за ними — дети. Когда приходит черед взрослых, город изолируют. Но не раньше, чем все жители начинают говорить — и уже не могут остановиться.
Каррик — окутанный туманами сонный городок где-то на севере Острова. Но в него приезжает чужак из Колоний, и начинается бесовщина: сначала кто-то уничтожает памятники героям Войны, затем оскверняют кладбище, заливают кислотой книги в городской Библиотеке… Посреди зимы на городок наступают полчища насекомых. Однако подлинная чума обрушивается лишь после того, как находят варварски изувеченный труп местного пастуха. Сначала гибнут животные, за ними — дети. Когда приходит черед взрослых, город изолируют. Но не раньше, чем все жители начинают говорить — и уже не могут остановиться.
«Мистериум» — тонкая и коварная паутина лжи, сплетенная канадским мастером саспенса Эриком Маккормаком, еще одна история о самой причудливой литературной вселенной нашего времени. Мы все — читатели искушенные. В книгах для нас уже, наверное, почти не осталось тайн. Тем паче — в тех, что написаны в таком достойном и освященном многовековой литературной традицией жанре, как детектив. Тут нас не объедешь на кривой козе: даже в Библии есть криминальные сюжеты, что там говорить, например, о древних греках: «Царь Эдип» — это же детектив чистейшей воды.
Мы все про них знаем. Сыщик должен понимать четыре главные вещи: кто, кого, когда и где. Если сыщик очень умный, ему захочется также выяснить, как и почему. Наше удовольствие от чтения детектива вроде бы должно возрастать обратно пропорционально сыщицкому интеллекту: чем больше ходов или мотивов мы предугадываем, тем умнее себя чувствуем. Хотя с какого-то момента в истории развития жанра читателям стало гораздо больше нравиться умение автора водить их за нос: читаешь и крутишь головой — эк, мол, завернул, я бы ни за что не догадался, что миссис Браун стукнули гаечным ключом в оранжерее в 3.47 утра.
И вот когда жанр детектива успокоился в своем каноне, а разнообразие новых творений стало достигаться за счет скорости погонь и стрельбы, изощренности способов кровопролития, обилия точных технических деталей и степени безумия главного маньяка, появился Эрик Маккормак и написал «Мистериум». Книгу не просто тревожную, а, прямо скажем, подрывную.
Сначала он, казалось бы, сам рассказывает нам, кто. Кого и где — тоже понятно: вымирает не только все население бывшего шахтерского городка, но и окрестная живность, от кроликов до овец. Да и с когда, наверное, ясно — ну вот только что, незадолго до появления в этих местах столичного репортера Джеймса Максвелла. Хотя не вполне: у многих секретов здесь очень длинные и глубокие корни. Как — уже намного сложнее: именно этому и посвящена бо́льшая часть домыслов, предположений и теорий нашего сыщика, именно здесь нам предстоит помериться с ним интеллектом. Но самым главным вопросом до последней строки романа останется — почему?
Тут уж я вам не подсказчик. Посоветовать могу только одно: внимательно присматривайтесь к фразам пейзажа.
P.S. Кроме того, на русском выходили "Летучий голландец" (который, конечно, должен был называться "Голландской женой", но вмешались маркетологи), "Мотель Парадиз", о котором мы разговаривали на прошлой неделе, и "Первая труба к бою против чудовищного строя женщин". Без этих книг ваше представление о разнообразии литературных вселенных будет неполно. Напомню, что на русском не издан только превосходный сборник рассказов "Осмотр склепов" и новый роман Маккормака, выходящий в августе (в Канаде).
Бестиарий судьбы
«Мотель "Парадиз"», Эрик Маккормак
На смертном одре дедушка завещал юному Эзре Стивенсону историю — дикую и причудливую. О четырех братьях и сестрах с библейскими именами — Эсфирь, Захария, Рахиль и Амос. Их отец, судя по всему, совершил такое, по сравнению с чем бледнеют любые кошмары. Эзра вырос и отправился на поиски мифических героев старой истории. Ответы находились в разных местах — в Институте Потерянных, в глубине южных джунглей, в гостиных серебряных старцев… Но доверять не стоило никому.
Bestiarum vocabulum, как нам говорит энциклопедия, — это компендиум зверей. В Средние века читающая публика (которой, правда, было не так много, как сейчас) любила такие книги — богато иллюстрированные сборники описаний настоящих и мифических животных, птиц и даже камней. Их внешность, повадки и свойства, как правило, сопровождались неким моральным уроком. Например, считалось, что зверь пеликан имеет привычку раздирать себе грудь и вскармливать потомство собственной кровью, а потому есть живое воплощение Христа. Люди свято полагали, что весь мир вокруг — Слово Божье, следовательно, все в нем имеет глубокое символическое значение. Хотя иногда ученые уже Нового времени отыскивали подтверждение архаическим представлениям о природе. Угадайте, что на самом деле видели древние, наблюдая за пеликаном…
Писатель подобен такому творцу-вседержителю. Он создает свой мир по собственным — часто весьма причудливым — законам, и те, кого он поселяет на страницы своих книг, подчинены ему абсолютно. Литературные герои могут быть сколь угодно своевольны, однако слово автора для них — закон. Да и как иначе, если возникли они исключительно в его воображении?
Эрик П. Маккормак родился в 1938 году в бедном промышленном городке Беллшилл под Глазго в семье сталелитейщика. Изучал английскую литературу в Университете Глазго, преподавал в средней школе шахтерского городка Мьюиркирк в Шотландии. В 1966 году уехал в Канаду для научных изысканий в университете Манитобы, где и защитил диссертацию по энциклопедическому труду английского писателя-эрудита Роберта Бёртона «Анатомия меланхолии». С 1970 года преподает в Университете св. Джерома в Ватерлоо (Онтарио): специализируется на литературе XVII века и современной беллетристике, пишет стихи и прозу.
Вот по всему по этому он попробовал иначе поступить со своими героями — и появился роман-загадка «Мотель “Парадиз”», этот современный бестиарий судьбы, в котором нельзя верить никому. Ни словам на бумаге, ни героям, многие из которых знакомы нам по другим книгам этого писателя, ни рассказчикам чудесных и жутких историй, которыми наполнена эта книга, ни… вы угадали — самому автору. Маккормак, правда, щедрой рукой лукаво рассыпал по всей книге подсказки, но я почему-то уверен: ни у одного из читателей этой книги головоломка не сложится одинаково.
И каждый увидит своих причудливых зверей, о которых нам рассказывает «Мотель “Парадиз”». Они не будут похожи друг на друга.
P.S. А напоминаем мы вам об этой книге потому, что в августе этого года выходит новый роман Эрика Маккормака, который называется "Облако". Его уже называют "шедевром литературной готики", и как раз в этом случае я готов верить издательской аннотации. Приключения в слегка альтернативной литературной вселенной Маккормака никогда не разочаровывают. А у нас появится еще один повод пикетировать местные издательства.
Немного солнца в холодной воде
Наши удивительные литературные новости
Так, что мы имеем на сегодняшний день? Сначала картинки, потом все остальное.
Независимое издательство «Devault-Graves Agency» из Мемфиса, Теннесси, не просто официально выпускает три ранних рассказа Джерома Дэйвида Сэлинджера,
а выпускает их *иллюстрированными*. 23-летней художницей из Бруклина по имени
Энн Роуз Йокен. Программа по изданию неопубликованного наследия Дж. Д. тем
самым началась и продлится следующие шесть лет. Непонятно только, как удалось
добиться от наследников разрешения иллюстрировать его тексты — сам Сэлинджер был бы этим очень недоволен.
Еще про иллюстрации. Общество «Фолио» заказало Джону Вернону Ллойду иллюстрации к ночному роману Джеймса Джойса «Finnegans Wake». За два года художник
сделал 11 картинок. Очень старался, я не шучу, посмотрите сами.
Немного чистых и бессмысленных картинок. Здесь можно насладиться полезной инфографикой о наших читательских предпочтениях в кабинетах задумчивости, уединения и прочей активной деятельности кишечника. А вот здесь в наглядном виде представлено резюме Шерлока Холмса. Я не знаю, насколько эти сведения могут нас обогатить, но выглядит все очень нарядно.
Кстати, о Холмсе. Умелец Брайан Джозеф Дейвис занимается тем, что составляет фотороботы литературных персонажей. Холмс у него, правда, как
полагают, скорее похож на помесь Миджа Юри из «Ультравокса» и Уильяма Берроуза,
но намерение засчитывается. Также на его стенде «Их разыскивает полиция» — мадам
Бовари, Рочестер, Гумберт Гумберт, Дейзи Бьюкенен и другие.
О Берроузе заодно. Талантливый человек талантлив во всем,
как известно, поэтому никого особо не удивило, что вышел альбом его отличных фотографий «Taking Shots: The Photography of William S. Burroughs». Удивительно, что
только сейчас.
О пользе картинок. Здесь рассказывается чудесная история о том, как в начале ХХ века детская книжка «Маленький красный маяк и большой серый» Хильдегарды Свифт, проиллюстрированная отцом современного графического романа Линдом Уордом спасла собственно маленький красный маяк под большим серым мостом. Он и
посейчас — единственный маяк на острове Манхэттен. Читатели отстояли.
Немного статистики. Утверждают, что средние книги за последние сто с лишним лет стали толще. В 1904 году объем тома составлял в среднем 219 страниц, в 2014-м — 345. Это, мне кажется, неплохо — я люблю толстые книжки, многие из вас, я уверен, тоже. Но вот не все издатели с этим согласны. Например, стало известно, что Уильяму Т. Воллманну его издатель поставил условие в контракте — не больше 700 страниц. Воллманн с пятым томом своей «индейской саги» размахнулся до 2100, издатель встретил такой объем без особого энтузиазма, поэтому писатель сократил книгу до 2300 страниц. Ибо нефиг. Это волюмометрический волюнтаризм, разновидность цензуры.
Кстати, о цензуре. Здесь вы найдете неплохой обзор сразу трех недавних изданий о ней и о том, как с нею бороться: «Дело Живаго: Кремль,
ЦРУ и битва за запретную книгу», «Самая опасная книга: Битва за “Улисс” Джеймса
Джойса» и «Фетва Рушди и после». Три истории из истории литературы ХХ века —
как ни печально, в XXI-м
они сохраняют свою актуальность.
На краудфандинговой платформе «Кикстартер» началась кампания по сбору средств на издание «Библии». Нет, не просто на очередное издание «Библии»,
на это денег вряд ли соберешь. Художник Эдам Льюис Грин давно хотел издать это
произведение как литературный текст, а не пособие по промыванию мозгов или
учебник по нетерпимости. Без глав. Просто текст. Просто литература.
Ну и про фантастику. Франшизе «Звездного пути» скоро исполняется
полвека, и по этому поводу Марк Олтмен и Эдвард Гросс готовят том под названием «Задание на 50 лет: полная нецензурная и неавторизованная устная история “Звездного пути”». Только тру-фанатам.
А книжный магазин «Амазон» (это же просто книжный магазин,
правда?) уже заказал пилот к телесериалу по роману Филипа К. Дика «Человек в высоком замке». Писать его будет бывший сценарист «Х-папок» Фрэнк Спотниц.
Детство в полосатой пижаме
"Мальчик в полосатой пижаме", Джон Бойн
Дети становятся старше. Не в том смысле, что рано или поздно они подрастают, а в том, что пресловутый «младший и средний школьный возраст» сейчас способен впитать гораздо больше данных и чувств, нежели могли предложить школьные бестселлеры моего детства — какие-нибудь «Максим в стране приключений» или «Последний день туготронов». И как бы нежно сейчас ни относились к Валентине Осеевой, «Васек Трубачёв» не считается — это все же по другому ведомству, штатскому. Литературного мусора в детстве поглощалось много, всего не упомнишь. Хотя не слышится ли в этом некий холодный смех ангелов? Поищите сейчас сайт издательства «Детская литература», и с немалой вероятностью гуманный Google скажет вам так: «Warning — visiting this web site may harm your computer!» Раньше предупреждать надо было, пока мы не увидели всех этих белочек, ежиков и заек.
О том, что детская литература «взрослеет», всерьез заговорили не очень давно, и, конечно, разговоры по новой традиции начинаются с известной литературной сказки о раненном в лоб очкарике. Хотя эпопея Джоан Роулинг способна вызвать дискуссии о чем угодно, вплоть до «загадочной еврейской души», это не единственное произведение рубежа веков, пересекшее жанровые и возрастные границы. Условно детскую книгу в 2006 году выпустила радикально «взрослая» и подчеркнуто «провокационная» Дженет Уинтерсон — и это не было сознательным маркетинговым ходом издателей, уловивших тенденцию. В романе «Tanglewreck», до сих пор не существующем по-русски, Уинтерсон, признанный голос гей-движения, рассказывает юным читателям сказку — но не о трагической любви людей одного пола, а о метафизическом и философском постижении времени и пространства. А Маркус Зузак, вообще-то получивший известность в Австралии как автор «подростковый», наоборот, написал детскую книгу о Второй мировой войне, настолько пронзительную и страшную, что ее, похоже, оценили преимущественно взрослые, включая кинематографистов.
Вот об этом — о страшном, о кошмарной истории прошлого века — мы в детстве и помыслить не могли. Нам, конечно, рассказывали страшное, но там было все понятно: вот наши, вот фашисты. Белое и черное, красное и коричневое. От всего ужаса исторической неоднозначности нас старательно оберегали, чтобы не сбить прицел. И только сейчас появляются люди, которые не боятся всерьез говорить с юными читателями о том, как непросто разобраться во всем, что осталось за страницами учебников и книг для чтения. Не только о «любви к родине (tm)» или подвигах пионеров-героев. Да, время все расставляет по местам, но кто обещал, что расстановка будет игрой в «музыкальные стулья»?
Ирландский писатель Джон Бойн (р. 1971) — автор шести романов, из которых два в России стали известны давно: «Похититель вечности» и «Криппен». Оба — вроде бы криптоисторические «массовые» бестселлеры, и интересны они в первую очередь авторскими экспериментами со временем и с переосмыслением некоего исторического опыта. Но в 2006 году свет увидела его детская повесть «Мальчик в полосатой пижаме». В сухом остатке: книга переведена больше, чем на тридцать языков, получила или была номинирована на примерно 15 литературных премий, вышла экранизация с Дэвидом Тьюлисом.
Фильм «Мальчик в полосатой пижаме» снимался в апреле-июле 2007 года в Будапеште. В одной из главных ролей — английский актер Дэвид Тьюлис, которого российские зрители прекрасно знают по множеству ролей, в частности — Поля Верлена в драме Агнешки Холланд «Полное затмение» и Римуса Люпина в экранизациях «Гарри Поттера». Английский режиссер Марк Херман известен меньше, хотя его фильм «Brassed Off» (в российском прокате — «Оркестранты отложили свои трубы») в 1998 году получил французскую кинопремию «Сезар» за лучший иностранный фильм. Кто-то может припомнить его фильмы «Во всем виноват посыльный» («Blame It on the Bellboy», 1992) и «Голосок» («Little Voice», 1998). Совместным англо-американским производством «Мальчика в полосатой пижаме» управляет компания «Мирамакс», в европейский прокат фильм вышел в феврале 2008 года.
При этом Бойн остался верен своей особой разновидности историзма. «Мальчик в полосатой пижаме» — повесть-притча о Холокосте. Написана она с точки зрения девятилетнего Бруно, у которого в жизни все хорошо: большой дом в большом городе, любящая мама и строгий авторитет-папа. Плохо одно — его изводит старшая сестра Гретель. Мальчик постигает окружающий мир, и мир этот открывается ему причудливыми гранями. Причудливыми для него, но не для нас: его «детства-чистыми-глазенками» мы прозреваем, что он — немец, живет в Берлине, и папа у него — какой-то большой начальник, на которого возлагает немалые надежды некто по прозвищу «Фурий» (и у нас в головах уже звенят звоночки и раздается знакомый по кинохронике взвинченный голос). И вот — самая большая неприятность: папу переводят из Берлина в какое-то место, которое мальчик упорно и неправильно называет «Out-With». Бруно и его семья поселяются — да, вы угадали, рядом с Аушвицем-Освенцимом, и комендантом лагеря, как легко понять, назначен папа. В окно своей спальни Бруно видит большой проволочный забор, за которым роится масса людей в странных полосатых пижамах. Они живут в больших хижинах большими же, как представляется Бруно, и счастливыми семьями. А ему не с кем играть, друзей на новом месте нет — вот он и пускается вдоль этого забора путешествовать. И по другую сторону находит себе друга — мальчика по имени Шмуэль…
Жуткий угол зрения на самую острую боль ХХ века не должен никого отвратить. Да, книга непривычная. Детский взгляд на чудовищные вещи может дать юному читателю первое представление об этой кошмарной грани человеческой истории. Пафос у Джона Бойна далеко не карамельный: мы, взрослые, вроде бы не испытываем симпатии к Бруно, но, если вдуматься, он — совершенно обычный мальчишка, в меру избалованный, в меру безмозглый. Он просто не представляет, чем занимаются его папа и та страна, где ему выпало родиться. Как, в общем, слабо представляли в таком возрасте и мы. Он впервые знакомится с чудовищной машиной уничтожения людей — и так и не понимает, что это такое, до самого конца. Но вот фокус для нас, воспитанных на «Четвертой высоте» и «Алых погонах»: мальчик-то отнюдь не монстр Гитлерюгенда. Он таскает своему другу еду, условно приглашает его в гости и — самое главное — хочет прийти в гости к нему. Это же так естественно — ходить друг к другу в гости, правда? Бруно помогает Шмуэлю искать пропавшего папу. Честно пытается понять, что значит слово «жид». Как и Лизель из «Книжного вора», живет человеческой жизнью в нечеловеческое время и в нечеловеческом месте. И в гости к Шмуэлю в конце концов попадает. Но когда, переодетый в арестантскую «пижаму», спохватывается, что вроде бы пора возвращаться домой к ужину, партию заключенных гонят куда-то «маршем».
Финал ясен. Благополучная семья не дождалась сына — ни к ужину, никогда. Через некоторое время строгий папа находит кучку детской одежды у забора и лаз под проволокой и с ужасом — вроде бы — сознает, что случилось с сыном. Поэтому, когда за папой приходят «какие-то чужие солдаты» (а действие повести происходит в 1943-1944 годах), ему уже «все равно, что они с ним сделают».
А Бруно? Бруно, в общем-то, был счастлив, хотя по-прежнему не понимал в этом странном мире ничего.
«Он опустил голову и сделал такое, чего, по правде сказать, не делал никогда: взял крохотную ручку Шмуэля в свою и крепко сжал.
— Ты мой лучший друг, Шмуэль, — сказал он. — Мой лучший друг на всю жизнь.
Может, Шмуэль и открыл рот, чтобы ему ответить, но Бруно так ничего и не услышал. Потому что в этот миг все, кто маршировал, громко ахнули, и вздох этот заполнил комнату, а двери вдруг закрылись, и снаружи лязгнул металл… А потом в комнате стало очень темно и, несмотря на суматоху, Бруно понял, что по-прежнему держит Шмуэля за руку и ничто на свете не заставит его эту руку отпустить».
Такая вот «детская литература». «Хорошая ли это мысль — предлагать детям книгу о Холокосте?» — задавался вопросом осторожный литературный критик газеты «Обсервер». Ну а как вы предлагаете об этом с детьми говорить? Не говорить вообще? Кто знает, не будь наши собственные мозги так качественно прополосканы из голубых чашек, не будь души избиты нунчаками и геками — и судьба у барабанщика, глядишь, была бы иной.
Нет, уж лучше так, жестко и непривычно. Честнее. Как поступил, представляя книгу, английский издатель «Мальчика в полосатой пижаме»: «Нам кажется важным, чтобы вы начали читать эту книгу и сами разобрались, о чем она. Вы отправитесь в путешествие с девятилетним мальчиком Бруно (хотя книга эта — вовсе НЕ для девятилетних мальчиков). И рано или поздно вместе с Бруно вы придете к забору. Такие заборы до сих пор понаставлены по всему миру. Мы надеемся, что вам с ними встретиться не придется».
Звуки про буквы
Наш маленький литературный концерт
Нет, радио "Голос Омара" не изменяет своему принципу вещания на буквенной частоте, но мы тут подумали и решили, что жалко будет не отдать должное тем музыкантам, которые умеют читать. Поэтому время от времени мы будем включать звук — и приглашаем вас делать то же самое с вашими радиоприемниками, настроенными на наши эфиры. Итак, песни о чтении, книгах, писателях, литературных героях, песни, вдохновленные прочитанным, и песни, вдохновляющие на чтение. Поехали...
И открывает наш концерт, конечно, гимн настоящего читателя: Джулиан Смит, "Я читаю книжку". Здесь мы предлагаем вам фирменный, "прожорливый" вариант (есть и "непрожорливый", практически задушевный, его можно петь вместе в библиотеках и книжных магазинах, шепотом):
Немного классики. Версии этой навсегда любимой песни существуют в диапазоне от совершенно безумных до безумных несовершенно. Эта — умеренной безумности. Кейт Буш, "Грозовой перевал", по мотивам известно какого романа:
И еще немного классики. The Cure, "Убиваю араба". Нет, это не признание в совершении расового преступления — это иллюстрация к роману Альбера Камю "Посторонний":
На вкус вашего сегодняшнего диск-жокея, одна из лучших песен о любви к чтению сочинена и впервые исполнена владивостокской группой Karamazoff Bike. Вот ее версия по версии "Маркуса и Топонимики" — собственно, ее автора. "Катание на моржах":
Теперь будет уместно немного поговорить об ирландской литературе. Dexy's Midnight Runners, "Dance Stance". Посмотрим, сколько имен великих ирландских писателей вы здесь услышите:
Ну и мимо Томаса Пинчона мы, конечно, тоже не могли пройти. Примерно единственная песня, положенная на многочисленные тексты из его романов — и неохотно одобренная автором. The Insect Trust с "Глазами молодой ньюйоркчанки":
И последний номер нашей программы — бонус. Не столько о литературе, сколько о грамматике, без которой литературе никуда. Неизменно чудесный Эл Янкович со "Словопреступлениями":
На краю времени
"Улисс", Джеймс Джойс
"Он не вполне зеленый — он просто похож на капусту".
Помимо всего, что сказано о романе, при этом прочтении меня торкнуло как-то особо наличие двух разнонаправленных векторов Стивена и Польди, в аккурат, как мы понимаем, на стыке эпох. И что из этого получается.
Блум чуть постарше, но помельче - в частности, из-за расовой своей принадлежности, по мысли автора, который, разумеется, никак не мог обойти отношения к евреям в богоспасаемом отечестве, он не сильно укоренен в цивилизации и культуре, в анамнезе у него плохо усвоенная история избранного народа. И стремится он поэтому назад, к идеалам викторианства, к эдаким превратно понимаемым корням, к "старосветскому помещичеству".
Дедал же помоложе — он сознательно отрывается и от национальных корней, и от социальных (не говоря о религиозных), он уходит вглубь: натужно образует себя, буквально учит себя культуре — и вроде бы из него выйдет этот самый гражданин мира, стать которым он, как мы знаем, стремится, и он якобы больше приспособен к жизни уже наставшего ХХ века каким мы его знаем.
Но мы-то — мы знаем, что идеалам обоих осуществиться не суждено. Больше того — и сам Джойс об этом догадывался наверняка, ибо Великая война уже закончилась, и как бы маргинально Джойс ее ни пережил — не мог не понимать, что ничего хорошего в ХХ веке нас уже не ждет. Таким образом (капитан Очевидность, ну еще б), перед нами прощание и с викторианской эпохой — и с наступившей эрой. Матрица модернизма и пост-модернизма прилагается бесплатно.
Через эту призму после-зрения, заднего ума, читается все еще острее, смею думать, чем современниками, у которых просто не было нашего знания. Видимо, во всем этом должен быть какой-то урок.
Девяностые… Ска-азка…
"Подобно тысяче громов", "Гроб хрустальный: версия 2.0", "Серенький волчок", Сергей Кузнецов

Не то чтобы время появилось читать просто так, для души, но иногда бывает условная пауза, когда в мою сторону приходят книги, которых по каким-то причинам нельзя не прочесть. Так получилось с московской трилогией Сергея Кузнецова. Я преданно дождался первой-последней книги и начал сначала и последовательно. Так лучше всего, по-моему. В прежние версии двух первых заглядывал когда-то, но не вникал. И правильно, потому что сейчас получилась единая цельная книга, и лучше ее таковой и воспринимать.
Потому что трилогия закручивает и сотрясает (мозги). Подспудная ее эпохальность — предмет разбора будущими литературоведами, историками и культурологами, но даже после первого вхождения в книгу на людей в мск.ру смотреть старыми глазами невозможно. Может, оттого, что я по-прежнему new kid in town, может, потому что метро — не лучшее место для такого чтения. И вместе с тем трилогия не только московская — мои 90-е прошли на другом краю континента, где было свое веселье, а под конец я вообще оказался в числе выживших и переживших, но все равно — реалии узнаваемы, от мелкобытовых до глобальнопсихических. Я не могу сказать, что это моя книга, но она, без сомнения, наша.
…Тыкаю в клавиши и ловлю себя на том, что у книги есть опасность быть постоянно сопоставляемой с реальностью, с собственными читательскими ощущениями-воспоминаниями («Я была на той вечеринке у Петлюры», — сказала мне как-то коллега; я восстанавливал в голове расположение квартиры в Калашном, где был один раз примерно в период описываемых событий, а многие наверняка припоминали, что делали в день, когда отключили банкоматы). Это неизбежно, потому что слишком близко, потому что автор пошел по опасной грани «современности» или «близкой истории». Но и проверку временем она пройдет, я в этом уверен. «Московская сага» Аксенова (очевидная параллель) пройдет вряд ли (хотя бы потому, что хуже написана), а вот эта книга выживет. (Про Юзефовича не знаю, надо изучить вопрос.)
Кузнецову удалось, на мой взгляд, то, что хорошо получается у британских писателей: растворение авторского себя в сюжете, в чужих историях. Т.е. он, конечно, морализатор, но такой правильный морализатор, не давит. И в язвах (что, как мы знаем, любимое занятие почти всех уважающих себя русских писателей с 60-х годов прошлого века по сию пору) не ковыряется. Просто рассказывает истории, которые сшиваются в полотно, оно окутывает читателя, прирастает второй кожей, дает второе зрение. Это ведь великое умение — просто рассказывать истории. А узнаваемость — ну вот пока этот крючок работает так, а через 10 лет восприниматься все будет иначе, себя читатель будет ассоциировать с чем-то другим в тексте (если автор его опять не перепишет, мырг-мырг).
В смысле опорных сигналов для любопытствующих скажу только, что мне это больше всего напомнило романы Джонатана Коу (которого автор, похоже, по ходу работы не читал) — «Какое надувательство!» по духу и «Клуб ракалий» по грандиозности замысла. Пока вот так. Но через десять лет я к этой книге еще вернусь.
Очень маленький шаманский танец на необитаемом острове
"Остров накануне", Умберто Эко
Прекрасный палимпсест вышел из-под пера популярного семиолога — швы здесь, в отличие от "Маятника Фуко", не торчат, а попытка проникнуть в донаучный ум достойна восхищения. Автор, конечно, сильно лукавит по ходу, однакож убедительно эмулирует это пограничное состояние между магическим и позитивистским сознанием, из которого произрастает что угодно волшебное и удивительное. Ну и, конечно, ужас и одиночество человека перед постижением мироздания... Если сейчас человечество еще в детстве познания, то Эко пытался зафиксировать что? фазу осмысленного гуления?..
А невинности того опыта нам, конечно, уже не вернуть — хотя кто сказал, что нынешний чем-то лучше или хуже. В постижении мироздания — то же шаманство.
Я предупреждал, что это будет очень маленький танец.
Во что превращается мама?
"Книга о живых и мертвых старушках", Лея Любомирская
Некоторые читают все как научную (околонаучную, псевдонаучную, вовсененаучную) фантастику — это удивительные люди, я таких знаю. У меня, правда, тоже есть своя маленькая аберрация — я все читаю (и смотрю, если уж на то пошло) как сказки. Не то чтобы в детстве мне их не хватало... но, видимо, не хватало. Теперь становится понятно, что с возрастом и читательским опытом приходит та сноровка, которая позволяет наслаждаться даже самыми вроде бы простыми интригами и сюжетами — вычитывать из них тайные смыслы, сканировать аллюзии и отсылки, бродить по всяким расходящимся тропкам. Со сказок все и начинается, они подстрекают к чтению (смотрению, писанию, чему угодно).
«Книга о мертвых старушках» Леи Любомирской не обманывает — это честный сборник сказок, где каждая составила бы честь любой антологии Кейт Бернхаймер. Там сказочно все — от незамысловатых аранжировок на темы Синей Бороды, Дюймовочки или Красной Шапочки, до вполне причудливых фантазий о взаимодействии мира мертвых и мира живых. Причем, действие практически всех историй происходит в некой условной земле с глубокими магическими традициями, в которой можно опознать Европу, а еще конкретнее — Португалию, где автор живет уже много лет. Только вот понять что-то про эту страну с лицевой стороны из этой книжки нельзя (как не стоит здесь искать практических руководств по переходу в Страну Мертвых, о чем, собственно, и предупреждает нас на обложке Макс Фрай). Разве что понятно: у португальцев с миром мертвых какие-то свои отношения, а в мире живых господствует довольно строгая кастовая система приличий почище, чем в так любимой сказочниками Викторианской Англии.
Что, надо сказать, наше читательское счастье, потому что лишь на такой вот неопределимой кромке (хотя, подозреваю я, довольно остро заточенной и временами даже зубастой) «реальной» жизни, в состоянии некоторого душевного томления на самом краю некогда всего известного цивилизованного мира и может разворачиваться очень внутренний талант сказочника. Ну потому что наружу не очень высунешься, а край — вот он, рядом. Ну и разве станешь рассказывать сказки — тем более страшные — себе и своему невидимому другу (сиречь идеальному читателю), если у тебя вокруг все хорошо? Разве станешь выстраивать такие хитровывернутые, поистине эшеровские пространства, где «дым в дом, дом в даму, а дама в маму»? Хотя у Леи в сказке скорее будет происходить обратная трансмутация — это мама может превратиться во что-нибудь пугающее… ну, или не очень, но это просто потому, что мы в таком мире как бы привыкли к непривыкаемому.
В коротких — и очень коротких — историях Леи Любомирской читательская точка сборки смещается постоянно, порой головокружительно. Такое ощущение, что автор над нами посмеивается, подсовывая китайские головоломки и ловушки для пальцев (и лукавый авторский голос здесь — одна из немаленьких причин, по которым сказки Леи стоит читать). Страшно представить, что получится, возьмись она сочинять какую-нибудь «Историю Краеземья».И панда в мозге пожилого павиана
"Сергей Курехин. Безумная механика русского рока", Александр Кушнир
Я не боюсь признаваться в симпатии к книжкам Кушнира о нашем «золотом подполье». Из всех мне не понравилась лишь одна (но там материал был слишком от меня недалек), и я не читал еще одну, потому что в ней мне не нравится Сашин соавтор.
А биография Курехина ожиданий не опровергла. В ней все на месте: искрометная манера изложения и тщательная работа с материалом, а систематизм соседствует с раздолбайством. Работа дизайнера — Александра С. Волкова — тоже хороша настолько, что с книгой приятно встречаться даже мимоходом. Как со старым другом. Настоящая рок-литература, короче, в формате биографии. Поэтому «Волчий билет» от «Степного волка», полученный ею, мне видится очень логичным и вполне заслуженным, при всей спорности премий вообще.
Книга вышла грушевидной настолько, что и сказать о ней как-то нечего — она не нуждается в приращении смыслов. Да и сама фигура Капитана эпохальна и всеобъемлюща, как любой его хэппенинг. Курехина нужно слушать, по возможности — смотреть, а книгу Кушнира — читать. Быть может, мы немного больше поймем о конце Ха-Ха-века вообще.
Вопросы вызывает только мимолетный тезис о строительстве новой русской культуры на руинах советской. То есть, даже в начале нулевых такую постройку еще можно было, мне кажется, худо-бедно проектировать, а сейчас мы наблюдаем даже не фундамент, а полноценное выведение первого этажа, и не могу сказать, что это сооружение меня лично радует. Скажем прямо, оно получается вполне убогим и отвратительным, ибо в процессе участвует власть. В курехинских хэппенингах она бы, конечно, тоже задействовалась, но ей бы скорее отводилась роль, я не знаю, какого-нибудь мистера Креозота.
И не очень понятно, как бы Курехин вписался в новый виток маразма, который сам же и всячески измысливал и предвидел на разных этапах своего творчества. Версий несколько, и почти все они не очень симпатичны. Не хотелось бы верить, что он мог стать православнутым клоуном на стадионной пирамиде с пулеметом для расстрела инакомыслящих — уж больно неприятная это фигура. Ну, потому что такой сценарий мне видится негармоничным — в смысле не ладности нот, а музыки сфер. В эстетическом безумии Курехина все же была довольно стройная система, мне кажется, и полюса условного «западничества» и условной «посконности» находились в нем в состоянии динамического равновесия, хотя амплитуда раскачки от одного к другому и была довольно велика.
Как по-прежнему-соратник «профессора факультета социологии МГУ» он тоже вполне вероятен, хоть про того даже правые консерваторы теперь говорят: «Создается впечатление, что автор скоро призовет русский мир поклоняться навозу как исконному продукту, а также символу солнца, ибо скарабеи, да и вообще в психоанализе кал и золото это одно и то же, а золото это солнце». Будем честны, если смотреть отвлеченно, и то, и другое (хотя это одно и то же, если всмотреться) выглядит логичным продолжением и развитием курехинских телег. Только без их стилистической элегантности.
Вполне возможно, что и оккупация субтропических курортных зон как сценарий зародилась в бешеном мозгу Капитана Белый Снег. Ну, то есть, это может быть достоверно, ибо абсурдно. Если бы от всего этого нынче так не несло этим самым навозом и кровью… Вот в чем заноза-то. Ломать не строить. Но вообще, конечно, весело думать, что мы продолжаем жить в мозге Сергея Курехина. Не поймите меня неверно — весело в том смысле, в котором веселой была наука Ницше.
А может, остался бы Капитан прежним анфан-терриблем, играл бы на рояле, носил на голове какую-нибудь наволочку и сочинял пронзительную музыку к скверным кинофильмам. Посмертная провокация его вполне удалась — мы по-прежнему не можем быть ни в чем уверены, и никакой Кушнир ответа нам не даст. Интрига, мне кажется, только в этом, но сослагательного наклонения история не придерживается. Возможно, сейчас никакого Курехина и случиться бы не могло. А может, его и не было никогда.
Я же говорил, что Александру Исааковичу верить не обязательно.
Идеальная рецензия
Уважаемые пассажиры, москвичи и гости столицы, доброго вам дня, хорошего самочувствия и приятной поездки. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию продукцию группы товаропроизводителей "Анафема", которая приветствует вас и желает доброго дня, хорошего самочувствия и приятной поездки. Я принес вам вещь, которая необходима каждой хозяйке — ничем другим не сможете вы так качественно выполнить свою работу по дому, и ничто другое не даст вам возможность так приятно провести свободное время.
Прошу обратить внимание, что этот предмет состоит главным образом из бумаги, краски, картона и клея. Все материалы — прошу это учесть особо — только от российского производителя, изготовлены из отечественного сырья и намного превышают по качеству зарубежные аналоги. Предмет создан на основе лучших мировых разработок в области открытой архитектуры и обеспечивает совместимость с любыми пользователями и их интерфейсами.
Позвольте напомнить вам о некоторых характерных особенностях этой вещи — например, ею можно пользоваться, а также использовать ее для украшения жилища и других подсобных работ. Предмет по желанию может дополняться любым количеством сходных с ним предметов, использование которых варьирует в зависимости от условий окружающей вас среды. Не пачкает одежду — при правильном применении его содержимое остается у вас в голове, а не на руках. Статический размер шрифта гибко приспосабливается к оптимальным условиям просмотра при изменении расстояния от оптического прибора. На упаковке присутствуют фиксированные элементы графического оформления в правом переднем углу, указывающие на наличие фиксированных элементов графического оформления в правом переднем углу.
В предмет вложена пользовательская инструкция, написанная на русском языке, — в отличие от зарубежных аналогов, написанных на непонятных отечественному потребителю иностранных языках. Нужно отметить, что инструкция, собственно, и составляет суть и предназначение этой вещи и обеспечивает легкое и приятное чувство понимания. Габариты предмета наилучшим образом соответствуют правилам переноски его в сумке и предназначены для переноски предмета, например, в сумке. Следует учесть, что элегантный дизайн вещи гарантирует ее пассивную безопасность. Что самое главное — при обращении с предметом совершенно не требуются резиновые перчатки стоимостью 2 рубля 50 копеек, средства личной гигиены и самообороны. Предмет легко подвергается воздействию сухих чистящих средств, но влажная обработка его 320 поверхностей не рекомендуется. Следует отметить также, что при закрытии предмета его функциональность значительным образом утрачивается.
Желающие купить могут обращаться. Товар сертифицирован. Что немаловажно - имеется баркод. Стоимость — 2 рубля 50 копеек. Обратите внимание, граждане пассажиры: на 10 рублей вы можете купить целых три пары, и таким образом сэкономить и приобрести у меня набор из шести красочных воздушных шаров испанского производства, которые никогда не лопнут в руках вашего ребенка, потому что их невозможно надуть.
Впервые было опубликовано Гранями.РуХроники человеческого
"Марсианские хроники", Рей Брэдбери
Сказочный волшебный калейдоскоп, плавно перетекший из канона "взрослой" жанровой литературы в канон "детской" (ну, или наоборот, смотря откуда смотреть). Изначально-то "Марсианские хроники" зародились в тот блаженный период НФ, когда даже не "каналы на Марсе" воспринимались как обычное допущение, а и само сознание персонажей (и, соответственно, их авторов) было поистине планетарно: и чужие планеты, и своя были для них такими местами, которые можно обойти пешком, освоить за неделю. Понятно, т.е., что фантастика это - не больше чем фантастика "Маленького принца": это именно литературная сказка, притча, ну а то, что автор выбирает такую фактуру, - он в своем праве. Из-под фактуры этой все равно виден традиционный гуманист, лирик и романтик.
Сейчас, конечно, НФ-составляющая выглядит устарело (не то, что в детстве), но проблема тут только в том, что а) большая степень условности, пожалуй, и не нужна, б) задача представить (и описать) не только невиданное и неслыханное, но и в принципе непредставимое решалась многими и не решена до сих пор. "Тут будут драконы", по принципу похожести на бабочек, а там - герои из всего пантеона мировой приключенческой литературы: обыватели и старатели, мальчишки и капитаны, негодяи и ученые романтики, суровые одиночки и неудовлетворенные, но тонко чувствующие домохозяйки. Годы межпланетных перелетов не изменили их, освоение Марса не оставило на них отпечатка - они на страницы "Хроники" вышли из литературы XIX века. Некоторые при этом оказались марсианами, но это случайноcть.
Уроки этого текста сейчас воспринимаются странно: ну, допустим, мы уже знаем, что человек по сути своей дрянь и человечество гадит везде, до куда дотянется. Не портят только одиночки, которые уважают чужую культуру и готовы засадить планету цветами, чтобы, в первую очередь, им самим было удобно. Надежды, как бы говорит нам автор, в обозримом будущем нет, а до необозримого мы умом дотянуться не можем. Сочувствия тут тоже мало кто вызывает. Что же еще? Нет мне ответа.
И все равно в этом калейдоскопе даже по прошествии лет каждый может себе отыскать самое красивое стеклышко (для меня в этот раз им стал "Эшер II" - изумительная литературоцентрическая фантазия о возмездии всем уродам, которых мы имеем сейчас в этой стране в виде "членов думы" или какой другой сволочи - и жестокая ирония в том, что действие "Марсианских хроник" происходит, ну, примерно, сейчас: т.е. мы в состоянии тотальной войны уже 9 лет как).
Из собственно нарратива же неясным осталось только одно - за каким рожном в 2005 году вся марсианская колония снялась и полетела на Землю воевать? Они же как раз от этого с планеты и свинтили все. Решительно необъяснимо.
Маленький Николя и большое кино
"Каникулы малыша Николя", Рене Госинни
Мальчишки и девчонки, а также их родители…
Нет, не бойтесь, это пока не «Ералаш». Просто я так хотел поделиться с вами новостью, что не придумал начала получше.
А ералаш начнется потом. Короче.
Вы не знаете, что пропустили. Или не пропустили, но могли бы. Но я же вам рассказал, и теперь-то уж вы точно не пропустите. Особенно если живёте во Франции или ещё где-нибудь в Европе. Там несколько лет назад вышло кино про Маленького Николя.
Маленький Николя – это такой мальчик. Лет ему примерно столько же, сколько и вам, и он учится в обычной школе. У Николя есть мама и папа, учителя и друзья. Разные, но верные:
– Клотэр сидит на самой задней парте и спит на уроках (потому что мечтает стать велосипедистом, всё время тренируется и очень устает);
– Альсест всё время ест;
– Эд, лучший друг Николя, – очень сильный и любит драться;
– у Жоффруа очень богатый папа (но Жоффруа не зазнаётся)…
Есть у Николя и – ну не враги, а, скажем, не приятели: отличник и подхалим Аньян – его очень любят учителя, а прочим даже стукнуть его толком не удаётся, потому что он носит очки.
Есть и самая большая любовь всей его жизни – Мари-Эдвиж, девочка очень красивая и гордая.
Есть и самый большой ужас его жизни – школьный воспитатель по кличке Бульон. И много других людей, конечно, тоже есть.
И вот у друга Николя Жоашена дома случается… что-то. Мальчик приходит в школу и уныло рассказывает друзьям: родители наверняка скоро увезут его в лес и там бросят. Ну, или ещё каким-нибудь образом выгонят из дома. Потому что… вы угадали. Потому что скоро у него будет маленький братик. Жоашену все посочувствовали и забыли об этой истории. Но не таков Николя. Он начинает шпионить за своими родителями – и понимает: его ждет судьба Жоашена. Родители вдруг стали друг с другом подозрительно нежны, а папа даже однажды вынес мусор. И Николя решает действовать…
Дальше я вам рассказывать не буду – да и не смогу, потому что приключений в этом фильме навалом, и все они – очень смешные. Ещё вы узнаете много полезного, например:
– как всё-таки поехать в лес, но сделать так, чтобы тебя в нём не оставили (впрочем, толкать машину до города придется папе);
– как доказать маме свою нужность в хозяйстве, хорошенько убрав всю квартиру (включая стирку кота);
– как нанять настоящего гангстера, чтобы организовать на родителей настоящее покушение;
– как угнать папину машину, чтобы нанять настоящего гангстера, чтобы…
Впрочем, это уже крайнее средство. Вам оно всё равно не пригодится.
Маленького Николя в конце 1950-х годов придумал французский художник и писатель Рене Госинни. Он уже умер, но до этого жил долго и увлекательно.
Начать с того, что Госинни не француз, а польский еврей, и по-польски фамилия у него очень красивая: "госцинны», то есть «радушный». В детстве он побывал в Аргентине и Америке, потом служил во французской армии… Ну а потом стал художником и придумал… та-дамм! Этих персонажей вы точно хорошо знаете – Астерикса и Обеликса!
И вместе со своими друзьями Морисом де Бевером, Альбером Удерзо и другими сочинил и нарисовал много других комиксов: про ковбоя Счастливчика Люка, злобного визиря Изноугуда, синьора Спагетти.
Маленького Николя в книжках, которые появились задолго до кино, нарисовал Жан-Жак Сампе – ещё один хороший и очень забавный французский художник.
И вот вышел фильм (хоть это уже и не новость - новость будет дальше). Режиссер Лоран Тирар и его коллеги долго искали мальчишек и девчонок, чтобы они походили на настоящих друзей Маленького Николя из книжек.
Фильм получился настолько классный и смешной, что смело берите в кино родителей – они тоже будут хохотать. Как я. Меня в кино повела дочь Соня – ей тогда было 12 лет, она живёт во Франции, и у них в классе на осенних каникулах фильм посмотрели все – и по нескольку раз.
Больше того: мальчик, которого взяли на роль одного друга Николя, учился в соседней школе в Булони, поэтому девчонки о нём везде шушукались, и он стал знаменитостью.
Дочь моя – человек серьёзный, шушукаться ей не пристало, как она считает. Зато она тогда решила перевести на русский язык все книжки про Маленького Николя. Говорит, похоже на «Денискины рассказы», а их Соня очень любит. Пока что перевела полторы книжки, но ей некогда, она учится.
Хотя этого героя знают во всём мире, в России рассказы про Николя почему-то очень долго не переиздавали. Сейчас начали, поэтому можно почитать любую, хотя я рекомендую вот эту. И знаете, почему? Потому что – внимание! – через месяц, в июле в Европе выходит на экраны вторая серия! Которая так и будет называться – "Каникулы маленького Николя". Вот, теперь я вам точно все новости рассказал.
Впервые в несколько ином виде опубликовано на Букнике.Маленькая большая литература
"Это называется так", Линор Горалик
При, нет, не чтении — медленном и постепенном соприкосновении с этими ограненными текстами в голову лезут сравнения с Бротиганом и Карвером. С Бротиганом — из-за вот этого, как легко догадаться, очень короткого рассказа, слушайте:
— Очень трудно жить в Сан-Хосе, в ателье с мужчиной, который учится играть на скрипке. — Вот все, что сообщила она полиции, отдавая им револьвер с пустым барабаном.
Называется он «Дуэль Скарлатти», и в моей практике это был единственный рассказ, сноска к которому были длиннее самого текста. Но сноски к текстам Линор будут потом писать другие.
А с Карвером — из-за мощного подводного течения, которое затягивает в каждый текст. Хотя бы даже такой:
— …один раз зашел в эту, «Копеечку». Нет, «Пятерочку», «Пятерочку». Вообще пиздец, вообще ни одного знакомого логотипа.
И выплываешь потом дня два.
Протирая глаза, потому что оптический эффект текстов Линор удивителен: я часто ловил себя на том, что вглядываюсь в слова, пытаясь разобрать, что́ за буквами. Иногда удавалось. Мало кто так умеет, хочу я вам сказать, — делать чтение подлинным приключением.
Тургенев в голову, при этом, почему-то не лез, хотя, если вдуматься, все тексты, наконец-то вошедшие в одну книжку, — стихотворения в прозе. Поди знай. Но камертон не ноет — он звучит, а голос Линор — камертон нашей с вами нынешней жизни. Неча на него пенять. Он отзывается на толчки извне.
Потому что: Как страшно жить на свете! Вы звери, господа! — может воскликнуть какая-нибудь тонкая ранимая натура. Да нет, не страшно — обычно жить, как бы привыкли уже. Поэтому Линор тщательно протоколирует поведение ложноножек и сгустков эктоплазмы, извергаемых нашим с вами сознанием, препарирует наши глисты и болячки и помещает их в лакированную рамку, как те препараты на обложке. Это чтобы окончательно оторвать от привычного контекста — тогда они, став (художественными) объектами, может быть, прекратят нас так тревожить. Или нет. Но, совершенно точно, все попытки ее персонажей хоть как-то отстраниться от ужаса повседневной жизни (или нашей «непредсказуемой истории», как в «военной повести») — они для того, чтобы сохранить в себе человеческое. Попробовать жить — ну, как-то бережнее, что ли.
Попробуйте и вы. У вас наверняка получится.Пара десятков поводов пикетировать местные издательства
Другие книжные новости
Сегодня «Омар» решил кинуть взгляд окрест и увидеть что-нибудь интересное. Ему это удалось, результатом чего служит этот тематический выпуск новостей — только увлекательные книжки, вышедшие, выходящие или ожидаемые к выходу в широком мире, за пределами этих территорий. Вот вам несколько веских поводов, по которым можно пикетировать российские издательства и требовать эту литературу на русском языке.
Начнем с культовых среди нас книжек — и о книжках, и о тех,
кто их делает. Или продает. Например, Габриэлль Зевин выпустила роман «Обысторенная жизнь Э. Дж. Фикри» — о книготорговце на ма-аленьком острове у берегов Новой
Англии и его непростой личной и внутренней жизни. Роман вполне душевный и
романтический, мимо такой книги не пройдет ни один читатель-книготорговец.
Реплика в сторону: романов мы трогать в этом обзоре не
будем, иначе это затянется не на одну неделю, но вот об этом примечательном
произведении не упомянуть нельзя. Николь Моунз, «Ночь в Шанхае» — история
черного джазового пианиста, который влюбляется в китайскую переводчицу, а она
работает на компартию... Действие разворачивается в том же городе и в тот же
период, где и когда Владимиров постепенно превращался в Штирлица.
В мае вышла уже «Вторая книга книготорговцев» Шилы Маркэм
(первая была 10 лет назад) — сборник
интервью с антикварными книготорговцами. Эти разговоры стали прямо-таки легендарными
образцами того, как нужно разговаривать с людьми этой непростой и скрытной профессии.
Иными словами, прочтя и первую, и вторую, вы будете знать, как лучше всего
торговать антикварными книгами. В Англии.
Но главная новость
сегодняшних дней, конечно, в том, что Джен Кэмбл, автор вышедших у нас «Диковинных диалогов в книжных магазинах», закончила свою следующую книжку. Она будет называться «Книжка о книжных» — обзор 295 маленьких и очень независимых (от крупных
книжных супермаркетов и торговых сетей) книжных магазинов на 6 континентах. ТА-ДАММ
— «Додо» в этой энциклопедии тоже присутствует. Ждем в октябре.
Хотите о чем-нибудь поприятнее? Это можно. «Мы можем поговорить о чем-нибудь поприятнее?» — мемуары
выдающегося художника-карикатуриста журнала «Нью-Йоркер» Роз Част. Графические,
само собой. Часто ли вам доводилось напарываться на воспоминания о детстве в
виде комиксов, карикатур, диаграмм и графиков?
А вот еще один чудесный мемуар: «Последний пират. Отец, его сын и золотой век марихуаны» — воспоминания Тони Докоупила, чей папа (антигерой
этой книжки) в 70-х и 80-х был одной из ключевых личностей в контрабанде наркотиков
в США. Говорится здесь не только о непростых отношениях сына с отцом, но и о
непростых отношениях Америки с наркотиками.
Теперь о наркотиках. «Песнь о себе» классика американской
литературы Уолта Уитмена наверняка все читали, но с такими картинками — вряд ли.
Можно попросить художника Аллена Крофорда нарисовать то же самое с русским
переводом. Только, наверное, новым — так лучше будет.
Кстати, о музыке. Была такая панк-группа в Англии в середине
70-х, называлась «Щёлки» (не те, в которых живут волки, а те, которые в
анатомии), и на гитаре в ней играла Вив Олбертин. Потом она еще много чем
занималась, а тут взяла и выпустила мемуары, где рассказывается и о «Секс
Пистолз», и о «Клэш», и о Вивьен Вествуд, и многом другом и не менее (а то и
более) увлекательном. Называется книжка три раза, чтоб до читателя дошло
наверняка: «Тряпки, тряпки, тряпки, музыка, музыка, музыка, мальчики, мальчики, мальчики».
А вот еще один документ примерно той же эпохи: «Безумный мир. Устная история артистов новой волны и песен, определивших собой 80-е». Со
всеми этими колоритными безумцами разговаривал целый коллектив авторов, и
книга, как говорится, обильно иллюстрирована. По ссылке вы отыщете «Оркестровые
маневры в темноте», а на обложке — «Дюран Дюран».
Еще одно необходимое дополнение вашей музыкальной библиотеки
— исследование одного занимательного околомузыкального явления, а именно «диланологии».
Книга Дэйвида Кинни так и называется «Диланологи. Приключения в стране Боба». Из
этих беззаветно любящих Дилана людей, которые попортили ему немало крови в свое
время (вплоть до раскопок в его мусорных ящиках), самый известный — пресловутый
Веберман, но он был далеко не один. Читайте — и откроется вам истина о том, как
нехорошо поступать с любимыми артистами.
Не забываем и о новых биографиях Леонарда Коэна. О книге Сильви Симмонз «Я — твой. Жизнь Леонарда Коэна» вы могли слыхать: ее довольно-таки сильно критикуют за биографические неточности, продиктованные большой любовью, — а вот про другую — может и нет. Она вышла в апреле и называется «Коэн о Коэне: интервью и встречи». Хочу сказать, что такой вот сборник текстов вызывает у меня гораздо больше доверия, чем какие бы то ни было биографии. Потому что мы знаем, что в интервью Коэна всегда можно найти массу полезного, острого и интересного. Потому что это говорит он сам.
А еще одна полезная и ценная книга вышла в Техасе. Написал
ее Дэйвид Кэнтуэлл, и называется она незатейливо: «Мёрл Хэггерд. Из тех, кто бежит»,
— но это не биография, да и главный герой ее вполне жив и выступает до сих пор.
Автор скорее исследует миф и легенду кантри-музыки. Да, если вы слушаете кантри
всех разновидностей и знаете Джонни Кэша, но не знаете Мёрла Хэггерда, в вашем
музыкальном образовании серьезная дыра.
Раз уж речь зашла о «серьезном». Для понимания окружающего
нам совершенно необходима «Естественная история человеческого мышления» Майкла Томаселло. У этого вполне академического трактата, кстати, вполне неплохие шансы
оказаться выпущенным на русском.
Если говорить о трактатах, вот еще один полезный: «Филология: забытые корни современных гуманитарных наук». Это неблагодарное исследование истории
филологии предпринял Джеймз Тёрнер, а неблагодарное оно потому, что у нас же
все вокруг специалисты в филологии. Найдут к чему придраться. Но книга, судя по
всему, замечательно развивает мозги.
Да, про мозги чуть не забыл. Сэм Кин, «Сказка о нейрохирургах на дуэли: история человеческого мозга в подлинных случаях травмы, безумия и выздоровления». Название, вроде бы, исчерпывающее, но загляните в кусок,
публикуемый «Салоном» и обалдеете: этот фрагмент называется «Как мозг создает
видения бога».
Вот еще хорошая про мозги: «Теперь вы не такой тупой: Как побороть ментальность толпы, как купить себе счастья и прочие методы перехитрить самого себя» Дэйвида Макрэйни. Одного названия довольно, чтобы понять, насколько это
полезная книжка.
Ну и в коллекцию любителя поржать — еще две книжки: «Юмор. Очень короткое введение» Ноэла Кэрролла и «Ха! Наука о том, когда мы смеемся и почему» Скотта Уимза. Нет, вы не поняли — это не юмористические произведения, хотя
кое-кто может над ними и посмеяться. Это научно-популярные книжки. Как
известно, юмор, как порнографию, определить чрезвычайно трудно, но «британские
ученые» стараются, как видите.
А вот совершенно не смешной экспонат в нашей коллекции: НАСА
выпустили (бесплатно и электронно) сборник статей на очень животрепещущую тему.
Называется эта книжка «Археология, антропология и межзвездная коммуникация».
Да, там говорится, по сути, о том, как расшифровывать сигналы из космоса.
И это уже, как мы понимаем, произведение на грани искусства.
Да, об искусстве — красочнейшее и почти исчерпывающее издание по истории особого
сорта деятельности: современная антология пишмашинного искусства, с 1893 года
до наших дней. Особенно рекомендуется таким фетишистам пишущих машинок, как мы.
А вот еще книжка с картинками — вернее, из одних картинок. Называется
«Это Дали» и продолжает серию отрисованных биографий/критических очерков о
творчестве некоторых выдающихся художников ХХ века (ей предшествуют «Это Уорхол»
и «Это Поллок»). Иллюстраторы биографий художников везде разные, а придумала их
так рисовать Кэтрин Ингрэм.
И вот очень актуальная и своевременная книжка с картинками. В
Японии выпустили мангу об очистных работах после аварии на ядерной станции Фукусима, и книжка моментально стала бестселлером. Придумал и нарисовал ее Кадзуто
Тацута, который сам там работал. Непонятно, правда, как сейчас быть японцам и
всем нам, раз они воды из отстойников станции сливают в Тихий океан, но это,
видимо, в книжку все-таки не вошло.
Вернемся к истории. Вот несколько очень полезных книг о разных аспектах нашего с вами исторического бытия. Картина мира от одного их перечисления становится гораздо разнообразнее:
— книга о том, почему именно Гаврило Принцип запустил в действие те механизмы истории, которые привели к Первой мировой войне (ей сто
лет скоро, не забыли? как будете праздновать?);
— книга о том, почему испанские писатели почти ничего не пишут о своей Гражданской войне (а занимаются этим почти исключительно англичане и
американцы);
— книга о том, как доблестные джеймсы бонды не дали Ленину захватить весь мир (я не шучу);
— книга о том, как, наоборот, одна маленькая красная книжечка завоевала большой белый свет (понятно, о чем я? нет, не «Манифест
коммунистической партии»).
Внутренние часы
"Совсем другое время", Евгений Водолазкин
В перспективе "Соловьев и Ларионов", из которого практически нацело и состоит эта книга, выглядит как лучший роман Водолазкина - он богаче, многослойнее и попросту интереснее "Лавра", в котором автор, как мы помним, тоже разбирается с историей и временем. Тут интерес, на мой взгляд, представлет уже то, что он это делает языком соцреализма, но время/история представлены совсем немарксистские какие-то. Здесь сливаются "общественное" и "частное" (что, как мы понимаем, лишь жупелы из учебников, но поди убеди в этом ширнармассы), значимое и глубоко личное. Мы-то с вами понимаем, что лишь такое понимание времени способно нас нынешних чему-то научить, но в контексте общественно-литературном (включая и премиальные) это будет диверсия помощнее "Лавра".
Ведь время мы не ощущаем эмпирически, как бы ни тужились. Воспринимается оно конкретными нами только персонально, лирически даже, я бы сказал. Но кто нам запретит так его воспринимать? Кто вообще сказал, что это нелегитимно? Кто давал лицензию на восприятие времени только историкам или физикам? Почему сила воображения писателя не приравнивается к научному методу? Кто - сказал - что - так - нельзя?
По этому тексту видно, как у автора постепенно развивается поистине "пинчоновское", "метаисторическое" зрение, включая и внимание к деталям, и панорамный охват. Нам представляется картина высокой четкости (не мутное от типизации толстовское стекло), сродни галлюцинации - которой история и является, по сути. Мне кажется, будет крайне интересно смотреть, куда вывезет автора эта кривая, эта тангенциальная парабола.
Заметки на полях имени розы (эфир целлофанирован)
"Телеги & гномы", Игорь Юганов
В одной книжной соцсети кто-то умный некогда перевел название этой записной книжки сверхкраткой прозы на английский: "Carts & Elves".
Парение в варении. Я не большой любитель конденсированной мудрости, оттого и. Иными словами, цитируя: "Пролетарии всех стран, не выебывайтесь!"
Но удивительный он все же говоритель слов. Наряду с прямо-таки гениальными в своей четкости формулировками: "Будущее наступает, когда о том, что будет, узнают даже те, кто не хочет этого знать", — и просто красивыми поэтическими образами: "На флаге запечатлевается то, что и так реет в воздухе", — у него проскакивает банальщина на грани с пошлостью мышления: "Чтобы стать святее паровоза, достаточно пробежаться впереди Папы Римского".
Он очень неровный. Оттого и диалог с ним бывает нервен и полон раздражения.
Параллельно чтению снилось какое-то количество юганоидных афоризмов: "Грибные споры не обязательно приводят к плодам мудрости".
Обнаружил кусок, который неплохо описывает роман Томаса Рагглза Пинчона "Against the Day": "Обитатели миража не склонны верить в подлинность окружающей пустыни. И только верблюды, появляющиеся у границ мира раз в тысячу лет, питают нашу тоску, потому что, хотя сами они сомнительны, тайные пути караванов неизменны". Казалось, можно было и не читать дальше, однако я отчего-то предпочел все эти 1085 страниц.
А вот, казалось бы, непереводимое: "Не мир[аж] я вам принес, но меч[ту]". Если учитывать первоисточник и с применением не сложения, но вычитания, выходит довольно циничный глум — на первый взгляд: "I came not to send p[e]ace but a [s]word". Иными словами: "Не подгонять я вас пришел, чуваки, а так, попиздеть". Если вдуматься, по смыслу вроде все верно.
"В сущности, вся русская литература является на разные лады повторяемым криком "больно!" Автор, а вслед за ним и читатель сопереживает кому угодно, лишь бы отвлечься от собственной боли". Хотя в силу выбранного автором жанра безответственного вброса ("...Прозаиком не быть гораздо интересней".) мы не можем быть уверены в четкости его позиции (плюсик там у него или минус), а у самого Юганова уже не спросишь, мне почему-то кажется, что на современный язык это переводится фразой: "Как же они заебали своим нытьем".
Про "дым отечества" всем уже все давно понятно — при возвращении на родину ноздри практически немедленно забиваются всяким говном, а носовые платки чернеют. Но есть еще и "ветер отечества" — откуда бы ты ни летел на родину, всегда летишь дольше, чем с нее. Хоть на чуть-чуть, но дольше. Это потому, объясняют стюардии, что против ветра. Наверняка есть некое геофизическое объяснение, но мне кажется, причина в том, что даже ветру обломно оставаться над территорией нашей необъятной. Даже воздушные массы стремятся поскорее покинуть Росcию.
У Юганова по этому поводу отлито в мраморе (тм): "Кто к нам с мечом придет, того мы мордой да и в говно, на котором стояла, стоит и стоять будет земля русская".
Актуально как никогда.
То, что остается с нами
"Из вихря и луны", Вечеслав Казакевич
Того, что творилось под носом,
презрительно не замечал,
с потухшею папиросой
о будущем только мечтал.
Там девушки ждали с букетами,
стихи налетали, как шквал,
и Пушкин с друзьями-поэтами
со звезд благосклонно кивал.
Пусть жизнь, будто дерево, треснула,
о будущем стану мечтать!
Ведь сколько еще интересного:
спиваться, стареть, умирать.
Может показаться странным, но книжки читать даже в последнее время удается. И так вышло, что если проза читается как-то наобум по буеракам, то с поэзией выходит более разборчиво. В чем, надо сказать, мое великое читательское счастье, ибо поэтические книги сами собой выстраиваются неким значимым пунктиром, который поддерживает во мне, видимо, какой-то, извините за банальность, огонек, не дающий сказать миру «fuck it all». Попробую вкратце поделиться радостью.
Когда в очередной раз обретаешь под ногами почву — это всегда как-то правильно и странно, вплоть до головокружения. С каждой книжкой Вечеслава Казакевича, все как-то встает на свои места. Потому что Казакевич — это правильно, как мало что сейчас есть. От него сразу и плакать, и смеяться хочется. Это красиво. Это правда. Редко такое бывает. Всякий раз.
Голос его негромок и полон отзвуков, он лукав и горек, но прежде всего он — добр. И очень естественен — как дыхание. Это потому, что Вечеслав Казакевич не «пишет», не «сочиняет», не принимает позы и не демонстрирует технику, приемы или что еще там свойственно «поетам». Он так дышит.
Стихи Казакевича всегда было хорошо читать, когда в окружающей наружности все скверно и гадко, как уже бывало не раз за последний десяток лет. Но даже безотносительно к окружающей нас реальности тексты его еще и политичны. Такой редкий поэтический голос был у Ивана Елагина, а ведь он тоже не речевки для баррикад сочинял. Политика — она не в телевизоре, не в ленте новостей и даже не на улицах далеких городов. Она у каждого мыслящего человека внутри, она складывается из душевных, иногда потаенных, иногда даже неосознанных микроскопических решений и ответов на простые вопросы: кто я, что я, где и с кем. Каков я был и каков я стал? Как быть? Что я могу сделать?
Каждый сборник его — цельное лирическое высказывание, элегическое и безжалостно-честное к себе и окружающему. Стихи Казакевича — как хайку, только ближе. Они даруют силу и внутреннее дзэнское спокойствие. Такое вот утешение поэзией, хотя Казакевич отнюдь не артист разговорного жанра, не наставник, не гуру: не брал он на себя таких обязательств, и ожидать от него конденсированной мудрости было бы, как минимум, наивно. Это не его работа — он стихи пишет. А чему они нас учат, зависит только от нас.
Ведь говорила же нам когда-то Фрэнни, да? «Если ты поэт, ты делаешь что-то красивое. То есть, должен, наверное, оставить что-то красивое, когда сойдешь со страницы и все такое. А те, о ком ты говоришь, не оставляют ничего, ничегошеньки красивого. Те, кто чуточку получше, может, и забираются как-то тебе в голову и там что-то оставляют, — но лишь потому, что они так делают, лишь потому, что они умеют оставлять что-то, это ж не обязательно стихи, господи боже. Это может быть просто какой-нибудь увлекательный синтаксический помет…»
Так вот, это про Казакевича. То что остается с нами, когда он сходит со страницы, — стихи. Например, вот эти.Немножко другие новости
Наш способ приближения к реальности
Сегодня Омар поговорит с вами о тех новостях, на которые никто не обращает внимания. Что неудивительно — реальность вокруг сгущается так, что начинаешь себя ощущать в романе Томаса Пинчона, и «Голос Омара» в ней звучит освежающе — не в этом ли его фундаментальная экологическая ценность? А то, что он сообщает, вы вряд ли узнаете откуда-то еще, потому что новости эти, похоже, интересуют только нас с вами. Заплывы в супе насущном обязывают к особым фигурам.
Дэнни Стронг, больше известный как суперзвезда и архинегодяй Джонатан Левинсон в «Баффи», собирается снимать биографический фильм «Война Сэлинджера». Из всех книг о культовом авторе он выбрал самую неудачную и неавторитетную — фанфик Кеннета Славенски. Похоже, тотальный заговор лузеров против корнишского затворника не рассосался и после его смерти.Но есть и хорошие новости. «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд больше не числится среди самых популярных у американцев книжек.
Стивена Фрая попросили стать президентом «Хей-Фестиваля» — лучшего литературного праздника в Великобритании — на 27-м году его, фестиваля, существования. Фрай поначалу решил, что директор мероприятия объелся психотропных препаратов. Фестиваль пройдет в этом году с 22 мая по 1 июня. Будете в деревне Хей — не пропустите.
Пусть течет кровь из носу в мире шоубизнесу. Независимое левоватое издательство «Лоренс и Уишарт» попросило «Марксистский интернет-архив» убрать из открытого доступа тексты классиков марксизма-ленинизма под предлогом нарушения их, классиков, авторского права. Издательство зарезервировало за собой права на 50 томов Маркса и Энгельса на английском. Как-то не по-товарищески, товарищи.
Айзек Азимов был непрост. Он писал очень неприличные лимерики, хотя сейчас все предпочитают это забыть.
Еще о литературе, неудобной для русских издателей. «Неохотная грешница», «Грех на колесах», «Те, кто вожделеет» — как вы думаете, что это? Правильно, это книжки, написанные только для взрослых в конце 50-х — начале 60-х годов знаменитыми писателями Доном Эллиоттом и Лорен Бошам. Которые впоследствии стали известны всем читателям научной фантастики под именем Роберта Силверберга. Стоит ли говорить, что полное собрание сочинений его на русском языке еще долго будет неполным?
Еще новости из мира трэша и угара. Издательство «Арлекин» куплено концерном Руперта Мёрдока. Страшно представить, что нас ждет на пажитях очень жанровой литературы антигравитационной легкости.
Пророческий текст Александра Сергеевича Пушкина наконец сбылся, и рыбак поймал настоящую золотую рыбку. Правда, в Ирландии. Да и Барри Шэннону всего 32 года, и про старуху его ничего не сообщается. Как и про оборудование его кухни.
Культовое американское издательство «Архив Долки» наконец открыло интернет-магазин. Правда, найти его — по-прежнему задачка для очень настойчивых.
Автор популярных романов Уилл Селф оплакал смерть романа (на сей раз всерьез). Он не жил на наших с вами наличных территориях и, видимо, не в курсе, что для литературы вообще никогда не бывает хороших времен.
Через месяц исполняется столетия со дня публикации «Дублинцев» Джеймса Джойса, поэтому если будете в Дублине и встретите Джона Бойна, переодетого Джойсом, не пугайтесь. Нас ждет литературная экстраваганца «Дублинцы 100»: 15 ирландских писателей перезапускают этот проект.
Ну и, по традиции, немного музыки: еще один день рождения в эти дни — у детской симфонии Сергея Прокофьева «Петя и волк», произведения крайне литературного, поэтому сказку на ночь нам рассказывает Дэйвид Боуи.
Если вам понравились наши новости, пишите нам прямо в эфир (rabbithole@dodo-space.ru). Продолжим. «Голос Омара»: наш способ приближения к реальности.
Путеводитель по этике Джойса
"Поэтики Джойса", Умберто Эко
Вполне годные маргиналии к эстетике Джойса. Глупо смотрится только заявление издателя о "максимально полном раскрытии универсума Джойса", поскольку эта довольно небольшая популярная лекция касается всего одной-двух граней этого самого "универсума" - тех, что относятся к средневековым корням.
Первая глава, описывающая эстетику преимущественно Стивена Дедала, вновь переносит читателя примерно на первый курс филфака, однако это имеет смысл потерпеть, ибо без основ - осмысления эстетико-философских воззрений персонажа - будет не очень понятно, как и, главное, почему, Джойс пришел через Улисса к Финнеганам. Так что читать стоит внимательно - Эко в этом смысле можно доверять, он обстоятельный.
Вторая глава - об Улиссе, и в ней, в общем, не содержится ничего нового, чего вдумчивый читатель сам бы не увидел в тексте, но есть крайнее важное наблюдение о мире Джойса, которое выводит нас напрямую к миру Пинчона, и вот за него дважды краснознаменному барону Умберто от нас большое спасибо. А самое приятное - он не дает нам никаких рецептов и/или инструментов чтения Джойса, тем самым собственным авторитетом никак не сужая фильеру. В лучшем случае он может вполне околично описать лишь подходы к снаряду. но читать Джойса "по Эко" будет, пожалуй, невозможно - в немалой степени от того, что он лишь систематизатор, а не интерпретатор. Хотя систематизирует все, что касается наложения Джойсом "порядков" на мироздание, очень хорошо.
К третьей главе - о Финнеганах - вопросов больше (и к автору, и к переводчику, который иначе совершенно великолепен, но вот тут появляются какие-то мелкие глупости). Хотя в целом читательское зрение его нас не связывает (но, в данном случае, и не помогает, что, видимо, по-любому было бы невозможно). В общем, рекомендуется истинным фанатам (Джойса, не Эко).
Тайная жизнь переводчиков
"Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920-60-е годы", Андрей Азов
Безусловно благородная попытка восстановить историческую справедливость и хотя бы посмертно отстоять оболганных и ошельмованных Ланна и Шенгели — но бог мой, какая же это была отвратительная помойка, эта советская литературная жизнь. Я буквально болел несколько вечеров, читая книжку Азова (каково ему было, пока он ее составлял и делал, не знаю; видимо, я слишком впечатлительный). Вообще, читая что-либо касаемо «переводоведения» (и не выговоришь это чудесное слово), хочется либо бросить читать и все же вернуться к работе — либо навсегда бросить переводить, потому что ни по одной из «теорий» делать это невозможно.
Но миг малодушия все же проходит, и понимаешь, что все эти теории пустобрехов (особенно советских, с их бессмысленной марксистско-ленинской фразеологией; но других у нас, похоже, нет до сих пор) не стоят выеденного яйца, к ним невозможно относиться всерьез: все просто-напросто поверяется практикой, слухом, зрением, а также включением головного мозга. Читайте переводы Кашкина, смотрите, что он и его ученицы сделали с Хемингуэем. Читайте Чуковского — поймете, что Уолта Уитмена он-таки изуродовал (из лучших, видимо, побуждений). Читайте Ланна (я вот, наверное, возьмусь и перечту — в юности его Дикенз не произвел особого впечатления, было как-то не очень смешно, но то было в юности), читайте Шенгели, если получится (он же до сих пор не переиздан?).
Хотя об изуродованных судьбах говорится мимоходом, выбросить из головы их уже не получится. Но в общем, при всей ценности книжки Азова, об этом сюжете хочется поскорее забыть. Рекомендуется всем как прививка от рудиментов совиотского сознания.
Вико и Джойс в Древней Руси
"Лавр", Евгений Водолазкин
Методологический метаисторизм автора вполне пинчоновский (и хватит уже сравнивать с "Цветочным крестом" Колядиной, это пошло и поверхностно, а связи между ними никакой — та книжка тоже была хороша и тоже про условное русское средневековье, но написана совсем из другого и иначе), лукавство его тоже подкупает, как и викониански-джойсианские игры со временем. Однакож, пинчоновского гуманизма у Водолазкина не наблюдается, и сострадания к людям и персонажам у него я не очень заметил (говоря примитивно, мне было жаль только одного персонажа). Написано все бойко и складно, с ехидным прищуром, что очень развлекает (правда тем необъяснимее изредка сквозящие в тексте выпады в канцелярит "нормативной русской речи": то ли автор задремал, то ли временно оглох — непонятно, но что при этом делал "литературный редактор"?) Видимо, такой текст в нынешней российской словесности — действительно редкость, и означенную словесность стоит из этих соображений, конечно же, пожалеть.
Моя читательская проблема, конечно, в том (и это отнюдь не упрек автору, боже упаси), что автор не дает читателю никакой надежды (в отличие от того же Пинчона). Автор, создавая этот текст в конкретный нынешний период, безусловно внутренне честен, ибо ничего хорошего теперь никому ждать уже не приходится, а любые попытки утверждать обратное будут восприняты как циничная пропаганда. Весь вектор его взгляда, верного избранной методике и стилистике, обращен в прошлое: он как бы говорит нам: чуваки, все хорошее уже случилось, дальше все будет только хуже или так же (ибо да — истории не существует, и дополнительное доказательство этому, своеобразный ключ к тексту — цепочка вставных новелл с видениями и пророчествами). Все герои и святые уже были, превзойти их невозможно, а нас ждет уныние бессмысленных и кровавых буден, хаос, тупость и жестокость. Все это, мы, конечно же, и понять не способны. И где тут надежда, я вас спрашиваю?Ну и еще одно: понятно, что в нынешней обстановке оголтелого отката к средневековью, такая обаятельная мифологизация магического сознания и утопия единства с (православным) богом будет ясно как читаться, и вот это уже совсем не весело. Ширнармассы воспримут не игры с метаисторизмом, а религиозно-духовно-нормативную в ее православном изводе (ну или чисто лирическую) составляющую как основу характера главного героя. Верующие по должности уже оценили, судя по рассказам автора, и подняли на хоругвь. В этом я вижу довольно прискорбную опасность, уж лучше б запрещали и жгли, честное слово. Но мы не можем ожидать, конечно, от попов читательской тонкости — они будут выискивать не мелкий драгоценный бисер, а комья нужной им идеологии и рекомендовать пастве, а паства разбираться тоже ведь не станет... ну в общем. С другой стороны, дополнительная читательская работа по трактованию прочитанного может проделываться и в других пластах. Наше счастье в том, что текст это позволяет.