Голос Омара
...чтобы умерший не мог вредить живым
Вацлав Серошевский, «Предел скорби»

Очень обидно, что, когда вышел «Кочегар», оказавшийся предпоследним фильмом Алексея Балабанова, мы все не читал прозу якутскую Вацлава Серошевского. Помню, как я не принял этот фильм, активно не принял, до злости – потому что очень сложно, когда любимый режиссер снимает что-то, что ты не принимаешь, что кажется тебе нарочитым, грубым, плохо собранным, плохо сыгранным. Сейчас, прочитав за два дня недавно вышедшую поразительную книгу Серошевского «Предел скорби», понимаешь – чтение рассказа «Хайлак», который по памяти перепечатывает главный герой «Кочегара», в буквальном смысле необходимо для понимания этого фильма, который на самом деле глубже, тоньше и умнее, чем кажется. И дело не только в сюжете рассказа, важном для понимания фильма, – часть этого текста в упрощенном виде все же звучит в фильме. Дело в языке Серошевского, в том, как он складывает слова в предложения, как строит эти предложения, как выстраивает повествование – сухо, грубо, нарочито просто, «коряво» (книга напечатана с издания 1910 года, для которого Серошевский сам перевел свои тексты на русский с польского). Эти описания мрачной, однообразной, серой природы, эта музыка ветра, этот снег, эта бесконечная осень («Осень» – так, к слову, называется первый рассказ книги). Балабанов, не предупреждая, не подготовив зрителя, даже не намекнув ему, делает удивительную стилизацию – убирая якутскую фактуру, меняя время и место действия, до неузнаваемости переиначивая сюжет, он рассказывает свою немудреную историю языком Вацлава Серошевского – польского этнографа, в начале ХХ века оказавшегося в ссылке в Якутии и поневоле ставшего бытописателем жизни якутов. И, конечно, балабановский «Кочегар» – не дань памяти незаконченному великому фильму «Река», поставленному по завораживающей повести того же Серошевского «Предел скорби», как могло бы показаться. «Кочегар» – самостоятельное, предельно жесткое и прямое высказывание режиссера, который понимает, что жить ему осталось не долго.
На самом деле, пишу все это для того, чтобы обратить ваше внимание на книгу Вацлава Серошевского «Предел скорби», которая вышла в удивительном издательстве CommonPlace и на которую традиционно мало кто обращает внимание – ну, потому что почти нет рекламы, и автор неизвестный, и якуты еще эти, кому они нужны. Книга между тем потрясающая – я не настоящий критик, так что могу себе позволить такие слова. Мне нравится, что это – не записки этнографа, который упивается экзотикой и восторженно описывает быт «дикарей». Серошевский прожил среди якутов много лет, и его тексты почти лишены эмоций, почти лишены авторского взгляда – он именно что описывает происходящее, совершенно не замирая от восторга при соприкосновении с чем-то неизвестным: «Не увидел я и “шайтана” – высохшего трупа тунгуса. Когда-то их часто здесь находили, и от них лес получил свое название. Сидели они обыкновенно где-нибудь под деревом или под обрывом, высохшие, мелкие, уродливые, глядя на восток орбитами выклеванных птицами глаз. На коленях они держали деревянный лук или винтовку, у ног их лежал топор со сломанным топорищем, а у пояса, отделанного серебром и бусами, висел в ножнах тоже изломанный нож. Оружие ломалось с той целью, чтобы умерший не мог вредить живым…» Просто обыденная жизнь, в которой языческие верования легко сочетаются с привнесенным совсем недавно православием, прокаженные живут в глухой тайге, медведь – «князь леса» – мстителен и умеет читать мысли, а люди, живущие – или, вернее, выживающие – в самой середине этой удивительной природы, любят и умирают, радуются, грустят и верят в то, что – так тому и быть.
Завораживающая, неожиданная, неуместная – причем, как мне кажется, неуместная не только сейчас, но и тогда – великолепная проза.
...я повторяю имя
Всеволод Петров, «Из литературного наследия»

Известный советский искусствовед, автор популярных среди поклонников академического искусства книг и публикаций о художниках (Васнецов, Брюллов, Перов), внук инженера-генерала, члена Государственного Совета Николая Петрова (на масштабном полотне Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 11901 года» есть, в частности, и он), Всеволод Петров вел двойную жизнь – во всяком случае, именно так можно сказать, читая недавно опубликованные его дневниковые записи, короткие «Философские рассказы» и единственную повесть – гениальную «Турдейскую Манон Леско».
Собственно, с повести все и началось – опубликованная сначала в журнале, а потом, несколько лет назад, в небольшом сборнике, она в буквальном смысле перевернула само понимание того, как можно было писать о войне на войне. Написанный в 1943 году небольшой текст о короткой, но эмоциональной любви офицера и санитарки – действие повести происходит в в стенах густонаселенного санитарного вагона – это изысканная, немного старомодная проза, наполненная натуралистическими подробностями военного времени. Текст этот, оставаясь историей любви, непостижимым образом поднимался сам над собой, оказываясь потрясающе точным высказыванием о человеке, находящемся в окружении чужих – идеологически, социально, интеллектуально, о способе существования в этом окружении, о выборе модели выживания. Ничего такого до этой повести читать не приходилось.
Опубликованные в том издании воспоминания Петрова о его друзьях и наставниках – Хармсе, Михаиле Кузмине, Тырсе, Пунине – и редкие (и сложно добываемые) публикации его абсурдистской прозы в журналах словно бы намекали: в советской (по годам жизни) литературе на наших глазах возникает фигура, масштаб и мощь которой еще предстоит оценить. Увесистый том «Из литературного наследия» корректирует эти предположения: Петров оказывается не тем, кем едва начал казаться.
Едва открыв книгу, я был уверен, что передо мной – неизвестный последователь обэриутов, младший ученик Хармса, который после смерти учителя смог сохранить его язык, его манеру, его образ мыслей. Но, по прочтении «Философских рассказов» Петрова приходишь к выводу, что он, сохраняя все формальные признаки обэриутского письма, так ни разу (ну, почти ни разу) не смог достичь высот своих старших товарищей – рассказам Петрова не хватает легкости, искрометности, совершенно естественной изобретательности, которой сияют тексты Хармса. Однако не воспринять этот язык, не попытаться перестроить собственную манеру письма Петров не мог – он много общался с Хармсом в последние годы его жизни, дружил с Алисой Порет и Татьяной Глебовой, в конце концов, был одноклассником Павла Зальцмана и соавтором Геннадия Гора – а это все же люди, входившие в определенный круг или хотя бы коснувшиеся его.
Так что главным текстом, опубликованном в книге «Из литературного наследия», оказывается дневник, который Петров начал вести в блокадном Ленинграде в 1942 году и продолжал, с перерывами (или, возможно, тетради просто оказались утраченными), несколько лет после войны. И это – поразительный текст. Кажется, Петров не осознавал себя человеком своего времени, проживая в предложенных обстоятельствах жизнь себя, но себя из прошлого или даже позапрошлого века. Он жил в искусстве – и его дневники военного времени наполнены рассуждениями об искусстве, о литературе, в них почти совсем нет быта, войны, чудовищной блокады. Только искусство – и любовь: импозантный Петров словно коллекционирует собственные романы, как случившиеся, так и оставшиеся на уровне разговоров, легкого флирта… до момента знакомства с девушкой Верой Мушниковой. Именно об этой любви он написал «Турдейскую Манон Леско», в которой едва ли не дословно цитировал собственные дневниковые записи. Именно к этой любви он возвращался на протяжении всего дневника – и, возможно, всей жизни.
Наверное, пережив (вернее, переживая вновь и вновь) эту историю, внешне Петров остался таким, каким и был. Наверное, мало кто из его окружения заметил надлом, который Петров – во всяком случае, так кажется после прочтения дневниковых записей, – прятал очень глубоко. И нигде (кроме тех же дневников) не обнаружить той боли, которую заставила его почувствовать эта короткая история, начавшаяся и закончившаяся в вагоне санитарного поезда. Ах, да, еще в потрясающей «Турдейской Манон Леско» – великой повести о любви, написанной в середине ХХ века человеком, который жил в то страшное время и одновременно во времена, которые уже никогда не вернутся.
Под дых
Наталия Мещанинова, «Рассказы»

Какая же страшная, буквально бьющая под дых проза Наталии Мещаниновой (которая – режиссер «Комбината “Надежда”» и сценарист «Аритмии»). Предельная откровенность (при том, что все в этой книге, насколько можно понять, автобиографическая правда), предельная честность, никакого кокетства. Но не «чернуха» (чудовищное слово), просто очень крутая и дико страшная проза.
И виртуозно выстроенная драматургия, при том, что – сборник рассказов: от любви до ненависти. И рассказчик взрослеет вместе с текстами – от первого рассказа, в каждой строчке которого прорывается колючая детскость, до последнего, пропитанного взрослой скорбью по утерянному навсегда детству, которого и не было вовсе.
Если можно употреблять это словосочетания – «женская проза» – то вот она, настоящая женская проза – в том смысле, что ни один мужчина так написать никогда не сможет.
Еще интересно – так, навскидку, почти и не вспомнить прозу, которая разбирается со взаимоотношениями матери и дочери. А тут сразу – вот так. Эти рассказы в буквальном смысле бьют под дых – при том, что никакой лажи, никакой манипуляции тут нет, все по-честному. И – да, опять же, никакой ожидаемой провинциальной хтони. Только правда и ничего кроме. Почитайте, книжка совсем недавно вышла, без названия, просто рассказы.
Жить нужно в «Кайф»!
30 лет «Кайфу» Владимира Рекшана

В 1969 году
выпускник исторического факультета Ленинградского государственного
университета, мастер спорта по легкой атлетике Владимир Рекшан создал
«Санкт-Петербург» - одну из первых в СССР рок-групп, запевших по-русски. А в
марте 1988 года в журнале «Нева» вышла документальная повесть «Кайф» -
возможно, первая книга о советском роке. По случаю тридцатилетия первой
публикации повести Владимир Рекшан в двух словах рассказал мне о том, как ему
удалось обмануть цензоров, и о том, что происходит в созданном им Музее «Реалии
русского рока».
Откуда вообще взялась идея написать историю группы «Санкт-Петербург»?
С наступлением перестройки вдруг стали повсеместно рассуждать о рок-музыке, начиная приблизительно с «Аквариума». Мне стало обидно за целое поколение (то, которое начало играть музыку с середины шестидесятых), о которым не вспоминал никто. Отсюда и родилась идея книги.
Это кто стал повсеместно рассуждать? А вам не все равно было, что говорят вокруг?
Рассуждать стали по телевизору, в газетах, короче говоря - в СМИ. Мне было не все равно, потому что внезапная активность СМИ не соответствовала исторической правде.
А вы прямо ощущали и ощущаете себя отцом-основателем? Вы к этому серьезно относитесь?
Я к этому не относился и не отношусь особо серьезно, это всего лишь пение, какое-то физиологически почти неприличное занятие. Скорее, я себя оцениваю дистанционно – как исторический персонаж.
Сколько времени вы писали эту книгу? Я имею в виду первый ее вариант.
Я начал писать текст осенью 1986 года, а закончил весной 1987-го.Про публикацию я во время работы не думал.
Как получилось, что первая публикация случилась именно в «Неве»?
Написав «Кайф», я стал думать, что с ним делать. В Ленинграде особо выбирать было не из чего, возможностей не сказать, что много. В журнале «Нева» редактором работал мой приятель и собутыльник Валерий Суров, так что ему я книгу и отдал. Он быстро прочитал и передал главному редактору Борису Никольскому. Я его как отставника побаивался, но Никольский повесть одобрил, причем одобрил активно и после считал публикацию своим большим достижением. Все-таки перестройка уже цвела бурно.
Были ли какие-то просьбы издателей что-то исправить, изменить, убрать?
Время цензуры уже уходило. Но был забавный сюжет с цензурой…С самими цензорами я не встречался – они делали пометки в тексте, которые следовало учесть. Так вот, они предложили снять слово «бля». Но я просто стер карандашную пометку на корректуре, и«бля» осталось. Первое «бля» в советской литературе!Кстати, спустя какое-то время я с цензором познакомился – он тогда переквалифицировался в переводчика с сербохорватского.
К началу девяностых группа «Санкт-Петербург» отошла в тень, освободим место для более молодых и более наглых. Вы своей книгой хотели привлечь внимание к группе и собственной музыке?
Цели самопрославления я не ставил. А вот про историческую справедливость думал. Все-таки я – выпускник истфака ЛГУ.
Каким было отношение к этой книге в тусовке? Как ее восприняли? Кто-то обиделся? Кто-то взревновал? Что вообще говорили?
В целом текст приняли отлично. Некоторых, правда, покоробило, что история-то, оказывается, началась не с них, что кто-то был раньше.
Почему вы за эти тридцать лет несколько раз дописывали эту историю? Разве она не закончилась?
Мне казалось, что история закончилась, но она продолжается. На моих глазах много чего случилось после окончания первой книги. Да и я сам продолжаю выходить на сцену. Думаю, мои свидетельства важны.
Музей «Реалии русского рока» - это тоже попытка восстановить историческую справедливость? Или это просто работа архивариуса, потому что иначе все пропадет, потому что «что имеем – не храним»?
Музей и все, что я делаю – это своеобразная логика моей жизни. И первая группа, поющая на рок на русском. И первую рок-книга. Теперь вот создаю первый национальный музей рок-музыки. Точнее, уже создал.
Кстати, что сейчас происходит с вашим музеем? Есть ли хоть какой-то шанс получить под него помещение?
Всякое явление живет только в том случае, если оно развивается. Музей проводил временные выставки. Два года назад появилось небольшое, но постоянное помещение. Я ремонтировал и думал – когда можно будет открыться. В результате теперь сижу в Музее и по выходным. Кстати, с марта Музей будет работать пять дней в неделю… Смотрите, у Музея есть философия – он народный. Министр культуры или губернатор не станут этим заниматься, и не надо. Надо, чтобы народ приносил исторические предметы. И народ, к слову, постепенно несет. Так что, если народ захочет, и помещение появится. В Кливленде, штат Огайо, есть Музей славы рок-н-ролла – шестиэтажное здание, куда каждый год по полтора миллиона посетителей приходят. Чем мы хуже?
А вы думали по поводу увековечения памятных мест – скажем, мемориальной доски на здании, где когда-то был Рок-клуб, или еще о чем-то таком?
Мемориальные доски нужны. И пусть энтузиасты ими займутся. А то все памятник Цою ждут… Работать надо!
Как вы сейчас, спустя тридцать лет, смотрите на «Кайф»? Какой он – полный, вечный, какой-то еще?
Кайф – это жизнь. Когда твой возраст приближается к семидесяти, понимаешь все это более остро.
Денёк, который перевернул мирок
Наум Ним, «Юби»

Безуспешно пытаясь несколько лет назад написать про предыдущий роман Наума Нима «Господи, сделай так…», я уже наталкивался на непреодолимое препятствие. Потому что, если начать про него писать то, что действительно думаешь, получается какая-то пошлость: ну, да, это светлый, пронизанный солнцем роман о белорусском детстве шестидесятых годов прошлого века, о четырех друзьях и об их взрослении, когда деревья были большими, а весь мир, казалось, лежит у ног, и удачу можно схватить за хвост, стоит только захотеть, и никаких при этом соплей. Еще пошлее было написать, что в судьбах этих четверых мальчишек, как в зеркале, отражается история страны. Все это было именно так – и оттого не легче. Сейчас, едва закончив читать «Юби», новую книгу Нима, у меня те же проблемы. Но я все же попробую.
Итак, 28 мая 1987 года, в День пограничных войск СССР, на Васильевском спуске, в Москве, приземлился 18-летний немецкий пилот Матиас Руст, который пролетел более тысячи километров и, нарушив государственную границу дышащего на ладан Советского Союза, достиг в буквальном смысле сердца страны на легком самолете. А за год до того (и через месяц после катастрофы на Чернобыльской АЭС) в интернате для детей с легочными заболеваниями, расположенном где-то в лесу под белорусским Богушевском (где, к слову, родился автор романа), случается день, который навсегда меняет судьбы обитателей этого закрытого (и забытого) мирка. Именно этот день, увиденный глазами четырех главных героев повествования, и есть роман «Юби» (с ударением на второй слог).
И вот теперь начинаются проблемы. Потому что по сути «Юби» – это книга о московском диссиденте Льве Ильиче, который, спасаясь от неминуемого ареста, бежит в Белоруссию, но и здесь его достает всевидящее око КГБ. Но проблема в том, что «Юби» – это совсем не про «диссиду», и уж тем более не про КГБ. Со свойственным ему юмором, Наум Ним остроумно и тонко описывает жизнь интерната (похожего на детский дом) и его обитателей, их повседневные разговоры, заботы, сомнения и рассуждения о судьбах катящейся в тартарары родины. То есть, они еще не знают, что их родина катится в тартарары – о перестройке едва заговорили в далекой Москве, до Богушевска плохим радиосигналом через сломанный приемник только докатываются какие-то непонятные новости. Так что люди здесь продолжают жить слухами, сплетнями и собственными заботами – как выпить, не сходя с рабочего места; как не разозлить засланного чекиста, так неумело шифрующегося под учителя физкультуры; как найти припрятанные у приехавшего из самой Москвы еврея-интеллигента сокровища, скопленные после продажи кусочка родины; как скопить денег на пластическую операцию после тяжелейшего ранения в Афганистане; как, наконец, остаться человеком… Перечитываю сейчас написанное самим собой и задаюсь вопросом – стал бы я читать книгу после такого описания? Не знаю. Любые мои попытки рассказать об этой книге наталкиваются на неумение сказать о ней так, чтобы не произнести никаких пошлостей. Потому что – чего-чего, а пошлости у Нима нет ни грамма. Увлекательный сюжет, блестящая игра с языком (с языками), тончайшие наблюдения и замечания, взгляд документалиста, который с нескрываемой любовью наблюдает за копошащейся вокруг действительностью, тщательно выписанные яркие характеры, – всего этого у Нима столько, что хватило бы на дюжину современных писателей, а вот пошлости – ни на грамм.
Вообще, если задуматься, ранние восьмидесятые были уже временем победившего абсурда – сначала один похожий на пародию на самого себя вождь завершил свой земной путь, затем два других с телеграфной скоростью отправились следом, а потом следующий стал вдруг проговаривать важные, казалось бы, вещи, но – полушепотом, непонятно, неуверенно, потому что – страна-то большая, и что с ней делать – совершенно непонятно. Народ к этому времени потерял всяческое доверие к расшатавшейся власти, смертно пил и во весь голос рассказывал анекдоты, за которые полвека назад ставили к стенке. Вроде, смех, да и только – и все это на фоне Чернобыля, Афганистана и продолжающихся репрессий инакомыслящих – время, конечно, было вегетарианским, не сравнить с недавним прошлым, но сажать не переставали – вон, и автор «Юби» Наум Ним был арестован как раз в начале 1985-го и был осужден на два с половиной года колонии общего режима за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Морок только кажется карикатурным. И остроумный, даже иногда веселый и уж точно легкий (во всяком случае, так кажется) роман «Юби» заканчивается невыдуманным, неожиданным (но все же ожидаемым) кошмаром.
Судьбы героев книги меняются до неузнаваемости – а мир, катящийся в тартарары, остается на своем месте. Он ведь так и не изменился с тех пор, этот мир. И именно об этом мире – вернее, об одном мгновении его существования, – и написал свою книгу большой писатель, наш современник Наум Ним.
Одна из лучших написанных на русском языке книг, что мне доводилось читать за последнее время, если коротко.
Дом стоит, свет горит
Олег Коврига, «Что я видел»

Те, кто бывает на московских рок-концертах, знают Олега Ковригу – добродушного бородатого дядьку, который перед концертами продает диски с записями самых любимых российских (и, естественно, советских – в смысле времени записи) рокеров. Он возглавляет «Отделение ВЫХОД», реставрирует и выпускает много хорошей музыки, и вообще сложно без него представить историю того, что получило условное обозначение «русский рок» - скажем, годы назад он организовывал квартирники, в том числе и (ныне) более чем известные. Так что, когда появилась информация о том, что к выходу готовится книга его воспоминаний, все уважающие себя любители этого самого «русского рока», уверен, замерли в ожидании. Книга вышла, и она оказалась даже лучше, чем стоило ожидать.
В том, что Коврига умеет писать, новости нет – предыдущая, написанная им (в соавторстве) книга «Про шабашку», изданная крошечным тиражом десять лет назад, подтверждала, что Коврига очень хорошо умеет складывать слова в предложения. Новость в другом: новая книга Ковриги – это не книга про рок-н-ролл.
Нет, конечно, она под завязку наполнена всевозможными байками о времени, которое ушло безвозвратно. Скажем, такими:
«На второй день, когда Шура Несмелов открывал Майку и Цою
дверь, Витя ему говорит:
- Здорово, химия! Как дела?
- Да все нормльно. Дом стоит, свет горит.
- О! Это прямо как слова из песни.
И через какое-то время появилась песня “Печаль”…»
Просто так получается, что они – не главное. Книга Ковриги – это, в буквальном смысле, записки на манжетах, заметки на полях рок-н-ролльной жизни. У большинства этих историй нет не то что морали – в них даже сюжет едва проглядывает. Как будто сидишь с автором, выпиваешь – и он рассказывает о том, что было – вчера, год назад, в середине восьмидесятых, не важно. Ковриге в собственной книге (которую он писал – вернее, составлял и дописывал, – кажется, пару десятков лет) удалось сохранить собственную же живую речь. И в результате получилась не книга о рок-н-ролле, а книга о жизни – о жизни, в которой были и рок, и алкоголь, и предательства, и обиды, и дружбы, и глупые истории, и много интереснейших встреч (Башлачев, Свин, Силя, БГ, Умка – можно продолжать до бесконечности), которыми автор и не думает понтиться – наоборот, Коврига как будто до сих пор удивляется: ничего себе, куда меня судьба занесла. И пишет слово «Автор» с большой буквы.
Дом стоит, свет горит, короче. Хорошая книга, не пропустите – тираж, как всегда, маленький.
Некое целое…
«Переписка. Василий Кандинский – Арнольд Шенберг»

«Глубокоуважаемый господин профессор! – написал 18 января 1911 года Василий Кандинский, один из величайших художников ХХ века, Арнольду Шенбергу, одному из величайших композиторов того же исторического периода. – Я прошу прощения, что, не имея удовольствия знать Вас лично, обращаюсь к вам напрямую. Недавно я услышал ваш концерт и испытал подлинное наслаждение. Разумеется, вы не знаете меня, точнее, моих работ, поскольку я вообще редко выставляюсь, в Вене же выставлялся лишь один раз, и то ненадолго, примерно год назад (в рамках Сецессиона). Но наши устремления, равно как и весь образ мыслей и чувств, имеют так много общего, что я считаю себя абсолютно вправе выразить Вам мою симпатию». И дальше: «В своих произведениях Вы осуществили то, чего я, пусть и в неясной форме, так нетерпеливо ожидал от музыки. Независимое следование собственным судьбам и самостоятельная жизнь отдельных голосов в Ваших композициях – именно этого я пытаюсь достичь в живописной форме…» С этого началась переписка двух гениев, изменивших само представление об искусстве, - переписка, которая продлилась четверть века и с помощью которой можно изучать не только развитие авангардной мысли первой трети ХХ века, но и историю взаимоотношений интеллигенции в эпоху, которая началась с веры в светлое будущее и закончилась кровью, которую до сих пор сложно осознать.
Слово «переписка» (особенно, если иметь в виду, что эти двое обменивались письмами 25 лет) может испугать – сразу представляешь себе массивные тома в однотипных обложках, наполненные скучными перечислениями бытовых подробностей, болезней и дней рождения дальних родственников. Но переписка Кандинского и Шенберга – это шестьдесят семь не длинных писем (порой – вообще записок), в которых, безусловно, есть и болезни, но разговоров об искусстве все-таки больше. «В Ваших картинах (только вчера доставленных курьером, мы ведь снова в Мюнхене только два дня) я разглядел очень много. И два корня: 1) «чистый» реализм, т.е. вещи, каковы они суть, и при этом каково их внутреннее звучание. Это то, о чем я напророчествовал в своей книге: «фантастика простейшей материи». Моему искусству это прямо противоположно и… внутренне произрастает из того же корня: живет ли стул или живет линия – в конечном счете, в самой основе, это одно и то же. <…> 2) Второй корень – дематериализация, романтически-мистическое звучание (т.е. то, что делаю и я) – именно при таком применении принципа это я уже люблю меньше. Но… все же и эти вещи хороши и очень меня интересуют…» - писал Кандинский Шенбергу. «Внутреннее усмотрение – это некое целое, которое пусть даже имеет составные части, но эти части связаны между собой и уже упорядочены. А сконструированное – это отдельные части, стремящиеся имитировать целое. Но тут нет уверенности, что не упущены самые главные части и что связующей материей этих частей не является душа…» – писал Шенберг Кандинскому. Хотя, конечно, и бытовым мелочам место тоже нашлось.
Все сломалось в 1923 году. «…то, чему мне пришлось научиться в последние годы, я наконец хорошо усвоил и уже никогда не забуду. Именно то, что я не немец, не европеец, а возможно и не вполне человек (европейцы, во всяком случае, предпочитаю мне наихудших представителе своей расы), а еврей, – написал Шенберг Кандинскому 19 апреля 1923-го. – А я тому и рад! Теперь я больше не хочу для себя никаких исключений и не имею ничего против, если меня валят в одну кучу с другими <…> Мы люди разных видов. И это окончательно!»
Апрель 1923-го – с того момента, как Адольф Гитлер организовал в пивной «Хофбройхаус» первое публичное мероприятие молодой, но борзой нацистской партии, и огласил «Двадцать пять пунктов» партийной программы, прошло чуть больше трех лет. До «Пивного путча» оставалось чуть более полугода. И еврей Шенберг уже все прекрасно понимал. Кандинский, который к тому времени уже два года жил в Берлине, а с лета 1922-го преподавал в недавно созданной школе «Баухауз», ответил, что письмо друга его «до крайности его потрясло и обидело»: «Я люблю вас как художника и человека, лучше, наверное, сказать – как человека и художника…» После чего Шенберг ответил своему, теперь уже бывшему, другу огромным и важным посланием, в котором подробно объяснил свою позицию по вопросу национальностей, человеческих взаимоотношений, роли современного искусства в обществе и вообще по поводу того, как он собирается жить дальше – хотя в те годы было сложно строить хоть какие-то планы. Выдающееся письмо человека, который всеми силами старается остаться человеком в условиях, когда оставаться человеком все сложнее.
Арнольд Шенберг покинул Германию в 1933-м – он уехал в США, где и жил до смерти в 1951-м. Василий Кандинский принял немецкое гражданство в 1928 году; в 1933-м, после прихода к власти нацистов, эмигрировал во Францию, где и умер в 1944-м. Переписка Кандинского и Шенберга, судя по сохранившимся письмам, возобновилась в 1928 году и продолжалась до 1936-го. А искусство и окружающий мир уже никогда не стали прежними.
Факультет ненужных вещей
Сергей Калмыков, «Необычайные абзацы»

Не будучи искусствоведом очень сложно понять, что имеют в виду те, кто называют некий художественный стиль «фантастическим экспрессионизмом». Если попытаться разобраться, то надо понять, что экспрессионизм — это когда художник (а мы в данном случае говорим именно о художнике) выражает в своем произведении не столько окружающую действительность, сколько собственное эмоциональное состояние. Экспрессионистом, вроде были Мунк, Кандинский, Шиле и Сутин — художники не просто не близкие, но, порой, диаметрально противоположные. Если же к существительному «экспрессионизм» прибавить прилагательное «фантастический», то получится вообще неизвестно что — но именно так определяли стиль, в котором работал Сергей Калмыков.
С ним вообще много сложного. Он родился в Самарканде в 1891-м, с 1910-го учился в Санкт-Петербурге у Кузьмы Петрова-Водкина и Мстислава Добужинского (в 1911 году он нарисовал картину с конями на водопое, и, судя по всему, именно в этой его работе почерпнул вдохновение его учитель Петров-Водкин, когда изображал знаменитое «Купание красного коня» — Калмыков позже даже утверждал, что Петров-Водкин нарисовал на коне именно его, своего ученика: «К сведению будущих составителей моей монографии. На красном коне наш милейший Кузьма Сергеевич изобразил меня. Да! В образе томного юноши на этом знамени изображен я собственной персоной. Только ноги коротки от бедра. У меня в жизни длиннее»), в 1926 году оказался в Оренбурге и проходит все те стадии, которые проходили его соратники по русском авангарду в столицах. А в середине тридцатых переехал в Алма-Ату, где и дожил в безвестности до середины шестидесятых. Возможно, от лагерей и тюрьмы его спасло то, что о нем попросту забыли, а возможно, с ним решили не связываться — за Калмыковым прочно закрепился образ городского сумасшедшего, в экстравагантной одежде и с порой неадекватным поведением. В любом случае, как я уже написал, он дожил до середины шестидесятых никому ненужным и всеми забытым полубезумным художником и умер в нищете (и, по некоторым версиям, в психиатрической лечебнице), его могила неизвестна. Зато спустя годы специалисты обратили внимание на сотни его чудом сохранившихся работ, и оказалось, что одного из важнейших художников русского авангарда попросту пропустили, не заметили, забыли и едва не списали в утиль. К счастью, не списали.
Сейчас о Калмыкове написано немало — не так много, как о других художниках того времени, но все же. Про него в «Факультете ненужных вещей» писал Юрий Домбровский: «Когда Калмыков появлялся на улице, вокруг него происходило легкое замешательство. Движение затормаживалось. Люди останавливались и смотрели. Мимо них проплывало что-то совершенно необычайное: что-то красное, желтое, зеленое, синее — все в лампасах, махрах и лентах. Калмыков сам конструировал свои одеяния и следил, чтобы они были совершенно ни на что не похожи…» Целый детективный роман о нем написал Давид Маркиш – ну, хорошо, не совсем о нем. Наконец, о его творчестве написаны статьи, более или менее научные.
Но, видимо, чтобы понять этого удивительного и неожиданного художника и человека, нужно читать его самого. «Необычайные абзацы» — это несколько тетрадей, которые, собственно, и составляют литературное наследие Калмыкова. Здесь есть обязательные для русского (и любого другого) авангарда манифесты, есть дневниковые записи, в том числе лирические, попытки воспоминаний, философствования, порой становящиеся едва ли не потоком сознания, но неизменно предлагающие тонкие, точные и крайне интересные наблюдения.
«Совет начинающим художникам. Для того чтобы стать хорошим художником, надо как можно больше и по возможности медленнее ходить…» («Солнечные символы», 1924)
«И Шершеневич, и
Лапин, и Мэри Пикфорд, и Лилиан Гиш, и Эренбург, и я – все мы родились в 1891
году. В этот год умер Артюр Рембо!
Врубель умер в один год со Львом Толстым. Весною. Я был тогда в Москве. Он был
модернист.
Толстой помер осенью в 1910 году. Не был модернистом. Я был уже в Петербурге.
Импрессионист Дега умер в 1917 году, во время революции в России. Я был в
отпуску с солдатской службы…» («Относительные абзацы», 1927)
«Не хочу, возмущался я, умирать за женщин, хочу умереть за живопись, это гораздо оригинальнее, за живопись теперь никто не воюет, из-за женщин воюют все!...» («Солдатская служба» 1927)
«Необычайные абзацы» Сергея Калмыкова — не диковинная зверюшка, вдруг выплывшая на волне всеобщего интереса к раннему советскому искусству, но дивное, захватывающее чтение. И то, что эти тетради сохранились, — не только чудо, но и счастье.
Местечковый калейдоскоп
Давид Бергельсон, «Отступление»

Возможно, в своем раннем тексте Давид Бергельсон хотел показать, как главный герой (на самом деле их два, но об том – ниже) пытается выбраться из потной, суетливой идишской провинции, словно бы зависшей в небытии между двух революций, но на самом деле повесть «Отступление» – об этом самом местечке, из которого – так получается – нет выхода.
Итак, «Отступление» – книга, которую будущий классик литературы на языке идиш Давид Бергельсон начал в 1913 году. Один – Мейлах – после ссылки возвращается в местечко Ракитное, открывает там аптеку и потом, неожиданно, умирает (судя по всему, сводит счеты с жизнью). Второй – Хаим-Мойше, его друг – приезжает туда же, чтобы разобраться в том, что же произошло с Мейлахом, да так и остается – то ли по любви, то ли просто завязнув в бесконечном местечковом мельтешении. И – это важно – есть три женщины, красивые и разные. И опять это мельтешение.
Виртуозный текст Бергельсона (в переводе Исроэла Некрасова) больше всего похож на узор калейдоскопа – он зависит от того, под каким углом на него посмотреть, и разные его осколки сияют, в зависимости от того, как не наго падает солнце. Любовная история, которая пытается возвыситься до уровня трагедии экзистенциального одиночества – или, наоборот, экзистенциальная трагедия, закончившаяся одним самоубийством и упрямо подводящая ко второму, вдруг снижает эмоциональный накал, чтобы превратиться в маленький романтический эпизод из жизни забытого Богом местечка? Текст о революции, которая вот-вот наступит – или почти бульварная запутанная история несбыточных любовей?
Скорее всего, ни то, ни другое и ни третье. «Отступление» Давида Бергельсона (одного из тех, кто был расстрелян в 1952 году по делу Еврейского антифашистского комитета) – маленькая зарисовка о незаметных людях, та самая мелочь, из которой и складывается большая жизнь.
Попугай, не говорящий на идиш
Майкл Шейбон, «Окончательное решение»

Это такой детектив, в котором я сразу разгадал, «кто убийца» - вернее, в чем там дело (хотя убийство там тоже есть). А потом, по ходу чтения (и довольно быстро) обнаружил, что совершенно не прав в своих догадках. А потом, уже в самом конце, вдруг оказалось, что – да, я таки был прав и все угадал верно. Что, впрочем, ни на секунду не помешало чтению.
И тут важно отметить, что я давно и крепко люблю писателя Майкла Шейбона (теперь его фамилия по-русски пишется так, и это, видимо, единственно верное написание). Все началось с романа «Союз еврейских полисменов» - пожалуй, одной из самых странных книг, что мне доводилось читать. Альтернативная история о евреях-беженцах, которые во время войны получили временное место в Ситке, на Аляске, где и живут, вместе со своими говорящими на идиш попугаями, мамами, детьми, злодеями и праведниками, - так вот, эта альтернативная история изо всех сил подделывалась под «черный» детектив, и в какой-то момент даже пошел слух, что ее будут снимать братья Коэны – эх, какой бы получился фильм! Но – не срослось. С книжкой по-русски тоже не очень срослось, но даже так себе перевод не мешал наслаждаться виртуозно продуманной реальностью, похоже и одновременно совершенно не похожей на настоящую.
А потом понеслось – «Тайны Питтсбурга», «Вундеркинды» и, наконец, мои любимые «Приключения Кавалера и Клера». В общем, было понятно, что у этого человека со странной фамилией нужно читать все.
Детектив «Окончательное решение», буквально на днях что изданный по-русски, на самом деле только притворяется детективом и даже имеет подзаголовок – «История расследования» (что тоже запутывает, потому что история расследования – это же детектив, нет?). В этой маленькой книге вообще очень много всякого, что запутывает читателя. Например, главный герой – когда-то знаменитый английский сыщик, славный дедуктивным методом, а ныне глубокий старик, увлеченный пасекой и воспоминаниями… Стоит ли говорить, что имя Шерлока Холмса так и не будет произнесено. Или вот еще, американский писатель Шейбон делает идеальную стилизацию под английскую литературу начала ХХ века – при том, что книга эта написана в конце века ХХ, как раз во время написания «Союза еврейских полисменов». Ну и, наконец, еврейский мальчик с попугаем – из-за этого-то попугая и разгорается сыр-бор, который то ли сможет, то ли не сможет распутать когда-то великий сыщик. Да, дело происходит в самом конце Второй Мировой войны.
В общем, что я хочу сказать. Книжка «Окончательное решение» (название-то какое!) – не детектив, который похож на детектив про Шерлока Холмса – хотя, возможно, и не про него; очень похожая на английскую литературу, но написанная в Америке; каждым сюжетным поворотом обманывающая ожидания – и в результате заканчивающаяся единственно возможным образом. Хорошая книга, если коротко, - не пожалеете.
Да поможет нам рок!
Александр С. Волков, Сергей Гурьев, "Журнал КОНТРКУЛЬТУР'А. Опыт креативного саморазрушения"
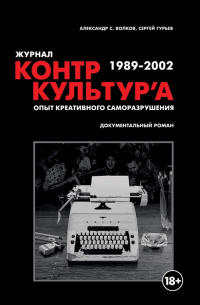
Я еще не читал эту книгу. Зато несколько лет назад написал для нее текст. В результате, как я понимаю, текст в книгу не вошел. Но он все равно мне кажется важным - в нем я сформулировал нечто для себя важное.
____________________________
Я не застал рок-самиздат. Не застал, хотя по возрасту вполне мог бы
успеть – просто, не знаю, не получилось. Большинство рок-прессы конца
1980-х я держал в руках уже потом – уже сейчас, когда юношеский восторг
и, позже, неприятие «русского рока» сменились во мне живейшим и
неутолимым интересом, причем интересом не к музыке как таковой (хотя,
чего греха таить, многое из того, что звучало в 1980-е, я люблю до сих
пор), а к времени, к отечественному рок-н-роллу как феномену. Мне не
нравятся 1980-е – они не могут нравиться. Но мне нравится то, что тогда
происходило.
Настоящий журнал «КонтрКультУра» я, кажется, держал
в руках лишь один раз – это был последний, третий номер, эпохальный,
возвестивший о смерти и самого журнала, и рок-самиздата в целом. Сейчас я
разглядываю отсканированные страницы журнала и что-то вспоминаю. Но
так, с трудом. Поэтому текст, который я в данный момент пытаюсь
написать, – это не воспоминания очевидца, это взгляд со стороны. Не
изложение пройденного, а сочинение на заданную тему. И попытка
сформулировать какие-то важные для меня мысли.
«КонтрКультУра»
появилась на самом сломе эпох: первый номер – январь 1990-го, третий и
последний – декабрь 1991-го. Пока несколько сумасшедших фанатов
сибирского панка делали один из главных журналов эпохи рок-самиздата,
успела рухнуть огромная страна. А они, кажется, и не заметили –
счастливые люди.
Индивидуальное для них было важнее общественного – отсюда и знаменитое интервью Егора Летов про то, что личность для системы опаснее массы, не помню дословно. Отсюда и появившийся в недрах редакции термин «экзистенциальный панк-рок» – ключевым здесь было слово «экзистенциальный». И страшная хронология журнальных номеров теперь тоже кажется логичной: за окном рушилась великая страна, но первый номер был отмечен самоубийством гитариста «Гражданской обороны» и лидера «Промышленной архитектуры» Дмитрия Селиванова («Ну ладно, у меня тут еще дело в конце коридора…»), второй – гибелью Виктора Цоя, третий – исчезновением Янки Дягилевой. Экзистенциальный панк-рок. Осененная крылом смерти, «КонтрКультУра», просуществовав без малого два года, своим закрытием поставила крест на рок-самиздате. То есть, конечно, другие издания еще существовали, и довольно долго, но само самиздатовское движение ничего более яркого уже не породило. Пришли иные времена.
Мне сейчас кажется, что самиздат в целом и рок-самиздат в частности возник не на пустом месте. Мне сейчас кажется, что малотиражные книжки начала ХХ века, все эти первые издания Осипа Мандельштама и Алексея Крученых, были именно предтечей, логичным началом самиздата середины и конца ХХ века. Выпущенные крошечными тиражами книги были доступны лишь избранным и, одновременно, меняли язык и мир вокруг. Потом, когда официальные тиражи стали зашкаливать, но новым авангардистам («авангардистам» – тем, кто отличался от общей массы) печататься было уже невозможно, на место этих книжек пришел самиздат – слепые копии лучших книг и музыка «на костях». И потом возник рок-самиздат – те же маленькие тиражи, та же «элитарность» (в смысле, что достать тот или иной выпуск газеты или журнала было непросто) и то же подрывное влияние на окружающую действительность. А вокруг снова рушилась большая страна.
При все богатстве выбора самиздатовской рок-прессы, появившейся с середины 1980-х, кажется, именно «КонтрКультУра» оказалось наиболее близка к изданиям начала века. Дело в том, что «КонтрКультУра» по сути не была рок-самиздатом. Нет, конечно, там шла речь о музыке, но все же журнал был не музыкальным, а… анархо-философским. Почти отказавшись от концертной хроники, авторы журнала резвились на многочисленных страницах, предоставляя журнальную площадь то американскому панк-леваку и экс-лидеру Dead Kennedys Джелло Биафре, то советскому (вернее, антисоветскому) художнику и одному из основателей арт-группы «Мухоморы» Свену Гундлаху, ерничанье по поводу конформизма Московской рок-лаборатории здесь соседствовало с откровенным издевательством над миром попсы, а серьезные рассуждения о панк-роке – с едва ли не порнографией. Это был литературный журнал, литературный – в самом широком смысле слова. «КонтрКультУра» была настоящим левацким изданием, провозгласившим свободу и независимость своими основными задачами. И, как анархистский Город солнца – махновское Гуляйполе, – журнал просуществовал недолго, но парни успели покуражиться на славу.
В какой-то момент в стране, где свободная пресса отсутствовала в принципе, для продвинутой части аудитории самиздат в целом и рок-самиздат в частности заменили геронтологические СМИ. «КонтрКультУра», выродившаяся из «Урлайта», появилась на закате эпохи самиздата – в самом начале 1990-х. Это было веселое время – вдруг разрешили все, и люди словно с цепи сорвались, творческие люди – особенно. И завертелось. А потом, когда свобода (почти настоящая, без кавычек) стала превращаться в бизнес-модель, многие начали ломаться. Редакция «КонтрКультУры», встав на коммерческие рельсы (в смысле, увеличив тираж издания до почти заоблачных высот и напечатав очередной журнал в настоящей типографии, то есть, по сути, перестав делать самиздат), быстренько выпустила последний, третий номер и свернула журнал. И осталась неопороченной.
Пришла пора «настоящих», зарегистрированных изданий – в ельцинской России, хотя бы в первые годы ее существования, еще можно было почти все. Но игры в поколение дворников и сторожей закончились – появилась возможность (а у некоторых – и желание) зарабатывать деньги. Стало не до самиздата.
Сейчас настало время бойцам вспоминать минувшие дни. Мне, сегодняшнему, хочется верить, что им было весело. Им было что-то надо – это, на самом деле, очень важное состояние. Последнее время почти не встречается.
Сестренки, как пройти на Колокольную?
Владимир Яшке, «Стихи разных лет»

Владимира Яшке называют дедушкой «Митьков» – не потому, что он их предвосхитил, а потому, что, когда они познакомились, он был старше всех. Он и рисовать начал сильно раньше них – еще в конце 1960-х. Удивительный художник (и поэт), разный. И пейзажи, которые, если их повесить между картин Сезанна и, скажем, Сислея, будут очень неплохо смотреться. И серия про Зинаиду Морковкину (Яшке – художник, который создает вокруг себя миф, и щекастая, аппетитная и не слишком стеснительная в проявлении чувств Зина Морковкина – один из главных, если вообще не важнейших, элементов этого мифа, персональный рай). И моя любимая картина про прогулку втроем – он, она и ребенок, но ребенок не очень влезает в «кадр», и это как-то дико трогательно и узнаваемо. И почти бунюэлевская серия, вернее, несколько картин разных лет, одинаково озаглавленных «Сестренки, как пройти на Колокольную?» – парень, облик которого буквально дышит мифической Лиговкой (той Лиговкой, которая существует лишь в воспоминаниях о довоенной жизни), все никак не может найти Колокольную улицу и спрашивает у разбитных девчонок, идущих мимо, но они, судя по всему, оставляют его без внимания – почти трагический образ, если задуматься.
Родившийся во Владивостоке, проведший детство в Севастополе, отучившийся в Москве и приехавший жить в Ленинград, Яшке, несмотря на солнечный, радостный, яркий настрой своих произведений, все равно совершенно питерский художник. Не просто художник, но создатель (и своими картинами, и своими стихами) поздней невербализуемой городской мифологии, которая появилась в 1970-1980-е и которой пока ничего не нашлось взамен – и, может, оно и к лучшему.
никогда
ты всерьез
не мечтала меня Зинаида –
все коришь да шельмуешь –
на кой тебе нужен такой
у меня, мол, –
ни рожи ни кожи ни вида –
пригляделась бы стерва –
а может я вовсе другой –
может буду богат
буду пить и коньяк я
и херес –
заведу себе блядь
арендую марсельский залив
отгуляю
вернусь
и в провинции русской похерюсь
и женюсь всем на зависть
на Клавке из «Вина в розлив».
Конструктивистская утопия, Платонов и культ тела
Борис Гройс, «Александр Дейнека»

Крошечная и крайне увлекательная книжка философа и искусствоведа Бориса Гройса названа по имени главного героя – Александра Дейнеки, но посвящена она лишь небольшому аспекту творчества великого художника времен расцвета русского авангарда, а именно – телесности. «После двух десятилетий художественных экспериментов, кульминацией которых стал переход к геометрической абстракции в работах Казимира Малевича и Пита Мондриана, многие европейские и русские художники провозгласили «возвращение к порядку» - возрождение традиции фигуративной живописи…» - начинает Гройс, и дальше кропотливо анализирует творчество Дейнеки этого периода. Но, конечно, не только Дейнеки – например, Гройс много пишет и о Лени Рифеншталь. Что понятно – как и Дейнека в Советском Союзе, Рифеншталь в нацистской Германии тоже культ вокруг атлетического тела. Однако, сравнивая атлетов Дейнеки и Рифеншталь, Гройс находит важное их отличие друг от друга – там, где Рифеншталь (и вообще нацистская идеология) ищет истоки и непрерывную традицию, в данном случае берущую начало в Древней Греции, советский Дейнека верит в «радикальные исторические переломы, новые начала и технологические революции». На самом деле, это – очень важное отличие ранней советской и нацистской идеологий, какими бы похожими они не были чисто визуально. Лишенное аристократизма, социальной и культурной привилегированности, тело в творчестве Дейнеки идеально вписывается в проект светлого будущего – не как элемент конструктора для построения модели, но как часть реального эксперимента по построению этого самого будущего. Тела в работах Дейнеки, лишенные, в том числе, и сексуальности, «воплощают собой аллегорию телесного бессмертия», то есть, проще говоря, становятся машинами – и в этом творчество Дейнеки неожиданным образом продолжает дело, начато русскими авангардистами, к примеру, тем же Родченко. Дейнека, вслед за представителями русского авангарда, участвует в строительстве конструктивистской утопии. Вот она, непрерывность искусства – и здесь русский авангард неожиданно объединяется с социалистическим реализмом.
Крошечная книжка Гройса вообще наполнена парадоксальными наблюдениями. Например, вот: «…его искусство в некоторой степени служит аналогом текстам Андрея Платонова – автора, интересовавшегося имперсональной мистикой пролетарского тела…» Если задуматься, этот вывод напрашивается сам собой. Книжка «Александр Дейнека» – этот как раз для того, чтобы задуматься, а в какую сторону – автор подскажет.
Жизнь как эксперимент
Жорж Перек, «W, или Воспоминания детства»
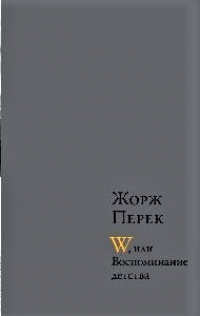
«Там, на другом конце света, есть один остров. Он называется W. Он вытянут с востока на запад; его наибольшая длина составляет примерно четырнадцать километров. Его общая конфигурация напоминает форму бараньего черепа с частично раздробленной челюстью…» – так начинается описание затерянной на карте мира страны, в которой давно установлен тоталитарный режим, культ спорта и силы, в которой жестокость решает все, а «Быстрее! Выше! Сильнее» - лозунг, ни на мгновение не теряющий актуальности.
«У меня нет воспоминаний о детстве. Я родился в субботу 7 марта 1936 года, около девяти часов вечера, в родильном доме, расположенном под номером 19 на улице де л’Атлас, в 19-м округе города Парижа… Долгое время я считал, что Гитлер вошел в Польшу 7 марта 1936 года…» – а так начинается описание детства главного героя и, соответственно, автобиография автора.
Обе эти части, на первый взгляд не связанные друг с другом, чередуются – одна глава рассказывает про страну W, вторая – про детство автора, и две эти истории никак не пересекаются – до самого конца, когда они, абсолютно внезапно и, в то же время, совершенно предсказуемо рифмуются и превращаются в одну. И на этом книга заканчивается.
Автор романа Жорж Перек – французский писатель, рожденный в еврейской семье выходцев из Польши. Большинство его родственников погибли во время Холокоста, и едва ли не в каждом произведении Перека встречается тема Катастрофы. Однако в ряду литераторов, посвятивших свой литературный талант Шоа, Имя Перека если и встречается, то точно не в первом ряду. Наверное, потому что первым делом Перек – экспериментатор, член группы УЛИПО, объединившей математиков и писателей и ставящих перед собой всевозможные ограничения – скажем, роман La Disparition (1969) Перек написал, не используя «е», самую часто встречающуюся гласную букву французского языка (в 2005 году вышел перевод этой книги на русский язык – она называлась «Исчезание», и в ней отсутствовала буква «о», самая употребительная в русском языке гласная).
Книга «W, или Воспоминания детства» – тоже литературный эксперимент. И, как любой эксперимент, сначала он пугает. Книга (особенно ее утопическая часть, рассказывающая про страну W) наполнена – даже переполнена – бесконечными перечислениями, политико-экономическими, техническими и спортивными подробностями, от которых устаешь (справедливости ради, эпизоды без перечислений читаются как хороший триллер, элементы которого тоже есть в этом тексте, как и элементы других литературных жанров) – думается мне, это сделано специально, это тоже – часть эксперимента. Как и разбиение текста на две едва связанные друг с другом истории – одну проживает главный герой, другую придумывает. Тем больнее бьет финал, виртуозно объединяющий две эти части. Финал, который венчает литературный эксперимент, выносящий приговор другому эксперименту – людоедскому и, к ужасу человечества, воплощенному в жизнь.
Дышащий механизм
Маурицио Лаццарато, «Марсель Дюшан и отказ трудиться»

«”Джон Кейдж хвалился, что ввел в музыку тишину, а я горжусь, что восславил в искусстве лень”, — как-то сказал Марсель Дюшан. “Великая лень” Марселя Дюшана произвела в искусстве куда более радикальный и долговременный переворот, нежели кипучая творческая активность Пикассо с его 50 000 произведений…» — так начинает свое эссе итальянский философ Маурицио Лаццарато, и оно составляет книгу «Марсель Дюшан и отказ трудиться» — удивительное и крайне увлекательное соединение философского текста о лени как осмысленном отказе от труда на благо капитализму (я упрощаю) и о Марселе Дюшане как о человеке, без которого невозможно представить искусство (да и просто восприятие жизни) ХХ века.
Фигура Дюшана выбрана не случайно – провокатор и скандальный художник, выставивший в музейном пространстве купленный в магазине писсуар, утвердивший место readymade в современном искусстве и оказавший влияние примерно на все художественные стили ХХ века, был славен не только своими произведениями (или «произведениями» — это как кому больше нравится), но и жизненной философией. По сути, все эти readymade и были воплощением его философии «праздной активности» (не знаю, кто первым произнес это словосочетание, но оно как нельзя лучше подходит к описанию того, о чем я пытаюсь сказать). «Продавать реди-мейды я не собирался. Смысл этого жеста – доказать, что можно творить, не думая подспудно, как бы на всем этом подзаработать…»
Буду левым философом, Маурицио Лаццарато значительное внимание эссе/книги уделяет экономической и политической (политэкономической) составляющей жизненного мировоззрения «праздной активности», рассуждает о том, компрометирует ли капитализм современного художника, о собственности и свободе творчества, однако выбранный им герой – Марсель Дюшан – сам по себе настолько мощен, что, вольно или невольно, перетягивает одеяло повествования на себя. Это, конечно, не экономический текст, — это текст о современном искусстве в целом и о Марселе Дюшане в частности. И, как это странно, он многое объясняет. И получается текст, совершенно необходимый для тех, кому интересно, откуда пошло современное искусство и с какой стороны к нему можно подойти, — вот, оказывается, еще и с этой.
«Вы отказываетесь называться и художником, и писателем […] Так какая же у вас профессия? – Ответ Дюшана: Почему вам так необходимо классифицировать людей? Да разве я сам знаю, кто я есть? Совсем просто – человек, “дышащий механизм” […]»
Удача выпадает каждому…
Давид Бурлюк, «Филонов»
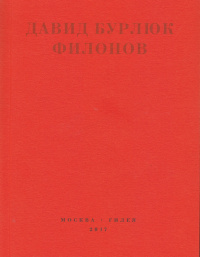
Кроме того, что Давид Бурлюк был одним из отцов русского футуризма, «продюсером» Владимира Маяковского и человеком, который оставил после себя бессчетное количество картин, он бы еще и мистификатором. И роман «Филонов» (о том, что эта небольшая книга – именно роман, упоминал сам автор в воспоминаниях и письмах) – тоже мистификация, причем такая, что многие исследователи попросту не принимали данную книгу в расчет – решительно невозможно определить, является ли текст мемуарами или выдумкой, изменяет ли Бурлюку память, или он сознательно искривляет пространство и время, тасует реально существующих людей и наделяет одних характерами других. «Филонов», написанный в начале 1920-х и издававшийся лишь раз, более полувека назад и по-английски, наконец-то вышел на русском языке, и надо признать, что это – одна из важнейших книг о зарождении футуризма (наряду, скажем, с «Полутораглазым стрельцом» Бенедикта Лифшица), независимо от того, правду ли пишет Бурлюк или врет от первой до последней буквы.
Что такое «Филонов»? Это несколько дней или недель из жизни главного героя, художника Филонова, которые произошли где-то в середине 1910-х годов в Петербурге. Филонов ведет жизнь затворника, ютится в крошечной темной комнате, спит на ворохе старых тряпок, рисует какие-то ночные кошмары, голодает из-за отсутствия денег и грезит чистым искусством, иногда прерываясь на общение с влюбленной в него девушкой. Филонов ходит на выставки и сборища богемы, общается с коллекционерами и другими художниками, пытается продавать свои пугающие работы. А вокруг бурлит жизнь! «Публики все прибывало, особенно столпилась она около половины третьего; в окна смотрел серый зимний петербургский день, переходящий в едва заметные сумерки. В помещении выставки было душно, пахло теплотой человеческих тел, пряными запахами заграничной парфюмерии; перед картинами Филонова было не протолкнуться, зрители стояли, отступив от них шеренгой на шаг, и если кто-либо хотел пройти через зал, то ему не оставалось ничего другого, как шмыгнуть по этому коридорчику, несмотря на раздражение внимательно глядящих…» Или вот еще один запоминающийся момент, описывающий появление художника Всеволода Максимовича: «Максим без стеснения расхаживал между присутствующими, его черные бархатные глаза с ресницами, подымавшимися как крыло бабочки, блестели кокетливо… обнаженный среди одетых, с контурами тела, где каждый изгиб напоминал гармонии греческих ваз, он был сказкой, сошедшей в серый гигантский мир». Бурлюк подробно описывает картины, дает язвительные портреты художников и критиков и вообще с фотографической точностью передает атмосферу богемного бурления начала ХХ века (во всяком случае, никак иначе это уже не представить). Но в главном герое неожиданно объединяет две реальные фигуры – самого Павла Филонова и… себя. Бурлюк как будто специально разбрасывает подсказки, намекая на то, что изображаемый им Филонов – не настоящий, хоть и похож, что это – альтер эго самого автора, он наделяет своего Филонова собственными мыслями, заставляет его артикулировать собственные идеи, но помещает его в декорации, почти точно повторяющие реальность. Мемуары становятся мистификацией, оставаясь при этом самыми настоящими воспоминаниями – к которым, как и к любым другим воспоминаниям, нужно подходить с осторожностью.
И тут важно заметить, что Бурлюк – не писатель. Он, безусловно, талантливый рассказчик, обладающий такими знаниями, что и не снились многим его современникам, а отсутствие знаний восполняющий буйной фантазией. Но он – не настоящий писатель, и его текст порой спотыкается о собственное косноязычие. Однако это не мешает, а порой наоборот облегчает восприятие текста – как будто ты не читаешь воспоминания великого футуриста, а разговариваешь с ним за рюмкой… за чем там разговаривали футуристы? Текст, к тому же, изобилует неожиданными искусствоведческими замечаниями, например: «Лицо модели носило черты иконной архаики, как у великого Рублева, где в чертах лица чувствуются уверенные взмахи топора, делающего сруб угловой башни, с ее высоты привольно глядеть на далекие нивы родной равнины…» Или, например, вот такое замечание, уже из области психологии: «Издеваться тоже война – в лицо, глядя глазами в глаза, слушать внимательно, по-дружески и вдруг хихикнуть… неожиданный издевающийся писк мыши из половой щели, навязчивый, преследующий, подобный начинающемуся сумасшествию…»
И еще это, конечно, великолепный текст о городе: «На Васильевском острове, среди многих прямых, как стрела, улиц, по которым быстро ехать на извозчике, но которые так тянутся, когда по ним шагаешь в башмаках со стоптанными каблуками, есть и узкие переулки; один из них недалеко от Академии художеств, по нему редко проезжает экипаж; зимой не дребезжит бубенчик чухонской лошадки. Окна в домах с одной стороны только на час-другой бывают озарены солнцем в те дни, когда оно не затянуто туманом. А так как в Петербурге не редкость они и зимней порою, то в этих переулках всегда царит полумрак, то синеватый, то полный желтой рыхлой мути…»
Мемуар, мистификация, жизнеописание, искусствоведческий текст и романтический роман, в котором настоящие Лентулов, Гончарова, Ларионов и другие соседствуют с выдуманным Филоновым, который проживает жизнь Филонова настоящего, – грустный текст с почти счастливым концом. Сложно представить, но такой текст существует – правда, потребовалось почти сто лет, чтобы он дошел до читателя. Вернее, до тех счастливчиков, которые успеют, – книга издана тиражом 500 экземпляров. «Удача выпадает каждому, только надо иметь волю и время, силу и неистребимую волю».
Человек в шляпе
Олег Ковалов, «Из(л)учение странного»
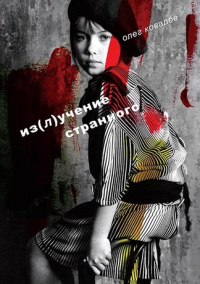
Многие смотрели неигровой пропагандистский шедевр Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом», но не всякий сможет сопоставить его с «Улиссом» Джеймса Джойса – едва ли не самой сложной книгой ХХ века, а один из эпизодов фильма – со строками из «Облака в штанах» Владимира Маяковского, порожденного, как и прочие футуристические строки… прозой Гоголя, на что намекает в книге «Мастерство Гоголя» Андрей Белый. Голова не кружится? Тогда вот еще – в «Великом утешителе» Льва Кулешова, еще одном абсолютном шедевре раннего советского кино, к тому же, основанном на новеллах и эпизодах биографии О’Генри, можно разглядеть… линию Луки из «На дне» Максима Горького – главного советского писателя, про которого Владислав Ходасевич писал: «… крайне запутанное отношение к правде и лжи, которое <…> оказало решительное влияние как на его творчество, так и на всю его жизнь». В глазах не рябит, можно продолжать? «Рваные башмаки» – недооцененный шедевр (еще один шедевр) Маргариты Барской – лучше всего рассматривать как кинематографическое воплощение… немецкой «новой вещественности» (Neue Sachlichkeit), гениальных и страшных картин Георга Гросса, Отто Дикса и других. Ничего так, да?
Когда в начале девяностых я, еще только открывавший для себя искусство кино, увидел подряд несколько фильмов Олега Ковалова («Сады скорпиона», «Остров мертвых», «Концерт для крысы» – именно в таком порядке), я уже читал какие-то тексты Олега Альбертовича и, возможно, даже видел его лично – очки, широкий воротник плаща, внимательный взгляд и едва заметная улыбка, с трудом маскирующая не самое веселое выражение лица, – такой внешний вид у меня, неофита, вызывал уважение, а его умные тексты и – потом – умные монтажные (и, позже, игровые) фильмы лишь еще сильнее укрепляли убеждение, что передо мной – человек выдающийся. Потом, долгими питерскими ночами приобретя «насмотенность», я вернулся к фильмам Ковалова – и убедился, что первое впечатление об этом человеке было правильным. Тем более, к уже увиденным его картинам добавилась «Темная ночь» – один из главных, как мне до сих пор кажется, фильмов, снятых в России на рубеже веков.
И тут важно понимать – что бы не делал Ковалов, о чем бы он не снимал или не писал, душой он оставался в начале ХХ века – в ранних советских киноэкспериментах, в эйзенштейновских играх с монтажом, в немецком экспрессионизме, в строках футуристов и ничевоков. Его тексты и его фильмы складывались в одну историю, и удивительно, что книга (первая из нескольких – судя по красной цифре «1» на корешке) появилась только сейчас. И какое же счастье, что она появилась!
Ковалов не играет в пионера – он и есть пионер, первооткрыватель. Для него каждый фильм – будь то заученный наизусть «Человек с киноаппаратом» или не самые популярные «Рваные башмаки» – повод для блистательной интеллектуальной игры, для цепочки парадоксальный ассоциаций, для едва ли не детективного сюжета. Соединяя то, что, на первый взгляд, соединить невозможно, Ковалов создает удивительные сюжеты, главными героями предсказуемо оставляя режиссеров, но выводя на первый план и тех, кто находился рядом – пусть и по другую сторону условных «баррикад», – и соратников по «важнейшему из искусств», и писателей, художников, политиков. Рассматривая кинематограф начала века в контексте не столько кино, сколько культуры вообще, Ковалов, по большому счету, и пишет не совсем о кино, но именно о «культуре вообще» , о контексте, о потрясающих связях, которые до него оставались незамеченными. Причем пишет так, что каждый его текст даст фору лучшим детективам. В детективе чаще всего можно догадаться, что убийца – шофер. Но о том, куда заведет мысль Олега Альбертовича, предсказать невозможно. В награду – восторг первооткрывателя, которым Ковалов – человек в очках, плаще и шляпе – щедро делится со всеми. Вернее, не со всеми – тираж этой великолепной книги преступно мал.
Душеполезное чтение на каждый день
Ричард Хьюго, «Пусковой город»
нига Ричарда Хьюго «Пусковой город» имеет подзаголовок: «Лекции и очерки о поэзии и писательстве», и этот подзаголовок может одновременно и привлекать потенциального читателя, и отталкивать его. Привлекать – потому что есть такие странные (и крайне приятные, во всяком случае, мне) люди, которым интересно, как именно другие люди пишут, как они сочиняют, как работают над своими и чужими текстами и как в результате получается, что мы так любим (или не любим). А отталкивать – потому что некоторым может показаться, что очерки, да еще о поэзии – что может быть зануднее? Если таки открыть эту книгу, то сразу становится ясно, что правы оказываются первые, но тут важно – открыть.
Я открыл – и примерно на третьей странице понял, что держу в руках в прямом смысле необходимую в хозяйстве книгу – необходимую всем и каждому, кто хотя бы иногда складывает слова в предложения, думая, что из-под его «пера» выходит сплошь хрустальная проза. Кто-то недавно пошутил, будто сейчас – в эпоху социальных сетей – мы пожинаем плоды всеобщей грамотности. Шутка эта недалека от истины, хотя все равно остается шуткой. Страх и трепет, который вызывает количество тех, кто в графе «профессия» уверенно пишет слово «блогер», лучше всего выражается одной из картинок из насыщенной жизни придуманного Линор Горалик Зайца ПЦ: «Спасибочки тебе, Божечка, что у меня не про все есть мненьице!». Возвращаясь к книге – уверен, ее должен прочитать каждый, кто по какой-то причине собрался соединять слова в предложения, чтобы потом записать их – и выставить на всеобщее обозрение.
Ричард Хьюго – бывший военный летчик, обладатель магистерской степени по писательскому мастерству (Университет Вашингтона) и преподаватель мастерства слова в Университете Монтаны. Его лекции, в которых анализ стихов сочетается с мемуарной прозой, – чтение настолько же полезное, насколько и увлекательное. Хьюго, давая многочисленные (и, отмечу, крайне важные – хотел процитировать хоть один, но не смог выбрать, каждую лекцию нужно читать целиком) советы, собственно, о писательском мастерстве, по большому счету учит не писать (хотя, конечно, и писать тоже) – он объясняет, как адекватно относиться к собственному (и чужому) творчеству, как сомневаться, как учиться на своих ошибках, как читать и понимать прочитанное. Его лекции увлекательны, остроумны, полны тонких наблюдений и самоиронии – нам всем не хватает такого учителя (некоторым – особенно).
Я многое понял, прочитав эту маленькую книжку. Надеюсь (и верю!), вас ждут похожие переживания. И спасибочки тебе, Божечка…
…и других предметах, касающихся управления книжным делом
«Письмо о книжной торговле», Дени Дидро

«Литературное произведение – не машина, работу которой можно испытать, не изобретение, для проверки которого существует сотня способов, не тайное средство, действенность которого можно доказать. Успех даже самой лучшей книги в момент издания зависит от бесконечного множества обычных и необычных обстоятельств, стечение которых не в состоянии предусмотреть и самый расчетливый предприниматель…» Дени Дидро написал это письмо своему хорошему знакомому Антуану де Сартину, который в те времена занимался книжной цензурой, ведал делами книгоиздания и книгораспространения. Но, скорее всего, этот текст задумывался как открытое письмо – для всех, кому интересна тема. Тем более, что де Сартин это письмо так и не получил. Что, в общем-то, особой роли не играет.
Поразительно, но в середине XVIII века (письмо было написано осенью 1763 года) Дени Дидро занимали те же вопросы, что занимают связанных с книгой людей века XXI – связанных не только и не столько по работе, сколько по… смыслу жизни. Дидро пишет о цензуре, о борьбе с контрафактами, об авторских правах, и обнаруживается, что за последние почти три сотни лет ничего, в общем-то, не изменилось. Скажем, Дидро пишет о том, что негоже запрещать какие-то тексты, которые – гипотетически – могут повредить сложившемуся в стране мироустройству, потому что они, во-первых, не слишком уж и повредят, а во-вторых, все равно рано или поздно доберутся до заинтересованного запретным плодом читателя – контрафактными или заграничными изданиями, причем отечественные книгоиздатели на это потеряют деньги, а иностранцы заработают, хотя патриотичнее было бы наоборот. «– Да как же это? Неужели я дозволю печатать и продавать сочинения, очевидно противного государственной религии, которую я исповедую и уважаю? Неужели я допущу малейшее оскорбление того, перед кем благоговею, перед кем изо дня в день преклоняю голову, кто видит и слышит меня и кто в Судный день спросит с меня за это самое сочинение? – Да, допустите. Ведь допустил же Господь, чтобы книга эта была написана и напечатана. Он сошел к людям и умер ради них на кресте. – Я считаю нравственность самой прочной, если не единственной основой счастья любого народа, самым верным залогом его долговечности – так неужели я потерплю, чтобы кто-то распространял убеждения, которые развращают и ослабляют нравы? – Да, потерпите. – Неужели ради дерзких речей неистового фанатика я поступлюсь нашими обычаями, законами, порядками, самыми святыми вещами на земле, безопасностью монарха, спокойствием сограждан? – Не спорю, это нелегко, но вы к этому придете. Рано или поздно вы к этому придете и будете сожалеть, что прежде вам не хватало смелости на подобный шаг…» Поразительно, что в середине XVIII века Дидро это понимал, а современные чиновники от искусства осознать этого не могут.
Однако книга Дидро посвящена отнюдь не только книжному делу – французский писатель и философ пишет и о более общих вещах, которые – увы – тоже не теряют актуальности: «Но прежде всего, сударь, задумайтесь вот о чем: государственному мужу не позволительно легкомыслие, с которым иные готовы в любых обстоятельствах утверждать, что если принятое решение ошибочно, достаточно вернуться назад и исправить содеянное, – подобным образом играть с состоянием и участью граждан недостойно и неразумно; подумайте о том, что куда досаднее обеднеть, нежели родиться в нищете; что положение опустившегося народа хуже, чем положение народа изначально низкого; что неурядицы в той или иной отрасли торговли неминуемо ведут к ее гибели; и что за десть лет можно причинить столько вреда, сколько потом не устранить и за целое столетие. Имейте в виду: чем более продолжительны последствия ошибочных решений, тем с большой осмотрительностью стоит подходить к учреждению или упразднению чего-либо. И коли уж зашла речь об упразднении, то позвольте спросить вас: не стоит ли за подобными действиями пустое тщеславие? Не наносим ли мы беспричинного оскорбления тем, кто был наделен властными полномочиями до нас, считая их глупцами и не задумываясь, что лежит в основе их учреждений, какие причины привели к созданию оных, какие благоприятные или несчастливые изменения эти учреждения претерпели? Мне думается, что именно в предыстории законов и иных постановлений необходимо искать истинные основания для того, чтобы следовать по намеченному пути или отступать от него…»
Самое же забавное, что даже у письма о книжной торговле (которые, как мы поняли, далеко не только о торговле) есть сквозной сюжет – красной нитью через весь текст проходит желание разобраться с несправедливостью. Дело в том, что баснописец Лафонтен при жизни передал права на публикацию своих текстов одному парижскому издателю, который позже переуступил их другим. Но королевская канцелярия, в нарушение в нарушение этих прав выдала внучкам Лафонтена привилегию на сочинения их знаменитого покойного деда сроком на пятнадцать лет. Два десятка парижских издателей взбунтовались, подали протест – девицы Лафонтен подали ответную жалобу в Королевский совет, который подтвердил их привилегию. И эта оправданно история не дает покоя Дидро, который на протяжении письма не раз возвращается в ней: «Поговаривали, будто у издателя Лафонтена не имелось никакого свидетельства о собственности, и я готов этому верить – не мне вставать на сторону торговца, оспаривая притязания потомков автора. Однако человеку справедливому подобает поступать по справедливости и говорить правду, даже если она противоречит его собственным интересам. Вероятно, в моих интересах было бы не лишать моих детей – коим богатства от меня достанется еще меньше, чем славы, - малопочтенной возможности ограбить моего издателя после моей смерти. Но если однажды они падут так низко, что примутся искать в этом несправедливом деле поддержки властей, значит, все чувства, которые я им внушал, погасли в их сердцах, коли ради денег они готовы попрать самые святые основы гражданских законов о собственности. Да будет им известно, что я считал себя вправе и очевидно имел право распоряжаться всеми своими сочинениями – не важно, хороши они или плохи; что я добровольно, по собственному желанию уступил эти сочинения издателю; что я получил искомую сумму денег; и что написанное мною принадлежит им не больше, что доставшийся мне в наследство от предков участок виноградника или арпан поля, который я вынужден буду продать, чтобы оплатить им образование. Пусть они знают, какой выбор им предстоит. Придется либо объявить, что сделку я заключил, потеряв рассудок, либо признать, что они учиняют вопиющую несправедливость…» И великим не чуждо ни что человеческое.
…то, что живет, просчитать невозможно…
«Письмо к отцу», Франц Кафка

Макс Брод был тем человеком, благодаря которому у нас есть возможность читать написанные его другом Францом Кафкой произведения – согласно завещанию, все произведения Кафки должны были быть уничтоженными, но Брод нарушил волю усопшего – к счастью для нас. Так вот, Макс Брод – друг и биограф Кафки – считал, что нельзя рассуждать об образе писателя, опираясь на его произведения. «Люди, близкие к Кафке, свидетельствовали о том, что Кафка совсем не производил впечатление человека загнанного и запуганного своим отцом, – писал, в частности Брод. – Он владел формой выражения себя, желал творить, активно интересовался жизнью, жадно вбирал в себя знания, вызывал и возбуждал к себе любовь окружающих... Он не был обременен напускной мрачностью, столь типичной для молодых людей, не было и следа упаднической вялости в его проявлениях, в нем совершенно отсутствовал снобизм, который часто вызывается духовной депрессией или душевными страданиями…» Все это несколько противоречит привычному образу человека, создавшего в литературе собственную реальность, но, возможно, позволяет более объективно – насколько это возможно – относиться к его текстам. В том числе и к тексту, о котором идет речь.
«Письмо к отцу» Франц Кафка написал в 1919 году – более ста страниц машинописного текста, подробный разбор отношений отцов и детей, жесткая и бескомпромиссная автобиография униженного и оскорбленного отцом человека. По одной из версий, он передал это письмо матери и попросил, чтобы она отдала его отцу, но она – видимо, предварительно изучив написанное, – вернула письмо сыну со словами, что ему нужно успокоиться. Доподлинно неизвестно, так ли это было, но отец этого письма не прочитал. Его вообще мало кто читал – впервые целиком оно было напечатано лишь в начале пятидесятых и стало одним из главных литературных произведений Кафки. Именно литературных произведений – судя по воспоминаниям Брода, да и по другим текстам, Кафка слишком утрировал недостатки собственного отца, сознательно заострил углы, закрасил все черной краской. Возможно, это был акт самоанализа, очищения… огнем. «…мое писание и все, что с ним связано, это слабые попытки, с ничтожным успехом, обрести независимость и избавление, и они вряд ли к чему-нибудь приведут – подтверждений тому много. Но, даже и так, я считаю эти попытки своим долгом, или, лучше сказать, моя жизнь заключается в том, чтобы эти попытки охранять, не подвергать их опасности, которую я могу избежать, не допускать даже возможности такой опасности…»
Как и любой другой текст Кафки – особенно текст личный, типа «Дневников», – «Письмо к отцу» в буквальном смысле укачивает, вызывает головокружение. Разбрасывая по всему тексту позволяющие перевести дыхание афоризмы («Жадность, и это неоспоримо, самое убедительное проявление глубокого недовольства…»; «…то, что живет, просчитать невозможно…» и так далее), Кафка рассуждает о детстве и семье, о способах унижения и путях достижения цели, об истинном и ложном в жизни человека: «Это как, например, если бы одному человеку понадобилось взобраться на пять невысоких ступеней, а другому только на одну, но на такую одну, которая, по крайней мене для него, так же высока, как те пять поставленные одна на другую: первый преодолеет не только пять своих ступеней, но сотни и тысячи последующих, он проживет заслуженную и трудную жизнь, но ни одна из ступеней, по которым он восходил, не будет иметь для него такое же значение, какое та первая, высокая ступень имела для второго, которому, несмотря на все его усилия, так и не суметь на нее взобраться, и на которую он никогда не заберется, и которую он, естественно, так и не осилит…»
Но главным образом это, конечно, попытка изжить страх – перед прошлым, перед собой, перед самой жизнью. Больше всего это похоже на «Перед восходом солнца» Михаила Зощенко, хотя это, конечно, две совершенно разные книги. Правда, обязательные к прочтению.
(Не)разгаданная загадка
Четыре книги Мих. Лифшица

Иногда для того чтобы заинтересовать какой-то книгой, хватает цитаты. За последнее время я в буквальном смысле заглотил четыре книги философа Михаила Лифшица (1905-1983, ведущий советский и, возможно, мировой философ-марксист, историк культуры, интеллектуал, участник литературных дискуссий 1930-х и вообще дико важная фигура в советской культуре и культурологии), так что одной цитатой дело не ограничится – тем более, что цитировать там хочется как можно больше.
Вот, например, очень интересные рассуждения Мих. Лифшица о дадаизме и прочем – из книги «Лекции по теории искусства. ИФЛИ 1940»:
«…дело здесь не только в повальном безумии, которое охватило людей, выдумавших, что живопись подобна тому, что может изобразить хвост ослиный – хвост, во время некоей своей вибрации в пространстве, что эта живопись представляет собой нечто абсолютное и что она способна осуществить движение вперед человеческого сознания. Так что мимо таких явлений, какие бы они ни были по содержанию, пусть даже крайне нелепые и странные, все же нельзя проходить как мимо случайных вещей, стыдливо закрыв глаза. Ведь это же продолжалось десятилетия и в Западной Европе не умерло и сейчас. Возьмите любой журнал американский или западноевропейский по искусству, и вы найдете там всю эту беспридметность и все эти дадаистические формалистические вывихи в искусстве и в настоящее время. Это указывает на то, что мимо этого обстоятельства пройти нельзя. Очевидно, здесь все-таки и в этих страшных исторических гримасах умирающего старого мира выразилась какая-то существенная черта, которую, по крайней мере, нам в нашей истории игнорировать и забывать нельзя.
Второе соображение (и это мне тоже один товарищ после прошлой лекции сказал), которое можно здесь высказать, заключается в показном логическом отрицании. Положение, которое привело к дадаистическому ничевочеству, к полному отрицанию всего, ведь это положение, которое шло через импрессионистов и через кубистов и через различные линии и формы стилизации, в конечном счете привело к полному отрицанию художественного творчества вообще. Ведь здесь была какая-то неизбежность, поскольку действительно старые формы превратились в академические шаблоны, эти академические шаблоны устарели, они стали ложными, как ложным стал какой-нибудь подделанный современными техническими средствами мрамор, они стали уже суррогатами, чем-то заменившими настоящую конкретную жизнь в искусстве. И поэтому насмешка над ними, профанация этих форм, издевательство и полное их отрицание может быть рассматриваемо как полезное дело в некоторой степени, дело расчистки почвы, до некоторой степени революционное дело. И было замечено, что эта логика отрицания имеет очень старые и глубокие корни.
В частности, этот дадаистический цинизм в разных направлениях живет даже в литературе и по сей день и сказывается, например, в трактовке всяких физиологических проблем отношений между полами. Этот дадаизм со всей своей логикой развенчания условностей имеет очень старые корни. Его можно найти у Гельвеция – желание развенчать всякого рода условности. Но Ларошфуко не так писал, как Мандевиль, который доказывал, что буржуазное общество основано на пороках, что пороки лучше добродетели, потому что они связывают людей. И, наконец, можно найти подобные идеи в античности в эпоху софистов и т.д. Так что эта идея отрицательного разоблачения условностей, норм и шаблонов, она коренится очень глубоко в прежней истории…»

А вот что он писал о Солженицыне, это уже из книги Varia:
«Солженицын сказал однажды Твардовскому, что 1937 год был отрыжкой
1929-1930-х годов, то есть наказанием за разгром крестьянского хозяйствования.
Этот взгляд Солженицына совпадает со взглядом Сталина, который однажды сказал в
1937 году, когда в ЦК полился поток писем и жалоб: ”А, взвыли! А когда мы
тронули с места два миллиона крестьян – молчали?” Сталин чувствовал себя ”бичом
божиим”. Это так.
Но Солженицын останавливается на 1929-1930-х годах.
А почему? Разве этот разгром был бы возможен без жадного уравнительного раздела
помещичье земли, без уравнительной волны октябрьских времен? Разве он не был
его продолжением? Кто были люди, творившие ”ликвидацию” и ”коллективизацию”? Не
крестьянские ли дети в гимнастерках и кожаных куртках, поддержавшие Сталина
против партийного боярства и обрушившиеся сверху на своих? Конечно, это было не
простой акцией бедноты, как это описывает Шолохов, а ”революцией сверху”, как
гов[орит] Сталин в ”Кратком курсе”, но все же революцией, воплощением уравнительно-всеобщего
начала.
Значит, во всем виновата революция? Так думает
Солженицын теперь (1974 год, когда я переписываю эти строки). Мещанский вздор,
возвращение к самой жалкой обывательщине. Александр Блок лучше понимал в начале
революции, почему жгут помещичьи усадьбы (хотя они были ему, наверное, более
дороги, чем Солженицыну), ибо он был мыслящим человеком из дворян, а не из
вышедших в люди кулаков, владельцев экономий, будущих офицеров военного времени
и ”прогрессивных” технократов.
Кстати говоря, господин Солженицын, вы забыли или
не знаете, что сами являетесь выходцем или более отдаленным продуктом той
уравнительной волны, которая обрушилась на оскудевшее дворянство, которая
привела к гибели ”Вишневых садов”. Ваши предки просто раньше начали, чем
хунвейбины тридцатых годов. Почему же вам не понести то наказание, которое вы
считаете справедливым по отношению к другим?
Кстати, чем бы вы были, если бы не октябрьская
революция? Проживали бы накопленное добро или, в лучшем случае, стали бы
небольшим декадентствующим прозаиком. Может быть, - и это уже в лучшем случае,
- эпигоном Бунина. Революция дала вам все – общий душевный подъем и народную
трагедию в качестве самого большого и единственно ценного содержания вашего
творчества…»

А вот о Кафке (из письма Владимиру Досталу, 26 ноября 1963 года):
«Я не говорю уже о тех обстоятельствах, которые сопровождали его творчество и появление его произведений в печати. Здесь нет игры и рекламы, мистификации и мистики. То, что обычно находят у Кафки – какие-то приметы будущих тоталитарных режимов, угаданные на основании мелких признаков, не кажется мне столь существенным. Если я не ошибаюсь, то в центре его мира стоит один действительно важный феномен – узость, малость всего человеческого, выступившая на поверхность в период превращения большинства людей в римских колонов и вольноотпущенников гигантской централизованной силы. Его человек, имеющий все признаки человека, - существо настолько измельченное, стиснутое обстоятельствами, втянутое в конвейер жизни, несмотря на внешнюю респектабельность мелкого чиновника или пенсионера, что все человеческие отношения, которыми люди привыкли гордиться, которые они обычно идеализируют, имеют здесь слишком тесные границы. Все становится до ужаса просто. Это как если вы провожаете близких, совершили весь ритуал, а поезд не идет. Почему не идет? Неважно – то ли путь закрыт, то ли электростанция не работает. Прошли уже все сроки, все слова сказаны, все возможности исчерпаны. Вы начинаете тихо ненавидеть виновников вашего ожидания, притворяетесь перед ними и перед самим собой, но в конце концов – есть же границы! В старой литературе прощание, даже трагическое, совершалось по всем правилам, благородно, идеальная оболочка человека была еще сильна. А в мире Кафки все слишком тесно, слишком прямо, примитивно, словом – в духе цивилизации двадцатого века, разделенной на миллиарды мелких ее потребителей. И вот почему здесь открывается некая правда, недоступная литературным формам более раннего времени, хотя на этот счет многое уже сказали и Монтень, и Ларошфуко, и Паскаль. Что касается литературной стороны дела, то повторяю, что Кафка кажется мне художником: он свои гофмановские фантазмы и аллегории излагает простым и ясным языком реальности. Схватить этот контраст и есть именно дело художника…»
И еще несколько цитат из Varia, мимо которых совершенно невозможно пройти:
«-Почему вы так зло пишете?
- Один мой приятель был на приеме у Калинина в последние годы его жизни. Пока
шел разговор, Калинин все время резал ножницами белую бумагу. Если бы я был на
его месте, я резал бы ножом письменный стол…»
«Характерная черта времени, последнего времени – всюду одна толпа, снизу доверху, справа и слева. Задыхаюсь…»

«”Грабь награбленное!” – это вещь такая, которой конца нет, переделы!
Когда началось отречение от нэпа, сначала нэпманов разоряли. Их облагали все
более высокими налогами и требовали уплаты их по несколько раз. Один маленький
хозяин типографии, помещавшейся в подвале и печатавшей объявления, уплатил все,
что с него причиталось, но “фин” требовал еще, хотя квитанции об уплате были налицо.
Тут действовало правило: “истина имеет классовый характер“, “бесклассовой
истины нет“. Нэпман, зная Луначарского, кажется, оказывал ему какие-то услуги в
былые времена, и тот обратился в Наркомпрос. А.В. написал Крыленко письмо
примерно такого содержания: “мы можем отменить те законы, которые сами издали,
но мы не имеем права развращать наш аппарат беззаконием и ложью“.
Ответ был краток: “Анатолий Васильевич! Охота Вам защищать нэпманов! “
Вспомнил ли этот случай Крыленко, когда его самого взяли за бока, приписывая
ему ложное дело?
Молотову на конференции задали вопрос: “У нас на себе есть поп, но он против
советской власти не агитирует. Как быть? “Молотов ответил: “Поп у вас есть. А
пруд есть?“
Бешеные аплодисменты. Дело было в начале тридцатых…»
«Андрей Платонов, сидя за стопой водки в нашей доброй компании и узнав, что арестован Динамов или другой какой-то сатрап, окруженный теперь венцом мученичества, сказал: “Братцы, а не в нашу ли это пользу?“…»
И, наконец, моя любимая: «Всю жизнь человек разгадывает свою загадку. Моя уже, кажется, разгадана. Не удовлетворен…»
Читайте Мих. Лифшица – не пожалеете!
Учитель Паланика
Энди Уорхол, America

Энди Уорхол опубликовал эту книгу в 1985 году. Вернее, это не совсем книга, скорее – фотоальбом, снабженный подробными комментариями. Если коротко, то отец-основатель поп-арта, один из главных художников (и нарушителей спокойствия) ХХ века, человек, который раз и навсегда изменил само понятие изобразительного (и не только) искусства, ездит по своей любимой стране, на которую смотрит сквозь объектив фотоаппарата. Уорхол любит Америку, любуется ею, но и подмечает ее недостатки. Художник, вдохновлявшийся страстью жителей ХХ века к консьюмеризму, в своей книге-альбоме он пишет об обществе потребления с нескрываемым презрением. Для него «мир как супермаркет» не равен раю, что, однако, не мешает ему любоваться и этим миром, и знаменитостями, в этом мире обитающими, что рыбы в воде. И, одновременно, фиксировать жизнь простых людей – обитателей городских окраин, пригородов и завсегдатаев криминальных хроник – тех самых хроник, без которых, как и без страниц со светской жизнью, не обходится ни популярная одна газета.
«В Америке, если ты хочешь жить по-настоящему хорошо, нужны либо деньги, либо чувство стиля. Здесь есть все, и к рогу изобилия можно припасть, либо купив его, либо убедив людей подпустить тебя к нему бесплатно, потому что ты блестяще выглядишь и люди жаждут с тобой общаться…» Это очень противоречивая и очень интересная книга, которая дает фору главным литераторам из стана противников общества потребления, скажем, типа того же Чака Паланика – уверен, Паланик читал эту (и другие книги) Уорхола, и порой, когда листаешь уорхоловскую America, это ощущается особенно отчетливо.
Но – Уорхол очень любит Америку, и это многое объясняет.
Первый среди равных
Джорджо де Кирико, «Воспоминания о моей жизни»
![]()
Про художника Джорджа де Кирико «Википедия» пишет, что он был близок к сюрреалистам, примерно к 1919 году отошел от изобретенной им «метафизической живописи», в 1930-е пришел к академизму – ну, и так далее. Автобиографическая книга «Воспоминания о моей жизни» опровергает примерно все, что написано выше – пожалуй, кроме изобретения «метафизической живописи».
В автобиографии (первая ее часть вышла в 1946-м, вторая – спустя тринадцать лет) де Кирико безжалостно разделывается почти со всеми художниками (и вообще людьми искусства), которые существовали примерно в одно время с ним. Импрессионисты, сюрреалисты, экспрессионисты и приверженцы беспредметной живописи – все они, по мнению де Кирико, не стоят выеденного яйца. Его любое слово (в русском переводе) – «мазня». Он не признает авторитетов, для него что Матисс, что Ван Гон, что Дали, что Эрнст, что Бретон (список можно продолжить едва ли не до бесконечности) – люди, которые занимаются профанацией. Есть очень мало тех, кто занимается истинным искусством, и де Кирико – первый среди них, как первый среди равных.
Но не стоит думать, будто де Кирико на протяжении 340 страниц лишь ругается плохими словами и обвиняет всех в бездарности и, что кажется еще более оскорбительным, в бессмысленности. «Воспоминания о моей жизни» – это очень подробный, тщательный и идеально драматургически выстроенный рассказ о времени, в котором художнику довелось жить: начало века, Первая Мировая война и зарождение итальянского фашизма, Греция и Франция, художники и поэты, многолюдные площади и богемные кафе – обо всем этом де Кирико пишет подробно, вдумчиво, обращая пристальное внимание на каждую деталь, из которых складывается большая картина его жизни – жизни в окружении самых разных людей и событий. Де Кирико выступает истинным бытописателем, летописцем довоенного (имею в виду Вторую Мировую войны) времени со всеми его открытиями и падениями. И пусть его взгляд на окружающую действительность слишком нетерпим и категоричен, и пусть некоторые абзацы и даже целые страниц грешат самым беззастенчивым самолюбованием, и пусть убежденный антифашист удивительным образом уживается в авторе с таким же убежденным гомофобом, эта книга – одно из самых интересных и наблюдательных описаний первой половины европейского ХХ века, что мне приходилось читать.
Метафизическая живопись – это «призрачность» и «ирония» (по определению Альберто Савино, еще одного главного теоретика направления), это метафора, уводящая зрителя за пределы обыденности и логики, это ирреальная атмосфера, окружающая совершенно реальные предметы. И – да, де Кирико утверждает, что всегда оставался верным идеям матафизической живописи, что бы ни писала «Википедия».
Обыденность зла
Валентина Муллер, «Счастливое детство…»

«Раннее утро, июль 1937 года…» – так звучит первая фраза этой книги, и она, к сожалению, не обманывает.
Мы уже столько читали про ГУЛАГ, что удивить чем-то нас сложно. Однако с каждым новым документом, с каждым новым свидетельством, с каждым новым воспоминанием нам открываются все новые и новые извращенные изыски эпохи, которая для многих удивительным образом остается великой. Небольшая книжка Валентины Муллер «Счастливое детство…», вышедшая в Иерусалиме в прошлом году тиражом столь крошечным, что о нем даже неудобно упоминать, – еще одно воспоминание о конце тридцатых, одно из многих и – уникальное, как и каждое, которое было до и будет после.
Сюжет этой книги немудрен и поразителен своей обыденностью – в 1937 году, после ареста сначала папы (пламенный коммунист, участник большевистского подполья, он был участником XVII Съезда партии, большинство участников которого были репрессированы), а потом мамы, их десятилетняя дочь попадает в детский дом для детей «врагов народа», откуда ее вызволяет бабушка. После долгих мытарств и переездов они оказываются в ссылке, где после лагеря содержат мать девочки. Четыре года – с 1937-го по 1941-й – охватывают эти воспоминания, которые разрывают сердце. Но – мы уже столько читали про ГУЛАГ, что удивить чем-то нас сложно, помните? – дело в деталях. Вот лишь некоторые из них.
Например, вот как автор описывает, как ее разлучили с мамой и бабушкой: «Бабушку и маму посадили на заднее сиденье. Куница (это имя НКВДшника – прим. Е.К.) сел впереди, меня посадил к себе на колени. Мои чемоданы и портфель приткнул рядом с дверью. Другой военный сел за руль. Зарычал мотор, и машина помчалась. Минуты через две резко остановились. Дверь рядом со мной распахнулась, чьи-то руки выхватили меня и мои вещи из машины, и она понеслась дальше. Мамин и бабушкин крики повисли в воздухе…» Жестокость этой людоедской системы невозможно осознать, сколько бы не читал и сколько бы не узнавал нового, всегда нового и, с каждым разом, все более страшного.
Там очень много таких поразительных вещей – обыденных (приходится второй раз употреблять это слово, но без него никак) и от того еще более страшных. Ведь именно эта обыденность добавляет обволакивающего ужаса, без нее остался бы просто шок – резкий, но мгновенный, который легче выдержать. «Открылась дверь, и в класс вошла маленькая остроносая женщина с черными глазками-пуговками. Зойка сказала, что это почетная работница швейной фабрики товарищ Синичкина. Я аж поперхнулась. Ну да, это та самая Синичкина, о которой моя мама, когда она была директором фабрики, рассказывала, что перед каждым праздником та заявлялась к ней и парторгу и требовала, чтобы ей дали рассказать ”про Сталина”. Парторг вежливо говорил ей, что уже назначен человек для выступления. На что она визгливо кричала: ”Вы что, не разрешаете рабочему человеку рассказать про Сталина?” Все пугались и говорили: ”Ну ладно, напишите, что вы хотите сказать”. – ”Нет, это вы мне напишите, что надо сказать, потому что я малограмотная, но хочу рассказать про Сталина!”…»
А вы знали, что женщины, жившие в сибирской ссылке, отправляясь на условный лесоповал, ярко красили губы? «”А зачем они губы накрасили?” – ”Чтобы не отморозить их. Очень сильные здесь морозы, с ветром. Губы страшно болят после обморожения”. – ”А зачем так ярко?” – ”Какая есть помада, такой и мажут”. – ”А что, кроме помады больше ничем нельзя?” – ”Можно! Лучше всего помогает топленое гусиное сало. Но где же его здесь взять? А помаду присылают некоторым женщинам родственники, и они делятся ею с другими”...»
Там еще много такого. Обыденность, помните, да?
И еще одна важная деталь, уже про само издание – весь рассказ подробно зарисован дочерью Валентины Муллер, Татьяной Шевченко, которой удалось не просто передать этот трагический рассказ в рисунках, но – сознательно или нет – создать парафраз немногочисленных (известных) лагерных рисунков. На ее иллюстрациях многочисленные герои книги оживают, а декорации, в которых творится эта история, становятся зримыми – просто обыденная жизнь. «Где-то в тюрьмах папа с мамой, / Мы с бабусею без средств, / Но я радуюсь: ведь с нами / Столько родственных сердец!»
А теперь безногий!
Лев Квитко, «Лям и Петрик»

Лев Квитко родился в 1890 году в местечке Голосков Подольской губернии, а погиб 12 августа 1952 года в Москве – был расстрелян по делу Еврейского антифашистского комитета, вместе с другими ведущими деятелями ЕАК, а по сути – вместе с цветом еврейской советской культуры. Между этим двумя датами поместилась жизнь человека, ставшего олицетворением детской еврейской поэзии молодого, но бойкого Советского государства (взрослые его стихи мало переводили с языка идиш, так что – да, Квитко ассоциируется именно с детской поэзией).
Повесть «Лям и Петрик» была написана в 1928 году и содержит в себе автобиографические мотивы – в том, что происходит с одним из героев, еврейским мальчиком Лямом, можно разглядеть кусочки биографии самого Квитко (впрочем, наверное, и в том, что происходит с украинским мальчиком Петриком, тоже). В любом случае, «Лям и Петрик» – непрочитанная проза знаменитого детского поэта, которую обязательно нужно прочитать.
«Лям и Петрик» – повесть удивительная во многих отношениях. Попробую сформулировать несколько важных для меня вещей. Первая – несмотря на то, что рассказывается здесь про подростков, это совсем не подростковая проза, и я бы не советовал открывать эту книгу людям с, что называется, неокрепшей (в силу возраста) психикой. Повесть эта с первых строк переполняется смертями, болезнями, голодом, нищетой, туберкулезом и всевозможным бродяжничеством – не самое детское чтиво, чего уж. И детским его не делает даже взгляд ребенка, которым автор смотрит на происходящее. Вернее, не только взгляд, но и… высота и охват обзора. В послесловии Валерий Дымшиц очень точно пишет о том, что мы, вслед за автором, смотрим на мир глазами двух героев книги, друзей Ляма и Петрика. Поэтому, скажем, многие события книги не требуют объяснений – это во взрослой жизни все нужно объяснить с позиции логики, в детстве ко всему относишься немного легче. Кстати, поэтому даже въедливый читатель не сможет придраться к тому, что, скажем, какие-то герои, которые поначалу кажутся важными, вдруг пропадают без следа – они просто выполнили свою функцию, и для данной конкретной истории больше не нужны, а – на взгляд подростка – важно, чтобы история не останавливалась. В детстве память коротка, вспомнить можно будет потом – если удастся дожить до этого «потом».
И вот еще одна важная для меня штука – действие книги происходит в последние предреволюционные годы. Мы слышим отзвуки 1905 года, мы наблюдаем начало Первой Мировой войны – кажется, мы читали об это уже много раз, но у Квитко, будь он хоть трижды еврейским писателем, который вышел из местечка, совсем нет этой «местечковой» тематики – мы что-то слышим о погромах, один раз вспоминаем про черту оседлости, но – и тут я снова возвращаюсь к послесловию Дымшицы, – «герои повести так бедны, что у них нет сил ни на что, кроме выживания», им не до традиции, не до рефлексии, не до еврейской мистики – им действительно нужно как-то выжить. Здесь нет босховского сюрреализма великого романа Дойвбера Левина «Лихово», хотя декорации во многом схожи. Нет здесь и филоновского мрака другого великого романа о примерно том же времени – «Щенков» Павла Зальцмана, действие которого происходит несколькими годами позже, уже во время Гражданской войны. «Лям и Петрик», несмотря на многолюдье и обилие стремительно сменяющих друг друга событий, написан и даже придуман очень просто – во всяком случае, на первый взгляд. Но тем ярче сияют жемчужины, запрятанные в этой кажущейся простоте, тем отчетливее они проступают, тем они более запоминаются.
И тут наступает третья важная для меня штука, которая есть в этой книге. «Лям и Петрик» – книга о том времени, когда всем было понятно, что революция вот-вот произойдет, но она все не происходила. Мир «Ляма и Петрика», как и мир «Лихова», как и мир других книг, не похожих друг на друга, но, по сути, рассказывающих одну историю, – это морок, из которого очень сложно – почти невозможно – вырваться. Этот морок опускается ближе к концу книги, и Лев Квитко находит очень точные слова для обозначения этого морока. Действие, которое только притворяется приключенческим (в первой половине книги два закадычных товарища расстаются, чтобы потом до – буквально – самой последней строки повести искать друг друга), на самом деле, как мне кажется, стремится к самой неожиданной кульминации. Ближе к концу книги, когда революционная горячка охватывает все большие народные массы, когда о том, что пора уже разделаться с богачами и восстановить наконец попранную справедливость, начинают говорить на каждом углу, когда уровень страданий героев книги – и главных, и второстепенных, – зашкаливает, – тогда на площади появляется... безногий. Этот безымянный персонаж повести будет присутствовать лишь на нескольких страницах и, в общем-то, не сыграет значительной роли в истории. Но, кажется, именно его появление, именно его слова и, потом, именно его исчезновение – тот смысловой центр книги, к которому в результате сходятся все дорожки, все нити и все судьбы.
«Петрик пробрался в самую середину толпы. Там сидел безногий. Но не речь он говорил, а разные истории рассказывал, вплетая одну в другую. Подле него стояла мисочка, и в нее бросали монеты, точно нищему. Странно.
– В этой бойне жестокой, в этой войне чудовищной и я участвовал. Дай-ка мне картинку на минутку! – неожиданно протянул он руку к стоящему в толпе мужику.
Мужик, купивший на базаре олеографию, чтобы повесить ее дома на стене, растерялся и под удивленными взорами толпы развернул бумажный лист. На нем дешевыми, лубочными красками была изображена схватка с немцами: русские рубят, немцы удирают.
– Глядите, глядите! – тыкал безногий пальцем. – Вам тут все понятно? Когда же народ прозреет? Видите полковника на пригорке? Я его хорошо знаю. Жестокий человек. Шестью деревнями владеет, земли сдает в аренду крестьянам, первейший богач. Но своей профессии не бросает, любит войну. Однажды он увидел в городе дочку провизора и потерял голову: “Хочу ее, и никаких!“ И верно, другой такой красавицы не сыщешь. Ей было лет восемнадцать. Он взял за ней приданного пятьдесят тысяч и женился. А молодая жена, как водится, стала заглядываться на офицериков. Но полковник не замечал, что жена изменяет ему. Ну а его весь город боялся. Однажды он увидел: рабочий несет тяжелый тюк из города в деревню. Полковник тут же на месте пристрелил его, потому что тот был весь в поту, а полковник терпеть не мог пота. Однажды на балу, когда капельмейстер отлучился, полковник встал на его место и давай дирижировать оркестром. А капельмейстер вернулся и говорит: “Ваше благородие, я в ваши дела не вмешиваюсь, пожалуйста, не вмешивайтесь в мои“. Полковник, недолго думая, выхватил шашку и зарубил его на месте. Полковника арестовали и вызвали из штаба генерала. Вот явился штабной генерал и спрашивает: “Где полковник?“ А ему говорят: “Под арестом. Хоронить мы убитого не стали, ждали вас“. А генерал приказал: “Полковника освободить, а капельмейстера похоронить!“ Вот как! Слушайте дальше про полковника. Однажды вернулся он домой и застал у жены прапорщика. Полковник пришел в ярость: “Вы что здесь делаете?“ Прапорщик кинулся бежать. “Смирно!“ – скомандовал полковник и приказал вестовому: “Сбегай за парикмахером!“ Когда парикмахер явился, полковник приказал ему сбрить наголо золотистые локоны жены. Парикмахер повиновался, а прапорщик, стоя навытяжку, вынужден был при этом присутствовать. Жене, конечно, эта операция ничуть не помешала – она надела парик и стала принимать других прапорщиков.
– Пойди-ка сюда, солдатик! – вдруг обратился безногий к Петрику. – Сними повязку, пусть все увидят твой вытекший глаз. Пора народу пробудиться от сна, и пуская земля колыхнется под ногами наших врагов… Народ…»
Потом, спустя некоторое время, безногий снова должен будет выступать на базаре, рассказывать «про землю, царя и про войну». Но он не выступит – полиция схватит его и арестует. Черносотенцы начнут подстрекать народ к погромам, а чуть позже где-то в столице скинут царя. Земля колыхнется под ногами врагов, и настанет совсем другое время. И книга, на самом деле, как раз об этом – во всяком случае, мне сейчас так кажется.
Устал или болен, не знаю, но трудно...
Александр Яшин, "Лирика"

Итак, я снова хочу поговорить про стишки и вообще тексты, которые выходят из-под контроля их авторов, и про официальную поэзию, которая порой только притворялась официальной, ну и вообще про жизнь. Досталась мне тут книжка советского поэта Александра Яшина, родившегося в 1913 году в крестьянской семье, деревенского учителя, лауреата Сталинской премии, в «Википедии» написано – представителя течения «социалистический реализм». В общем, обладателя совершенно правильной биографии. И вот читаю я его книжку, и вдруг, среди прочего, там встречается стихотворение «Сосна»:
С головы зелена,
Стволом красна,
Высока, стройна
Растет сосна.
Как невеста на выданье,
На большом пиру, –
Лучшей не видно
Во всем бору.
Иглами вышили
Неба треть.
Всем она вышла –
Любо смотреть!
Каких только ягод
Нет под сосной!
Здесь белка-летяга
Гостит весной,
Здесь тетерев грузный
Бруснику ест,
Здесь влажные грузди,
Маслята есть.
Здесь все для соленья,
И все для варенья –
Хоть целым селеньем
Живи, ночуй!
А мох для оленя –
Ешь, не хочу!
Сколько же дереву
От роду лет?
А столько лет,
Что и счету нет.
Но топор сечет,
И вот он – счет.
Стихотворение датировано 1939 годом, и это, конечно, придает ему дополнительные смыслы (которых, возможно, поэт в них не вкладывал – хотя, черт его знает, что он там вкладывал в 1939-м). Для меня это ведь – совершенно ясный пример того, как произведение, будучи написанным, выходит из повиновения и начинает жить собственной жизнью, приобретая дополнительные смыслы и так далее. И еще про контекст тут можно много проговорить.
Ну и, в общем, читаю я дальше этого представителя направления «социалистический реализм», и встречаю вот такое еще, «Железные балки», тоже 1939 года:
Устал или болен, не знаю, но трудно,
трудно дышать, не закрыв глаза:
яркие краски душу таранят,
песни любимые надоели,
встречи с любимой не веселят.
Глаза закрою – изводит грохот,
он нарастает со всех сторон,
кажется, взяли тебя с постели,
словно цыпленка из-под наседки,
и просто швырнули на тротуар.
А то еще хуже, еще нелепей:
вообразите вдруг, что в окно
с улицы, с ходу,
гремя на стыках,
стекла дробя,
не один – с прицепом
прямо в комнату прет трамвай.
Нет, не житье в коммунальной квартире, -
странно, что так назвали ее, -
свары, наветы…
И это коммуна?
До полуночи ругань на кухне,
и за столом мне покоя нет.
Голову ломит,
дрожат колени,
если бы мне побыть одному:
выключить радио на неделю,
дверь – на крючок,
не двери – записку:
«Выбыл…» -
и жить, как барсу к в норе.
…Полноте, что со мною случится!
Нет ни безверия, ни обид,
даже не болен,
устал – и только,
как устают железные балки
от беспрерывного топота ног.
Нормально? Книжка, кстати, из которой я все это брал, была издана в 1979 году – в самый расцвет, так сказать, – в издательстве «Советская Россия». Уже после смерти автора – Яшин умер в 1968 году от рака. В «Википедии» я прочитал, что после смерти Сталина он, Яшин, повинился: дескать, чувствует и свою вину за то, что литература (он имеет в виду официальную литературу, тот самый «социалистический реализм) сталинской эпохи была неискренней и так далее. И еще он, уже после марта 1953-го, писал рассказы, которые практически не публиковали – они были опубликованы только после смерти Яшина, во времена перестройки, - теперь очень хочу их почитать. Что-то мне подсказывает, что они должны быть крутыми. А я, между тем, продолжаю читать книжку стихов – насколько я понимаю, самое большое его собрание. И вот такое встречаю (во время войны Яшин был военным корреспондентом, уйдя на фронт добровольцем), называется «Обстрел», 1942 года (Яшин участвовал в обороне Ленинграда):
Снаряд упал на берегу Невы,
Швырнув осколки и волну взрывную
В чугунную резьбу,
На мостовую.
С подъезда ошарашенные львы
По улице метнулись врассыпную.
Другой снаряд ударил в особняк —
Атланты грохнулись у тротуара;
Над грудой пламя вздыбилось, как флаг,
Труба печная подняла кулак,
Грозя врагам неотвратимой карой.
Еще один — в сугробы, на бульвар,
И снег, как магний, вспыхнул за оградой
Откуда-то свалился самовар.
Над темной башней занялся пожар
Опять пожар!
И снова вой снаряда.
Куда влетит очередной, крутясь?..
Враги из дальнобойных бьют орудий.
Смятенья в нашем городе не будет:
Шарахаются бронзовые люди,
Живой проходит, не оборотясь.
Очень сильное, мне кажется – и что-то выделяет его из официально поэзии времен блокады, а что – не могу пока сформулировать, что-то на уровне ощущений. Ну и вот, едем дальше – стихотворение «Переходные вопросы», посвященное Константину Паустовскому, 1966 года (Яшин уже болел и знал об этом):
А в чём моя вера?
Опора?
Основа?
Кого для примера
Брать –
Снова Толстого?
С ружьём зачехлённым
Без дела до осени
Томлюсь,
Окружённый
Пустыми вопросами,
Конечно, проклятыми,
Конечно, немодными,
Давно - бородатыми,
И всё - переходными.
«Любить своих ближних?
Трубить славу жизни?..»
А если не любится?
А если не трубится?
«О слабых заботиться?
За сильных тревожиться?..»
А если не хочется?
А если не можется?
А если в судьбе у меня бездорожица?
Не новую повесть
В душе перетрясываю:
«А может быть, совесть
Понятье внеклассовое?
А может, всё пошлое,
Фальшивое,
Грошевое,
Продажность
И ложь
Не назовёшь
Пережитками прошлого?»
Какой мерой мерится
Моя несуразица?
И в бога не верится,
И с чёртом не ладится.
И, заключительным аккордом, стихотворение «Мы были молоды», 1967 года – к пятидесятилетию, блин, Великого Октября:
В голоде,
В холоде,
В городе
Вологде
Жили мы весело -
Были мы молоды.
Я со своей богоданной
Ровесницей
Под деревянной
Под жактовской лестницей.
В крошке сторожке,
В сарае ли - помните?
Нам-то казалось:
В отдельной комнате.
Были мы молоды,
Не запасливы:
В голоде, в холоде -
Всё-таки счастливы.
Крови давление,
Сердца биение
Были нормальными
На удивление.
Как чудесами,
Кичились крылечками,
Да туесами,
Да русскими печками.
Окна в узорах,
Кровли с подкрылками,
Охлупни в небе
С коньками,
С кобылками.
Не горевали,
Что рядом на площади,
С сеном, с дровами
Тонули лошади.
Мы колеи бутили
Поленьями,
Мы тротуары мостили
Каменьями.
И терпеливы были
И сметливы,
Неприхотливы,
Непривередливы.
Как нам любилось!
Как улыбалось!
Самое-самое
Близким казалось.
Не на «Победах»
И «Волгах» - где уж там! -
На велосипедах
Катали девушек.
И у Матрёшек
Вместо серёжек -
Серпы и молоты,
А вместо брошек -
Значки наколоты:
Ценилось не золото, -
Мы были молоды!
Что нам мохнатые
Бобры и пыжики?
Гордились ребята
Будёновкой рыженькой.
Не было крова
Под флагом
Сутяге.
Честное слово
Равнялось присяге.
В голоде,
В холоде
Жили мы в Вологде.
Но были молоды,
Вот как молоды!
Ах, до чего же
Глупы и молоды!
Такой простой советский поэт с чистым и ясным лицом, «социалистический реалист» Александр Яшин (настоящая фамилия – Попов, псевдоним взял в честь отца) жил-поживал, добра особо не наживал, умер в Москве, похоронен в родном селе Блудново, и кто о нем теперь помнит. А вон, поди ж ты.
Долгая счастливая жизнь
«Белый гром зимы. Владимир Стерлигов, Ирина Потапова. 1939-1943»

В 1940 году Владимир Стерлигов нарисовал танцующую женщину, в поднятой левой руке – букет полевых цветов. И приписал внизу: «Целый день мы пляшем, пляшем / И букетиком мы машем, / Все роскошно, все чудесно, / Жить без танца очень пресно!» За два года до этого, в 1938-м, он был освобожден из Карлага, куда попал после ареста в 1934-м, обвинения в антисоветской деятельности и осуждения на пять лет. Когда его освободили, он некоторое время оставался в Караганде, потом, в 1939-м, получил «минус 6» (запрет на проживание в шести крупнейших городах страны), прописался в Петушках, но почти весь 1940 год провел в Ленинграде и Москве, где нелегально работал, пытаясь выжить – пока 22 июля 1941 года не был призван в армию. «Мне так органически потребно воевать за радость, которая ведет и людей и самого постоянно вверх, она такая необойдимо чистая и светлая и такая постоянно сильная, что, конечно, кажешься многим глупым бараном и, очевидно – смущаешь. Все на свете бывает. А в грусть и уныние все-таки идти не хочу, пусть лучше буду бараном. А чем же брать ужас, горе и бесконечные страдания? Они только тогда в смысле, когда побеждены радостью. Это Творчество Жизни…» – написал он в письме своей возлюбленной, Ирине Потаповой, где-то в феврале-марте 1940 года.
Я пишу про книгу, которой еще нет – она, дай Бог, появится к концу августа в уникальном, рукотворном издательстве «Барбарис», а я держу в руках сигнальный экземпляр и в буквальном смысле боюсь выпустить его из рук. Потому что книга «Белый гром зимы» – настоящее, всамделишнее сокровище. Хотя о том, кто такой Владимир Стерлигов, сегодня едва ли знают люди, не погруженные в историю советского искусства ХХ века.
Наверное, надо начать вот с чего. Стерлигов был учеником Казимира Малевича, под его руководством изучал супрематизм и кубизм, был знаком с Филоновым, Матюшиным, Харджиевым, вместе с Суетиным и другими вошел в образованную в 1929 году «группу живописно-пластического реализма», с 1926-го был близок к ОБЭРИУ (некоторые исследователи называют его одним из обэриутов), в 1929-м начал заниматься книжной иллюстрацией, в том числе в «Еже» и «Чиже», писал стихи и прозу. Потом был арест, о котором – см. выше, служба в армии, контузия в самом начале 1942-го, известие о смерти Хармса (на которое Стерлигов отозвался текстом «На смерть Даниила Ивановича»), женитьба на Татьяне Глебовой, медаль «За оборону Ленинграда», жизнь в Алма-Ате, возвращение в Ленинград и дальше – работа и «долгая счастливая жизнь». Не очень, на самом деле, долгая – Стерлигов умер в 1973-м в возрасте 69 лет. И не очень счастливая – хотя, как посмотреть.
Примерно в 1939 году Стерлигов, только что вернувшийся из Карлага и живущий на нелегальном положении, познакомился с Ириной Потаповой – невероятно красивой потомственной аристократкой, скрывающей свою «неблагонадежную» родословную. Их роман в письмах – в основном, в письмах самого Стерлигова, недавно обнаруженных, случайно уцелевших, – и составляет центральную часть этой книги. «Дуда, нежнушка, милая, ну как Вы так говорите, что сердитесь на себя? Духа, невозможная радость, которую вытерпеть трудно, вот что эта жизнь! Жизнь светлая. И как ее надо беречь! Ведь душенька совсем любимая должна быть, ведь это как дыхание, ведь это никак и ничем назвать нельзя. Как же вы сердитесь на себя? Это очень, очень грустно и плохо и больно. Тогда что же мне делать? А я люблю, люблю, люблю милушку, Вас, всю Вашу жизнь, все, что Вы есть…» – писал он ей в феврале 1940 года. Господи, душа разрывается.
Возможно, эта любовь спасла его. Мне нужно повторить несколько вещей – он только что вернулся после Карлага, ему нельзя было жить в Москве и Ленинграде, вокруг арестовывали и расстреливали дорогих его сердцу людей, и просто людей вокруг тоже все время арестовывали, расстреливали или сажали, и весь его архив, все его тексты и рисунки – все, что он успел сделать до ареста, – были уничтожены после ареста – или пропали в бездонных архивах НКВД. Оставалось жить. «Знаете еще что, ведь человек безумно красив своей жизнью…» – это из его письма, датированного февралем 1940-го.
Его обэриутских текстов не сохранилось. Хотя и в редких сохранившихся стихах (которые тоже есть в книге), и в тех самых письмах язык обэриутов оживает, как будто он – язык, созданный для жизни, как будто нет ничего более естественного, чем этот самый пресловутый язык, убитый и растоптанный. «Хо! Хо! Хо! А Хармс сражен. Веселился от души. Он сказал, что мои стихи сильнее Заболоцкого и что я, Ваш покорный слуга, бродяга непутевый, большой поэт. Во! Во! Во! И что им всем стыд за 7 лет, а что я сделал больше их всех вместе и что они все развалины, а передо мной преклоняться можно, во! во! во! На колени!..» – с восторгом пишет Стерлигов в июне (?) 1941 года.
«Поражены. Молчали как расшибленные…» – вот так пишет он о том, как читал Введенскому и компании то, что «написал сегодня много» из поэмы «Пир королей», от которой сохранились лишь фрагменты. Крошечные фрагменты. «Пир королей» - картина, созданная Павлом Филоновым в 1913 году, одна из самых страшных его работ, – послужила отправной точкой поэмы Стерлигова: «И день, и ночь, сестра и брат, / Тучна походка суток. / У смутных неоткрытых врат / Проходит каждая минута. / Но мы с бокалами в руках / Подходим к ним, стовечным, / С венками ржи на головах / И с откровенной речью. / Громкоголосый бодрый хор, / Гортани золотом обиты. / Таким идет державный двор / И в мир, и в поле битвы…»
Да, а потом еще была война. Во время войны Стерлигов зашел в оставленную школьную библиотеку, где книги лежали высокой кучей, а с края – харджиевский томик Хлебникова. Положил во внутренний карман шинели, так всю войну и проходил – вспоминал Андрей Шишкин, профессор Университета в Солерно и директор римского Центра Вячеслава Иванова – один из тех, благодаря которым была найдена переписка, которая легла в основу книги. А вот из письма Стерлигова с Карельского фронта (осень 1941-го): «Столько уже прожито и какого, столько отложилось в душе каждого человека, и потом – эти дни, недели, месяцы, что любое произнесенное слово – как богохульство. Все молчит и все боится смерти и мучается от лишения жизни…» Любое произнесенное слово – как богохульство.
Книга «Белый гром зимы» очень хочет казаться книгой о любви. «Милый душный голосок слышал – все хорошо! Как же Вы мне не святенькая?!» – это из письма апреля (?) 1940-го. И очень хочется представить это все историей любви, иначе совсем страшно. Но – не получается. «Ночью под одеяло забирались крысы, которые тоже мерзли, а если я подкладывала под подушку маленький кусочек сухаря из этого хлеба земляного, то они забирались туда и все съедали, – вспоминает Ирина Потапова блокаду, в которой ей удалось выжить. – Я никогда не забуду ощущения чего-то живого, прислоненного к моей ноге. При первом движении они уходили, и слышно было, как спрыгивают с кровати. Крысы были везде, ели все – ремни, корешки книг. Борьба с ними была невозможна, да и не под силу. Они жили с нами и весь 1943-й, и очень трудно было прятать еду. Это очень умные животные. Раз я вечером подвесила сумку к люстре, чтобы в 6 часов утра идти на дежурство, но в сумке хлеба уже почти не было. По потолку, по цепям люстры, по крюку крыса подобралась к сумке, прогрызла ее и почти все съела. Я говорю о крысах потому, что они составляли часть жизни в блокадном городе…» Да, еще была блокада, а потом снова оставалось жить.
Нет, не получается читать эту книгу как историю любви. «И вот эта катастрофа разразилась и… оказалась сильнее любви и веры, т.е. нас разбросало в разные стороны. Но, как и говорил Вам, писал: я шел к Вам. У меня было не так. Я все это знал и знаю и делом пытался спасти свое «неверие» в Вас, т.е. характер Вашей веры. Иначе и просто: нашу любовь. Еще раз говорю, что у меня была одна цель – Вы. И чего она стоила, сказать трудновато. Если только увидимся…» – написал Стерлигов весной 1943 года, уже из Алма-Аты, в последнем письме Потаповой, которая почти до конца своей жизни молчала об этой любви. А Стерлигов после разрыва с ней навсегда перестал писать стихи.
«А дома очень уютно, спокойно и хорошо. Если будет благополучно, и будет работа, то не хотелось бы никуда уходить…» (Из письма Владимира Стерлигова Ирине Потаповой, март, 1941 год.)
Коллекционер
Давид Маркиш, «Дар Иды»

Так получилось, что я, кажется, в четвертый раз за этот год пишу про книги Давида Маркиша. Но он пишет много, и пропустить его новую книгу никак нельзя. Тем более, что она – про то, о чем я все время думаю (и о чем я писал в тексте о замечательной книге Маркиша «Белый круг») – про веру почти каждого из нас в то, что, когда-нибудь, в самом дальнем уголке грязного блошиного рынка, мы наткнемся на стоящий копейки шедевр. Новая книга Маркиша «Дар Иды» целиком посвящена этой вере – и тому, как она становится самой настоящей реальностью.
«Дар Иды» – несколько историй неожиданных открытий и потрясающих находок. Именно потрясающих – а как еще назвать утерянный портрет Переца Маркиша работы Марка Шагала, или картины других великих представителей русского авангарда, пылящиеся на стенах провинциальных бань, вдруг появившихся из пепла уничтоженного собрания Якова Кагана-Шабшая, вынутых из-под кровати старой женщиной в далекой ссылке? Как назвать уникальную картину, годами используемую в качестве… совка для домашней пыли в маленькой комнатенке и тем самым спасенную? В «Даре Иды» таких историй – больше десятка. Больше десятка самых невероятных историй, в которые невозможно поверить, но которые – были.
На обложке книги изображен бегущий над землей (на самом деле, конечно, летящий) Сергей Параджанов – великий режиссер, художник, волшебник, собиратель всего на свете. Маркиш, следом за своим другом Параджановым, тоже собирает все на свете, но – облаченное в слова: он собирает истории. Из которых, как и из блестящих мелочей из коллекции Параджанова, и складывается жизнь.
В поисках остановившегося времени
«Идеальные поломки», Альфред Зон-Ретель

Левый экономист и философ Альфред Зон-Ретель, близкий к франкфуртской школе, родился в Париже, жил в Германии, бежал от нацистов в Великобританию, исследовал в том числе связи крупного немецкого капитала с национал-социализмом, дружил с Вальтером Беньямином и Теодором Адорно, прожил долгую жизнь и умер в Германии в возрасте 91 года. И все это практически не имеет значения в разговоре о небольшом сборнике его эссе «Идеальные поломки». Пожалуй, знать следует лишь о том, что Зон-Ретель в 1920-е был частью небольшой группы европейских интеллектуалов, оказавшихся в тщетной попытке эскапизма где-то в округе Неаполя, словно застывшего во времени. И еще о том, что тексты, собранные в книжку, вполне мог бы написать тот же Беньямин, или еще кто-нибудь из людей, определивших философию ХХ века и живших где-то неподалеку. Но их написал Зон-Ретель.
Первое же эссе книги – «Транспортная пробка на Виа Кьяя» – настраивает на нужный лад. «На этой-то улице образовалась прямо-таки драматическая пробка, свидетелем которой я стал на исходе июня 1926 года». Причина пробки – ослиная повозка, внезапно остановившаяся посреди оживленной улицы и перекрывшая движение. «Транспорт встал так безнадежно-недвижимо, что доходил уже до точки кипения, что не удивительно в городе, привыкшем к извержениям Везувия». И дальше, оттолкнувшись от столь незначительного эпизода, философ Зон-Ретель пускается в ироничные и крайне наблюдательные размышления о жизни неаполитанцев, о природе, их окружающей, об отношении к животным (от крайнего дружелюбия до, порой, чудовищно жестокого, но не осознающего собственной жестокости) и об остановившемся на этой небольшой, ленивой и медлительной территории времени. По сути, таким же на первый взгляд не хитрым образом строятся и остальные эссе книги – эссе об остановившемся, но не потерянном времени. Именно об остановившемся времени пишет Зон-Ретель, стараясь собственными словами не нарушить привычный здесь ход вещей.
«Идеальные поломки» – центральное эссе книги – дало название всему сборнику. «В Неаполе все технические сооружения обязательно сломаны, - начинается оно. – Если здесь и встречается что-либо исправное, то лишь в порядке исключения или по досадной случайности». А дальше Зон-Ретель все равно описывает – с восторгом, граничащим с восхищением, – остановившееся время, анархистский жизненный уклад, в котором начало ХХ века с легкостью уживается с веком XIX или даже раньше. «Но техника, скорее, начинается там, где человек накладывает вето на враждебный, замыкающийся в самом себе автоматизм машин и сам вторгается в машинный мир. И тут оказывается, что он несравнимо возвышается над законами техники. Ибо он присваивает себе власть над машиной не столько потому, что изучил инструкцию, как потому, что обрел в машине свое собственное тело…» Именно так, очарованно, Зон-Ретель смотрит на людей, среди которых ему довелось оказаться волею случая – среди людей, не всегда различающих свое и чужое и использующих сломанный двигатель разваливающегося мотоцикла для взбивания сливок – засунув во втулку мотора длинную вилку, и среди поездов, пункта назначения которых не знает и начальник станции. И даже анекдотические крысы, изобретательно ворующие куриные яйца в «Крысах Сигурда», или цирковой слон, раздавивший красный минивэн друзей Зон-Ретеля в «Зоопарке в Дадли», становятся полноправными участниками этого поразительного, просоленного морским воздухом и нагретого ярким итальянским солнцем, карнавала медленной, но ни на мгновение не прекращающейся жизни.
Альфред Зон-Ретель прожил в Италии три года – с 1924-го по 1927-й, после чего вернулся в Германию, где защитил докторскую диссертацию по политэкономии. Наверное, его жизнь в Неаполе была не только попыткой эскапизма.
Изобретатель зонтика
Алиса Порет, «Записки. Рисунки. Воспоминания», второй том

Начну с того, что признаюсь в собственной слабости – я не знаю, как буду писать о книге, о которой пишу. Я не знаю, с какой стороны к ней подойти – и к книге этой, и к личности ее автора. Я не знаю, что еще можно сказать после текста, написанного Марией Степановой четыре года назад, к выходу первого тома (и нужно ли еще что-то говорить). Но – так получается, что, если о первом томе говорили много, то выход второго состоялся в какой-то, более или менее, тишине – то ли из-за долгого ожидания, то ли не до книги Алисы Порет, а речь идет именно о ней, сейчас стало (несколько месяцев назад, когда проходил посвященный этой книге фестиваль, о нем писали много – но, так получилось, не о книге). Поэтому я сижу перед монитором и пытаюсь написать какие-то слова об этой великой книге.
Имя Алисы Порет вынесено на обложку этого второго тома, который называется так же, как и первый, – «Записки. Рисунки. Воспоминания». Здесь, действительно, очень много Алисы Ивановны – ее воспоминаний, ее рисунков, ее анекдотов, отточенных в устной речи и потом начисто перенесенных на бумагу – в эти ее разноцветные тетради, или в оформленные в книгу (в другую книгу, изданную годы назад) воспоминаний. Но, в отличие от первого тома, который и состоял из уникальных этих тетрадей, том второй содержит еще и слова, написанные людьми, окружавшими Алису Порет, и их рисунки. И вот тут возникает самая главная сложность, потому что все они – и Хармс, неистово влюбленный в Алису Ивановну и заполнявший ее именем свои тетради-черновики, и Филонов с Петровым-Водкиным, ставшие ее учителями, и ее подруга Глебова, и Друскин, и Олейников, и Майзель, и Шварц, и Шостакович, – все они в этой книге превращаются в придуманных героев сказки, сочиняемой Алисой Порет. Разноцветные человечки – вот Шостакович в круглых очках, застывший со сжатыми кулачками в сумбурном переплетении проволочек-звуков, вот лысый Филонов с кистью в руке на фоне огненно-кровавых строений в дымке, вот председатель земного шара Хлебников, восседающий на футуристическом кресле на вершине хрупкого мира, вот долговязый, лохматый Мейерхольд, Михоэлс с нарисованной короной на голове, смешной и тощий, как щепка, Хармс, а вот и сама Алиса Ивановна – тоже герой своих разноцветных рисунков и анекдотов. И как будто нет ничего вокруг – ни войны и блокады, ни арестов и расстрелов, ни голода и страха, как будто вокруг нет чудовищной, злой, жестокой, пожирающей самою себя страны. Но страна, конечно есть – вот Шостакович, который не может уснуть, вздрагивая от каждого шороха в уверенности, что это за ним пришли люди в форме, а вот блокадный голод, тянущий свои костлявые пальцы прямо к горлу. «Постепенно исчезали из нашего дома талантливые, хорошие, молодые друзья...» – и последними в списке (но, конечно, не последними) – Введенский и Хармс, которого «железные руки тянули в яму» еще в 1938-м, за несколько лет до. Попытка жить в лодке, не замечая находящегося в ней тигра (как точно подмечает Мария Степанова), – принцип Алисы Порет. Принцип, порой доведенный до абсурда, как раз и обозначающего поражение – все-то она замечала, все-то видела, не могла не видеть. И эти рисунки, и эти записанные начисто разноцветные тетради, и эти сумасбродства, птичьи клетки под потолком вместо лампы, эти игры, эти маскарадные костюмы лишь скрывают бессилие перед веком-волкодавом. Пытаются скрыть.
«Человек достигает славы только через груды оскорблений – и для всякого, кто мыслит и действует, плохой признак не пройти через злословие, поношение и угрозы. Все, кто прославил свое отечество гениальными творениями, или доблестью, потерпели клевету, преследование, изгнание, лишение свободы, а иногда и СМЕРТЬ. Изобретателя зонтика англичане закидали камнями (и он умер!)…»
Второй том «Записок. Рисунков. Воспоминаний» – истинное сокровище (авторы книги – возглавляющая маленькое, но гордое издательство «Барбарис» Ирина Тарханова и Антонина Марочкина перелопатили тонну архивных материалов и совершили чудо) – похож на мозаику, из которой выбиты нескольких частей. Повествование, по большей части плавное, вдруг совершает кувырок через голову, или скачок сквозь (через) время – и кусочек времени, один или несколько осколков, из которых складывается слово «вечность», пропадают бесследно. «Мне трудно что я с минутами, меня они страшно запутали» (Введенский). Без этих осколков уже не собрать целое, трагическая эпоха все равно прорывается сквозь разноцветие ровных строчек, хотя жизнь была – длинная, наполненная встречами, любовями и друзьями («Долгие годы мы жили почти в нищете, без крова, без работы, без денег, но всегда были друзья, и чем дольше, тем их у меня больше…»).
Мы, сегодняшние, знаем больше, чем – молодые, счастливые – они. Как бы хотелось увидеть мир их глазами. «Записки. Рисунки. Воспоминания» словно по волшебству дают такую возможность. «Кругом возможно Бог» - написал Александр Введенский. Возможно. И, наверное, Алиса Порет все-таки была настоящей волшебницей. Хоть и, скорее всего, не верила в волшебство.
«Я родилась на Путиловском заводе «в колыбели Революции). 15-го апреля в пасхальную ночь звонили во все колокола, и повивальная бабка сказала маме – “счастливая будет у тебя дочка – день-то какой хороший светлое Христово Воскресенье”…»
Сошествие в ад
Ирина Эрбург, «Записки французской школьницы»

Ирина, дочь Ильи Эренбурга, впервые подписалась своей настоящей фамилией – Эренбург – только в 1967 году, после смерти отца, когда перевела книгу Анри Перрюшо «Жизнь Тулуз-Лотрека». До этого она подписывалась псевдонимом Эрбург – именно под такой фамилией Максим Горький напечатал в 1934 году в альманахе «Год XVII» ее первую прозу «Лотарингская школа «заметки французской школьницы)». В 1935 году «Заметки французской школьницы» вышли отдельной книгой в под названием «Лотарингская школа» в «Гослитиздате», а потом, уже как «Заметки французской школьницы», в «Молодой гвардии».
Книгу 1936 года предваряет предисловие «От издательства»: «Ни в одной стране школа не пользуется таким вниманием, как в Советском Союзе. Правительство, партия, любимый вождь всех народов товарищ Сталин уделяют постоянное, ежедневное внимание школе, вопросам воспитания и образования молодежи. Сталинская забота о людях, о подготовке полноценных кадров строителей социалистического общества находит чрезвычайно яркое, совершенно конкретное отражение в жизни и работе нашей школы. Благодаря этой заботе советская школа стала самой передовой, самой свободной школой, полностью обеспечивающей учащимся тот минимум знаний, который необходим для роста культурного поколения и дальнейшей самостоятельной работы каждого учащегося. Наша молодежь, учащаяся в советской школе, мало знакома с системой воспитания, бытом и нравами буржуазной школы. Помимо того, что в буржуазных странах детям пролетариата и трудящегося крестьянства почти закрыт доступ в школы, буржуазная система воспитания построена на том, чтобы привить учащимся аполитичность, преклонение перед священным правом собственности, перед богатством, веру в незыблемость паразитического существования эксплуататорских классов. Таково положение со школьным образованием не только в странах оголтелого фашизма, где мракобесы-учителя буквально калечат молодежь расовыми теориями, где молодежи с самого раннего детства прививают ненависть к человечеству и готовят из нее пушечное мясо для будущей войны за передел мира. Немногим лучше положение и в передовых буржуазных странах…» Три с половиной страницы пропагандистского бреда, возможно, и дали шанс этой, по меткому наблюдению американского филолога-слависта Омри Ронена, зоркой, непринужденной и хладнокровной книге.
«Записки французской школьницы» начинаются с конца. Перед отъездом Ирины в Москву из Франции (она училась в Сорбонне), ей приносят свежие газеты, в которых она читает: «Розыски Габриэлы Перье остаются безуспешными», «Амазонка в автомобиле. Студентка ограбила американца». И, наконец, подробности: «Вчера, 28 июля, американец Юджин Сандерс, тридцати лет, познакомившийся с хорошенькой француженкой, двадцатилетней Габи Перье, окончательно разочаровался в прекрасных парижанках. Великолепная ночь проведена в танцульках и барах Монмартра. Увы, когда бедный американец захотел оплатить счет в ресторане на площади Бланш, он не обнаружил своего бумажника!.. Пока полицейский выслушивал жалобы пострадавшего, Габи Перье исчезла. Швейцар видел, как она уехала в автомобиле американца по направлению к Сен-Лазарскому вокзалу. Молодая преступница – дочь почтенных родителей, потрясенных свалившимся на них горем. Она получила воспитание, основанное на правилах порядочности и нравственности. Тайна подсознательного, так догадываемся мы, влекла ее к преступлению. Потемки человеческого инстинкта – чья человеческая рука осмелится прикоснуться к вашему покрову!..» И дальше Ирина Эрбург (будем пользоваться именно этой ее фамилией) рассказывает о том, как познакомилась и Габи Перье еще в школе, как они подружились, как вместе учились, пытались успеть за быстротечной модой, заработать свои первые деньги, как экономили, выбирая самые дешевые кафе, курили, пробовали алкоголь, увлекались мальчиками, как они взрослели – и как менялась вокруг жизнь, как крикливые политиканы – правые и левые – завоевывали послевоенное поколение, как дети русских эмигрантов, бежавших от большевистского террора и крови Гражданской войны, пытались прижиться на берегах Сены, обвиняемые в шпионаже в пользу молодой Советской республики и сами провоцирующие местную публику на такие обвинения, как новоявленные правые, увлеченные истеричными идеями входящих в моду фашистов, пока еще вызывали негодование в среде «просвещенной молодежи», и как быстро – на глазах – меняется привычный уклад жизни. По сути, «Записки французской школьницы» Ирины Эрбург – точнейший, подробный психологический дневник, лишь притворяющийся художественным произведением, и прерываемый настоящим дневником Габи Перье – главной героини этой экзистенциальной драмы. Ирина Эрбург следует по пятам за своей героиней, пытаясь понять, почему хорошая девочка вдруг – вдруг ли? – оказалась в объятиях «туманной, нежной, горькой Мореллы» - этим именем из рассказа Эдгара По Габи называет героин. Двадцатидвухлетняя Ирина Эрбург описывает медленное схождение своей подруги Габи в ад – в поисках спасения от безлюбия (это слово я снова беру из текста Омри Ронена) и жестокого мира.
«Записки французской школьницы» - конечно, не социальная критика буржуазной системы образования, как бы ни старались доказать обратное безымянные авторы предисловия. Это страшная и очень красивая книга о взрослении, о поисках любви, о том самом экзистенциальном одиночестве, о котором европейские интеллектуалы, вслед за Карлом Ясперсом, заговорили в начале тридцатых. «Бедные послевоенные дети, - пишет «Пари Суар», - их характеры преждевременно завяли в жарком ветре нашего века…»
Книга Ирины Эрбург «Записки французской школьницы» была переиздана только после смерти Ирины, вместе с еще двумя частями ее литературного дневника. Ирина Эренбург (Эрбург), переводчица французской прозы на русский язык, умерла в 1997 году.
Я был собакой
Жан Жене, «Мастерская Альберто Джакометти»
![]()
Он. – Нужно рисовать в точности то, что видишь.
Я соглашаюсь. Затем, немного помолчав, добавляет:
Он. – И при этом надо нарисовать картину.
Жан Жене – проклятый драматург, воспевший убийц, воров и шлюх, написавший о себе «я решил отрицать мир, который отрицал меня», сидевший в тюрьме за кражу книг, автор «Богоматери цветов», экранизированного Фассбиндером «Кереля из Бреста», «Служанок» и еще нескольких десятков литературных произведений, не похожих ни на что другое, написанное в ХХ веке, удивительным образом проживший довольно долгую жизнь и умерший от рака горла в возрасте 76 лет и завещавший права на издание своих произведений своему бывшему любовнику, который не умел ни читать, ни писать.
Альберто Джакометти – скульптор, график, живописец, сын великого художника Джованни Джакометти, друживший с Бретоном, Пикассо, Миро, Сартром и Беккетом, поклонник кубизма и африканского искусства, близкий к сюрреализму эротоман и любитель проституток, экзистенциалист, придумавший собственный, ни на что не похожий стиль, автор самой дорогой скульптуры в мире и художник, чье лицо изображено на купюре в сто швейцарских франков.
У Джакометти взъерошенные волосы и немного испуганный, вернее, удивленный взгляд. «Как вы красивы», – говорит он. Потом повторяет: «Как вы красивы». А затем добавляет: «Как и все, впрочем…»
В 1954 году их познакомил Сартр.
Однажды обедая с Сартром, я повторил фразу, которую сказал о скульптурах: “Выиграла бронза”.
“Наверное, это доставило ему удовольствие, – говорит Сартр. – Его мечта – полностью скрыться за своим произведением. Было бы еще лучше, если бронза проявилась сама собой”.
Жане приходил к Джакометти три года – приходил и смотрел, как тот вылепливает свои фигуры одиночества. Книга, которая получилась в результате, – не дневник посещений, не запись разговоров, не наблюдения за наблюдающим. Это (как очень точно писал Александр Марков) – сборник загадок, задач, вопросов без ответов. Певец экзистенциального одиночества Жане, находясь в одном помещении с другим певцом экзистенциального одиночества, наблюдая за его работой, наблюдает и за его мыслями, сменой настроения и – за меняющейся реальностью. Настоящие художники умеют менять реальность, и неважно, работаю они с бронзой или со словами.
Так как я удивлен, что среди бронзовых скульптур Джакометти собака – единственное животное, то я спросил его об этом.
Он. – Это я. Однажды я видел себя на улице вот таким. Я был собакой.
Собака, избранная символом отверженности и одиночества, нарисована гармоничным росчерком. Дуга хребта созвучна изогнутой линии лапы – этот росчерк является высшим восхвалением одиночества.
Жане упивается наблюдением за мастером. «Красоту улице придает одиночество, тайное пространство, в котором находят пристанище люди и вещи…» – пишет он.
Они очень разные, эти два человека, но оба они – про одно.
Он. – Когда я гуляю по улице и вижу одетую потаскушку, я виду потаскушку. Когда она в моей комнате совершенно раздета, я вижу богиню.
Я. – Для меня голая женщина – это голая женщина. Это меня не впечатляет. Я совсем не способен видеть в ней богиню. Но ваши скульптуры я вижу так, как вы видите ваших потаскушек.
Он. – Вы считаете, мне удается показать их такими, какими я их вижу?
Жане пишет, что Джакометти видит не глазами, а руками, пальцами – пальцы вылепливают фигуры мужчин и женщин, их лица, лицо самого Жане. Жане водит своими пальцами по этим фигурам, по следам пальцев Джакометти, пытаясь увидеть мир глазами художника. И остановить время.
(Сентябрь 57-го.) Три года назад я нашел под столом, когда наклонялся, чтобы поднять окурок, самую красивую скульптуру Джакометти. Спрятанная им, вся в пыли, она могла быть испорчена неловкой ногой посетителя.
Он. – Если она действительно сильна, то ее увидят, даже если я ее спрячу.
Их познакомил Сартр. Это многое объясняет.
В огне брода нет
Давид Маркиш, «Полюшко-поле»

Три брата, сыновья еврейских родителей, в самом начале Гражданской войны уходят из дома – и расходятся в разные стороны. Один отправляется к белым, другой – к красным, третий – к Махно. Все трое мечтают о светлом будущем, у всех троих болит сердце за раздираемую в кровь страну, за рушащийся дом, за гибнущий, утопающий в пожирающем все огне мир. Братья расходятся в разные стороны, чтобы больше никогда не встречаться, но – в огне брода нет, так что их пути-дорожки, естественно, пересекаются. И уже с первых строк этой истории становится ясно, что ничем хорошим она закончиться не может.
Давид Маркиш, который придумал эту историю со сказочным зачином и совсем не сказочным продолжением, пользуется своим излюбленным приемом – он берет настоящую историю и настоящих исторических персонажей и подсаживает к ним своих выдуманных героев. Но – выдуманных ли?
В центре этого рассказа находится Гуляйполе – вольная земля под черным знаменем Нестора Махно. Мы очень мало знаем о том, что на самом деле там происходило – кроме воспоминаний Махно и его приближенных (которым, как и любым воспоминаниям, не стоит доверять безоговорочно), история не сохранила для нас почти никаких свидетельств (в частности, именно об этом написано в едва ли не лучшем исследовании махновщины – «Тачанках с юга» Василия Голованова). Маркиш очень тактично работает с имеющимся историческим материалом, создавая не действующую модель, но реконструкцию – очень правдоподобный вымысел. И не скрывает, что это вымысел. В конце концов, «Полюшко-поле» – почти авантюрный роман.
Симпатии рассказчика устремлены именно в Гуляйполе. Однако автор – настоящий еврейский отец – не может отречься ни от одного из своих сыновей, пытаясь найти правду в их действиях, окрашенных кровью и верой в светлое будущее. «Полюшко-поле» – грустное и предельно честное повествование о Гражданской войне, сказка с несчастливым концом – немного наивная, как любая сказка, очень искренняя и совершающая попытку понять – возможно, это и есть самое важное.
Определение гениальности
Вадим Левин, «Соавтор мой крылатый»

Вадим Левин и Рената Муха познакомились в 1961 году. Вадим руководил в Харькове городской детской литературной студией, сам писал стихи и даже возглавлял секцию детской литературы в харьковском отделении Союза писателей. И искал новых авторов, чувствуя собственную ответственность за судьбы детской литературы в Харькове в частности и во всем Советском Союзе в целом. Однажды кто-то принес ему забавный детский стишок, который начинался так:
Бывают в мире чудеса –
Ужа ужалила Оса…
А после того, как выяснилось, что автор этих строчек работает на кафедре английской филологии и носит фамилию Муха, стало понятно – мимо такого человека пройти нельзя. Так, собственно, и произошло знакомство, без которой уже невозможно представить детскую литературу последних пятидесяти лет.
Вадим Левин вспоминает, как пришел к Ренате знакомиться и сразу, на кафедре, попросил ее почитать ему еще что-нибудь. Но Рената огорошила главу секции детской литературы СП, сказав, что больше у нее ничего-то и нет. Левин пожал плечами и собрался было уходить. И тогда Рената окликнула его – оказалось, что у нее есть еще одно двустишие, правда, с ошибкой:
Жили в одном коридоре галоши –
Правый дырявый, а левый хороший…
И тут надо отметить, что Левин с детства был неравнодушен к калошам – еще читая «Телефон» Корнея Чуковского, он представлял себе, как, будучи крокодилом, жевал бы их, такие красивые, блестящие, вкусные. Они даже присутствовали в его первом лирическом стихотворении. И тут вдруг выясняется, что существует еще один человек, университетский педагог, который «балуется» детскими стихами, и имеет такое же увлечение – калоши! В результате и появился этот уникальный творческий дуэт Ренаты Мухи и Вадима Левина, из-под пера которого вышли знаменитые детские стихи, выученные наизусть и в буквальном смысле воплотившие в себе само детство, причем – детство сразу нескольких поколений.
В предисловии к небольшой книге воспоминаний «Соавтор мой крылатый» Левин написал: «Мы познакомились и подружились с Ренатой Мухой… А через некоторое время я обнаружил себя одним из сквозных персонажей ее устных рассказов… Из этих изящных эстрадных историй, которые в течение нескольких десятков лет Рената с успехом исполняла во многих странах мира – и со сцены, и по радио, и по телевидению, - складывалась шуточная автобиография на двоих, сочиненная Реной про нас… Мои записки – это письменное послесловие к ней [ненаписанной автобиографии], это попытка еще раз выступить дуэтом с моим другом и навсегда соавтором РенатойМухой…»
«Соавтор мой крылатый» - это с любовью собранная коллекция баек, случаев, забавных историй и не менее забавных подробностей творческого процесса дуэта. Например, о том, как Муха и Левин, влюбленные в детские стихи Бориса Заходера, стали читать друг другу любимые тексты мастера:
Верблюд решил, что он жираф,
И ходит, голову задрав,
У всех он вызывает смех,
А он, Верблюд, плюет на всех!
Или такое детское стихотворение:
Никакого
Нет резона
У себя держать бизона,
Так как это жвачное –
Грубое и мрачное.
«Это профилактические стихи, - сказала Рина. – Их должна знать каждая незамужняя женщина».
А однажды они решили прийти к Заходеру в гости. «Выходя к нам из своего кабинета, Б.В. сказал тогда недовольно: “Ну-ка, поглядим, что за Муха залетела в Комаровку”…» Они читали друг другу стихи, смеялись и в, в общем, остались очень довольными друг другом. Галина Заходер вспоминала (и ее воспоминания цитирует Левин): «Боря читал Ренате стихотворение «Бизон»… Рената от восторга закричала свое, такое эмоциональное – О-ой!!! – и начала хохотать, как только одна она умеет. Борис, несомненно польщенный реакцией, однако несколько настороженный яркостью ее выражения, спросил: - Чему это вы так радуетесь, Рената? – на что Реночка ответила, что она радуется, представив, какую радость испытал Заходер, когда написал эти строки. Вот тут-то Борис и сказал мне: Налей-ка за это Реночке еще тарелку супа!»
Очень важную часть книги занимают воспоминания Левина о том, как они сочиняли вместе. Часто бывало так, что Рената Муха приносила первые две строки будущего стихотворения, а потом, когда Левин спрашивал, что же дальше, пожимала плечами: «А дальше допиши ты». Именно так рождались самые известные их совместные стихи. Но бывало и по-другому – Левин немного редактировал стихи Ренаты, и чаще всего Муха принимала эту правку. Но, порой, отвергала ее или говорила: «Получились хорошие стихи, но не мои. Печатай их под своим именем». При этом стиль двух детских поэтов, их поэтический язык, их литературный почерк был настолько схож, что их произведения часто путали. И даже близкие порой не могли определить, кто именно написал то или другое стихотворение.
Кстати, Левин был тезкой мужа Ренаты Мухи – и тот, и другой Вадимы Александровичи. И однажды Рената надписала посвященную мужу и подаренную Левину книгу «Гиппопопоэма» так: «Моему мужу Вадиму и моему музу Вадиму…»
Рената Муха умерла в августе 2009 года, после долгой болезни. На книге Вадима Левина «Соавтор мой крылатый» есть посвящение: «…Соавтор биографии моей и автор нашей биографии. Ренате, 31 января 2009 года».
Да, и по поводу названия текста. «Гений – это терпение. Окружающих», - это тоже сказала Рената Муха.
Путешествие в мир мертвецов
«Заумник в Царьграде. Итоги и дни путешествия И.М. Зданевича в Константинополь в 1920-1921 годах», Сергей Кудрявцев
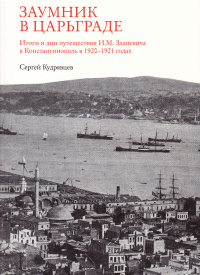
«Если не считать происшествия, свидетелем какового я нечаянно оказался в Константинополе, странствия эти никакого не заслуживают внимания…» - писал Илья Зданович о годе, проведенном в городе, который позже он описывал с использованием выражений типа «мир мертвецов». В Константинополе Зданевич оказался по пути из меньшевистской Грузии во Францию, и этого путешествия не могло не состояться – кроме того, что Константинополь в то время был перевалочным пунктом русской эмиграции, бежавшей от разбушевавшихся большевиков – там примерно в одно и то же время оказались и Врангель, и Вертинский, и Гурджиев, и Поплавский, и футуристы, и еще много кто, – без этого года не было бы таких знаковых текстов Зданевича, как роман «Философия» или заумная пьеса «лидантЮ фАрам», - текстов, знаковых не только для их автора, но и вообще для русской заумной литературы.
Сам по себе Зданевич – фигура уникальная и загадочная. «Мне кажется, что писать никому не нужные заумные стихи – самая важная вещь на свете…» - заметил он в письме Наталье Гончаровой осенью 1921 года. Писатель, теоретик русского авангарда и дадаизма, издатель, художник, друг Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Алексея Крученых, Владимира Маяковского и других, соратник отца итальянского футуризма Филиппо Маринетти, человек, представивший художественному миру Нико Пиросмани, коллега французских сюрреалистов и дадаистов, директор занимавшегося производством тканей в составе фирмы Шанель завода (Коко Шанель была крестной матерью дочери Зданевича), поэт, наконец, писатель и журналист, скрывавшийся под множеством псевдонимов, не все из которых известны до сих пор. Этой биографии хватило бы не на один десяток человек – странно даже предположить, что год, проведенный таким человек в бурлящем Константинополе, мог оказаться бессмысленным. Он, собственно, таковым и не оказался, о чем красочно, с привлечением многочисленных (и редких!) иллюстраций, повествует книга Сергея Кудрявцева.
По большому счету, эту книгу можно читать в отрыве от личности самого Зданевича. Текст Кудрявцева – это опасное и крайне затягивающее путешествие по Константинополю начала 1920-х. Здесь «за “сумасшедшим углом” русский продает акварели… Как много оказалось среди русских хорошо рисующих… Но почти все с выкрутасами – “ищут новых путей”…» - писал в 1921 году об это городе публицист, националист и монархист Василий Шульгин. Здесь проходят шумные и азартные тараканьи бега: «Самые настоящие, черные тараканы. Но величины потрясающей. “В банях собираем…” У каждого таракана свое имя. Вот общий фаворит – “Мишель” – зверски поводящий усами. Вот более стройная “Мечта”… Это целый букет имен, где есть все – и от большевизма, и от эмиграции, и от парфюмерии с косметикой до тихой беженской грусти…» - подмечал в том же 1921-м журнал «Зарницы». Здесь поет декадент Вертинский, чудодействует мистик Гурджиев, эпатируют публику футуристы. Здесь плетут интриги разведки всех стран, здесь в ходу валюта разных – включая несуществующие – государств. Здесь, наконец, готовится восстание. Здесь трагически умирают осколки Русской империи, Белой армии, и трагедия превращается в фарс. И все это служит фоном для года, который Илья Зданевич называл потерянным и не заслуживающим внимания, - года, который нашел отражения в текстах и самой последующей жизни человека, без которого не представить первый русский авангард и вообще русскую литературу первой половины ХХ века.
«Но я поэт. Нигде же не записано, что и поэтам надо учиться…» - написал Илья Зданевич в заявлении в Комиссию искусств при Учредительном собрании Грузии, октябрь 1920 года. Заявление было принято, и Зданевич отправился во Францию. Но сначала был Константинополь. Город, «в котором случилось происшествие, свидетелем какового я нечаянно оказался». Что это было за происшествие? Пожалуй, сохраню интригу. Но, уж поверьте, в Константинополе 1920-1921 годов происшествий было больше, чем нужно для одной книги.
Синий вечер смотрит в мое окно
Цви Прейгерзон, «В лесах Пашутовки»
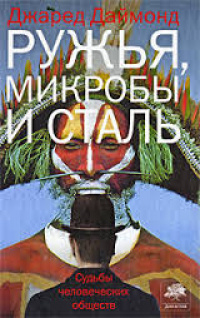
Первым предложением первого рассказа книги Цви Прейгерзон сразу настраивает на нужный лад: «В третий день месяца тишрея, как раз ан пост Гедальи, исполнилось Лизаньке девять лет, а в субботу праздничной недели Суккот пришли в родительский дом убийцы». А другой рассказ, тоже 1927 года, начинается так: «Девственница Бейла Рапопорт, в изобилии красоты и лет жизни, большую часть своего времени проводила в грусти и тоске по избраннику сердца, который все никак не появлялся…»
В общем, месяц назад в издательстве «Книжники» вышло полное собрание рассказов Цви Прейгерзона – уникального писателя, ровесника ХХ века, всю жизнь прожившего в России и писавшего прозу на иврите. Судьба Цви-Гирша (Григория Израилевича) Прейгерзона, если коротко, уникальна для и без того перегруженной уникальными судьбами советской литературы. Крупный специалист в области обогащения угля, автор учебников и доцент Московского Горного института, он всю жизнь писал прозу… на иврите. Ровесник века, будущий писатель родился в 1900 году в Волынской области, в религиозной семье и с детства говорил на идише и иврите. Его ранние стихи читал и хвалил Хаим-Нахман Бялик. В 1913-м Цви год отучился в Палестине, в гимназии «Герцлия». Вернувшись в начале Первой Мировой войны, он не смог уехать обратно и остался учиться – в Одессе. Он недолго служил в Красной армии, а в 1927-м был напечатан его первый рассказ – в одном из издаваемых в Палестине на иврите журналов. Но с началом 1930-х печататься за рубежом стало невозможно – советская же печать была для Цви Прейгерзна закрыта. Но он продолжа писать – в стол. 1 марта 1949-го его арестовали – он был реабилитирован лишь в конце 1955-го, до того отбывая срок в лагерях Караганды, Инты, Воркуты. После возвращения из лагерей Прейгерзон продолжил писать прозу на иврите – и преподавать в Московском Горном институте. Цви-Гирш Прейгерзон умер в Москве в 1969 году, его прах захоронен в Израиле, в киббуце Шфаим.
А книга «В лесах Пашутовки» - это зафиксированная в прозе жизнь штетла, утопающего в крови Гражданской войны, плачущего и смеющегося, уничтожаемого во время Второй Мировой войны, идущего на убой в гетто и выживающего, несмотря на невзгоды. «Это целый мир, трагический и смешной, жалкий в своей терпеливой забитости и величественный в своем беспредельном горе, целый мир персонажей, некогда заселявших города и местечки бывшей черты оседлости. Цви Прейгерзон воссоздает этот исчезнувший мир с поистине бабелевским экспрессионизмом…» - написала о книге Дина Рубина. Но смешная и трогательная короткая проза Прейгерзона (в переводе Алекса Тарна) – это еще и стилистическая история советской литературы, от языковых экспериментов 1920-х, через реализм 1940-х и лагерные документальные записи к лирике шестидесятников.
«Синий вечер смотрит в мое окно, а из-за его спины выглядывает ночь во всеоружии сияющего месяца и множества звезд. Призраки прошлого толпятся в моей голове, и вытеснить их оттуда не может даже оглушительный шум, доносящийся из соседней комнаты, где что-то празднуют комсомольцы, молодая поросль нашей железной партии...»
Как-то так, если коротко.
Чтобы нарисовать паровоз
«Осколки разбитого вдребезги. Дневники и воспоминания 1925-1955», Павел Зальцман
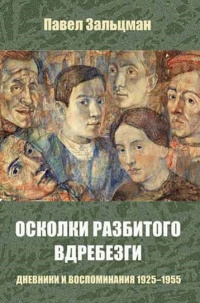
Павел Зальцман – выдающийся художник, ученик Павла Филонова, друг Владимира Стерлигова, человек, близкий к ОБЭРИУ, - было бы странно, если бы ко всему этому он не оказался еще и потрясающим литератором. Я подробно писал о его незавершенном романе «Щенки», который мне кажется одним из главных литературных произведений на русском языке, написанных в первой половине ХХ века. «Щенки» - захватывающая фантасмагория о голоде Гражданской войны – и рассказы Зальцмана, а также сборник его стихов «Сигналы Страшного суда» (и отдельно его блокадная поэзия) - и вот теперь, наконец, изданные дневники: их вполне легко читать отдельно друг от друга, но все же лучше бы воспринимать именно в таком порядке. Хотя все его тексты, в том числе и дневники, и отдельно друг от друга обладают несомненной литературной ценностью.
Но я – о дневниках. И вот тут важно понимать, что дневники Зальцмана, по большому счету, обманывают ожидания. Чего ждешь от дневниковых записей человека, близкого к ОБЭРИУ и учившегося у Филонова? Естественно, подробностей об этих людях, об их жизни (существовании), об их работах, разговорах, настроениях. Всего этого в дневниках Зальцмана нет. «Одной из основных черт дневниковых записей является игнорирование автором того, что обычно представляет главный интерес для историка искусства и культуры, - пишут в предисловии составители. - Мы почти не встречаем имен П. Филонова, Д. Хармса, других деятелей искусства, с которыми Зальцман состоял в тесной связи либо встречался. Он мало пишет о своей творческой работе при том, что эмоции по поводу окружающего его быта высказывает более чем открыто. Такой избирательный метод письма мы считаем осознанным приемом художника-кинематографиста, а мозаичную панораму, открывающуюся нам на страницах его записей, - уникальным литературным документом эпохи». Так и есть, «Осколки разбитого вдребезги» (именно такое название дано дневникам Зальцмана) – именно что литературное произведение, больше похожее на автобиографическую прозу, которая только притворяется дневниковыми записями.
Собственная рефлексия, собственный взгляд на окружающую
действительность (порой, достаточно чудовищную), собственное видение
человеческих характеров и особенностей (не всегда приятных) Зальцману важнее
каких-то документальных свидетельств. Его дневники – взгляд художника на
модели, но, при этом, взгляд мыслителя на то, что эти модели окружает. «Улицу
перебегал маленький мужик, старичок с палкой, в грязных сапогах, рыжебородый,
делая очень большие шаги. Бежит, а за ним бричка, а за бричкой, разбрызгивая
грязь, грузный автомобиль мчится, и прямо на него.
О, как я обомлел, я судорожно застыл на половине шага, напрягшись, выпрямился и
с замиранием сердца ждал, что будет, не имея силы ни двинуться, ни вскрикнуть.
Я весь был поглощен своей напряженностью. Но все кончилось благополучно.
У меня страшно тряслись ноги. Это, конечно, не от
жалости (или сочувствия) к человеку и не от страха за него. Так отчего же? Я
сам, если б я был на его месте, был бы спокойнее, чем теперь, глядя на него.
Почему так невозможно быть безразличным к людям и вообще живым существам?..»
(1929) Или вот еще что: «Вот и интересно подумать бы. Когда меня, мои
творения ругают, я страшно зол, раздражен, обижен, и разорвал бы того, кто
говорит так. Когда меня хвалят, моя мнительность толкает меня на вопрос – не ли
усмешки на лице хвалящего.
Я затрудняюсь объяснить, как это. Отчасти я боюсь, “чтоб не сглазили”, и
мучаюсь от одной мысли, а такая мысль обязательно при похвале у меня
появляется, достоин ли я ее, этой похвалы.
Только похвала очень глупого человека может мне доставить удовольствие: я знаю,
что он искренен и не смеется надо мной, я знаю, что он не завидует мне…» (1929)
«Для того, чтобы нарисовать паровоз, надо по крайней мере попасть под него…» - вот что он пишет в том же 1929-м. По поезд ему еще предстоит попасть – аресты друзей, гибель в блокадном Ленинграде родителей и Филонова, любимого наставника, голод и эвакуация – и снова голод, отсутствие работы, борьба с космополитизмом (интересно, что в дневниках нет совсем ничего о политике, о Советской власти, но имя упыря Жданова в них есть). «Беспокойство во сне одно, а днем другое, днем чужое, а во сне мое...» - запишет он 5 декабря 1939 года, и это, пожалуй, одна из самых важных строк книги.
Здесь, конечно, есть множество сокровищ – и какие-то мотивы, только зарождающиеся, которые потом будут в полную силу звучать в «Щенках», и все же свидетельства о том же Хармсе, Стерлигове, Глебовой, Филонове, Алисе Порет, и сокровища литературные – вдруг возникающее автоматическое письмо, на которое переходит Зальцман, или его сны, которые иногда кажутся реальнее яви – «беспокойство во сне одно, а днем другое…», да? Разрозненные, обрывочные дневники Зальцмана – не историческое свидетельство, не документ времени, не портрет художника на фоне эпохи. Дневники Зальцмана – это именно что портрет самого времени, суть его, его душа, лишенная физического тела. Зальцман позволяет заглянуть в душу этого времени – поступок, на который способен лишь настоящий писатель.
И еще этот взгляд…
Рубен Гальего, «Белое на черном»

Я прочитал книгу «Белое на черном» 15 лет назад – тогда, когда она вышла в первый раз. Кажется, я в то время неумело (еще более неумело, чем сейчас) писал о книгах, и мне сказали – вот тебе книги, напиши про нее, о ней будут говорить. Никто не знал, что о ней будут говорить так долго.
Надо сказать, что эта книга, которую я прочитал достаточно быстро (потому что от нее невозможно оторваться, пока не перевернешь последнюю страницу), меня совершенно перелопатила. Я просто не знал, что можно так писать, так чувствовать и так жить. И никто не знал.
Для тех, кто по какой-то нелепой причине до сих пор не читал эту книгу (или даже не слышал о ней, во что уж совсем нелегко поверить), скажу буквально одно предложение: «Белое на черном» - состоящее из коротких рассказов пронзительное описание жизни неходячего и еле двигающегося больного вдоль и поперек ребенка в советских детских домах для инвалидов, написанное именно таким бывшим ребенком, который выжил и стал взрослым. И вот тут нужно раз и навсегда понять одну важную штуку. Книга «Белое на черном» - это не тот текст, про который можно сказать «чернуха» (хотя он невероятно страшный – а как иначе?). Дело в том, что эта книга – она не про выживание, не про смерть, не про унижение и человеческую мерзость (хотя, конечно, и про это тоже), она – про ежесекундное преодоление, и про победу, это – простите мне возвышенный слог – про победу духа. И, если уж мы говорим не про газетную публицистику, а про литературу, «Белое на черном» - это очень хорошая, очень интересная книга, блестяще написанная, наполненная цитатами, аллюзиями, с увлекательным сюжетом и прочее, и прочее. Эту книгу интересно читать – и, что важно, перечитывать.

Я решил написать об этой книге не случайно. Дело в том, что я ее только что перечитал – и тоже не случайно, просто я познакомился с ее автором, Рубеном Гальего. Этот человек в навороченном инвалидном кресле провел встречу с читателями в нашем магазине, подписал свои книги (и нам, и всем желающим), и, после подробного, эмоционального, остроумного (мы хохотали!) рассказа заявил: «А теперь, пожалуйста, я готов ответить на любые ваши вопросы!» На любые! Он говорит, что каждый день, усаживаясь в это навороченное инвалидное кресло, испытывает боль. Я не могу поверить, что в этом больном вдоль и поперек теле, которое перенесло столько, что не может присниться даже в самом страшном сне, содержится столько силы и достоинства.
И еще этот взгляд…
Он говорит, что его спасла литература.
Я хочу, чтобы книгу Рубена Гальего «Белое на черном» и вторую его книгу, «Я сижу на берегу…», прочитал каждый. А потом перечитал. Многое становится понятным.
/ фото Васи Юрьева (Тель-Авив) /
A-7713
«Ночь», Эли Визель
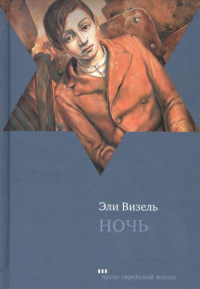
Рожденный в 1928 году, Эли Визель в мае 1944 года, вместе с семьей, был депортирован в Аушвиц, а зимой 1944-1945 его с отцом отправили в Бухенвальд, где отец Эли Визеля, Шлойме, умер за неделю до освобождения лагеря. Мать Эли Визеля и одна из его сестер погибли в Аушвице. А сам Эли Визель выжил, поступил в Сорбонну, где изучал филосифию, психологию и литературу, работал журналистом, а потом стал писателем, и написал, в частности, книгу «Ночь», в которой предельно честно рассказал о том, что произошло с ним в Аушвице и Бухенвальде. И, так вышло, что «Ночь» стала едва ли не самой продаваемой книгой о Холокосте в мире.
«Ночь» - это, безусловно, важный документ чудовищного времени, которое невозможно осознать, свидетельство Катастрофы, воспоминания о том, что невозможно вычеркнуть из памяти. Однако книга Визеля – не только об этом. Она, прежде всего, о потере Веры (Веры, к которой Визель все-таки вернулся, но уже потом, спустя годы). Это книга о том, как человек перестает быть человеком. По большому счету, «Ночь» – книга о том, что выхода нет (в отличие от других великих книг, написанных выжившими).
«Ночь» – потрясающая книга, которую должен прочитать каждый.
Эли Визель выжил, стал лауреатом Нобелевской премии мира, написал множество прекрасных книг. «Ночь» – первая часть автобиографической трилогии. Вторая и третья части называются «Рассвет» и «День».
A-7713 – номер, который был вытатуирован на руке Эли Визеля в Аушвице.
Случай?
Памяти Иона Дегена

Незадолго до праздника Победы, 28 апреля, умер Ион Деген – герой войны, врач, ученый, невероятный человек, о котором, уверен, будут написаны книги. Хотя он и сам написал – о своей жизни, о войне и о том, что ему пришлось перенести.
Самое его известное стихотворение знают все:
Мой товарищ в смертельной агонии,
не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки,
нам еще наступать предстоит.
Когда Деген написал эти строки, ему было 19 лет. А во еще стихи этого невероятного человека:
Из проклятой немецкой траншеи
слепящим огнем
Вдруг ракета рванулась.
И замерла, сжалась нейтралка.
Звезды разом погасли.
И стали виднее, чем днем,
Опаленные ветви дубов
и за нами ничейная балка.
Подлый страх продавил моим телом
гранитный бугор.
Как ракета, горела во мне
негасимая ярость.
Никогда еще так
не хотелось убить мне того,
Кто для темного дела повесил
такую вот яркость.
1942
Воздух - крутой кипяток.
В глазах огневые круги.
Воды последний глоток
Я отдал сегодня другу.
А друг все равно...
И сейчас
Меня сожаление мучит:
Глотком тем его не спас.
Себе бы оставить лучше.
Но если сожжет меня зной
И пуля меня окровавит,
Товарищ полуживой
Плечо мне свое подставит.
Я выплюнул горькую пыль,
Скребущую горло,
Без влаги,
Я выбросил в душный ковыль
Ненужную флягу.
1942
Воздух вздрогнул.
Выстрел.
Дым.
На старых деревьях
обрублены сучья.
А я еще жив.
А я невредим.
Случай?
1942
Дымом
Все небо
Закрыли гранаты.
А солнце
Блеснет
На мгновенье
В просвете
Так робко,
Как будто оно виновато
В том,
Что творится
На бедной планете.
1944
На фронте не сойдешь с ума едва ли,
Не научившись сразу забывать.
Мы из подбитых танков выгребали
Все, что в могилу можно закопать.
Комбриг уперся подбородком в китель.
Я прятал слезы. Хватит. Перестань.
А вечером учил меня водитель,
Как правильно танцуют падеспань.
1944
Вечная память.
Повод к разговору
«Высокое косноязычье», Моисей Цетлин

Здесь принято хвалить книги, но я не хочу хвалить – я хочу порекомендовать к прочтению, а потом обсудить. Потому что мне очень хочется, чтобы со мной кто-нибудь поговорил про поэта Моисея Цетлина. Я вот прочитал его книгу «Высокое косноязычье» (в названии – строка Гумилева), а потом прочитал еще много материалов о нем, и теперь не знаю, с кем бы обсудить, а надо. Потому что это какая-то такая удивительная фигура, более чем достойная обсуждения.
Вот что я прочитал про него (сведения все очень спорные, но – что есть). Он родился в 1905-м «в Елисаветграде», в детстве «видел свою бабушку с распоротым погромщиками животом» - погромщиками были григорьевцы. В 1939-м окончил исторический факультет МГУ, начал преподавать, но на него написал донос его же студент, Цетлин пошел на допрос, прихватив с собой узелок с вещами, – правда, обошлось. Есть неподтвержденный данные (его дочь отрицала), что он однажды читал несколько лекций лично для Сталина. Есть и другие неподтвержденные данные – будто бы Цетлин смог спасти из застенков НКВД нескольких невинно (а как еще?) арестованных переводчиков. Да – он был переводчиком-медиевистом, знатоком языков (в том числе и древних), переводил очень много и был оценен именно как переводчик. При этом он всю жизнь писал стихи – он вроде бы знал Мандельштама и Есенина, его первые стихи датированы серединой 1920-х, но его стихи практически не печатались всю его долгую жизнь (а умер он в 1995 году, причем работал и писал почти до конца жизни). Еще он вел картотеку известных женщин России (чуть ли не с древности до наших дней). В шестидесятые и, насколько я понимаю, до смерти он был убежденным сталинистом и, что называется, «почвенником», общался с русскими националистами еще того, девяностых годов, самого омерзительного разлива – и, при этом, был глубоко верующим человеком, и много переводил с древнееврейского и ощущал себя совершеннейшим евреем. «По прошествии лет 20-ти я спросил академика Вячеслава Всеволодовича Иванова о явлении сталиниста в лице русского фактически запрещенного поэта еврейской национальности. В.В. объяснил, что во времена Цетлина многие интеллигентные люди воспринимали Сталина, как реформатора, возвращавшего Россию к дореволюционным порядкам…» - это писал о нем кто-то в журнале, кажется, «Русский Гулливер». Ну, и так далее. Да, и вот еще что – он оказался очень интересным поэтом, хотя от некоторых его стихов в буквальном смысле хочется отмыться.
И теперь я хочу поговорить, но не знаю, с кем. Дальше – несколько его текстов, так сказать, показательных (и мне совершенно непонятно, как все они уживались в голове этого человека, и как вообще в его голове все это уживалось, и что был за ад в голове этого человека).
___________________
Кулаки (стихотворение 1937 года)
Кулаки и дети кулаков
Говорят о «ридной» Украине.
Злобою блеснет эмаль белков,
Но сейчас же в синеве застынет.
Обойти возможно ль им судьбу?!
Отравил их Север красотою.
Ослепил холодной высотою.
Вновь сюда, но вольными, придут.
***
Полиомиелит
С недетским
выраженьем глаз
ко мне прижалась
тельцем всем
тщедушным
больная девочка
с искривленными
ножками.
Зачем Господь
бесчеловечен так?!
Забыл,
что голод – их отец,
Белонна – мать,
и Город – колыбель?!
Забыл, что сам –
подобье человека?!
***
А.П.Потоцкой
Нет, русской водкой ей не затемнить
лик замордованного в Минске
Михоэлса. Он вечно перед ней.
Ей нынче – семьдесят. Смешалась кровь
дворянская и русская в ней с кровью
аристократки польской.
Пусть так, но Иудеи дочь
она – всецело.
«Вопль дщери Иудейской» -
это вопль ее.
Она сбирает беззаветно крохи
униженной раздавленной культуры,
как Руфь – колосья в поле,
или как
она б останки в Минске подбирала
великого артиста и супруга.
«Они восстанут, мертвецы Твои!» -
сказал пророк Исаия. Я верю:
вновь оживут Михоэлс и Шагал
в холодном воздухе страны моей, ненужно
жестокой, но любимой до конца.
***
Конец
Дом Ипатьева Здесь был его порог.
Наклонилась. Подняла устало
Штукатурки ссохшийся кусок.
Так. На память. За серцде забрало.
Что ж! и прах Бастилии в печали
Так же возносил когда-то бог.
***
Трудно жить без иконы и веры.
Бледен еле мерцающий свет.
После Сталина правят премьеры,
А Вождя и Отца что-то нет.
***
Термидорьянец! Паскуда!
Смазливый бабий угодник!
Кого, импотент, ты порочишь
блудливым своим языком?
Вождя, что создал эту землю,
воздвиг этот мир, этот дом,
Порочишь, щенок,
последней следуя моде!
Кого ты лягнуть вознамерился,
жалкая мразь,
И тявкаешь ты на него,
рифмоплет желторото-слюнявый?
Ведь он полубог, не чета вам,
погрязшим в бесславье
Пигмеям, рабам, подлипалам,
зарывшимся по уши в грязь!
Он древних традиций герой,
им ныне и присно пребудет!
Эсхил и Шекспир!
Резец флорентийца суровый!
Канкан каннибальский
у трупа ужель не разбудит
Презренье и гнев к вашей грязной,
объевшейся своре?
***
Оправдание зла
Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Гете, Фауст
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья.
Н. А. Некрасов
Есть высокое что-то
в оправдании зла —
Свет слепящий кивота,
чудодейная мгла.
И чуть видные в Тверди
берега божества, —
позывные ли смерти,
чувство ль с Небом родства?
От конца до начала
ваша правда бедна,
как цианистый калий,
как цикута до дна.
И когда я увижу,
демиург, твой чертог,
Я себя не унижу,
пав у благостных ног.
Я приникну к подножью, -
мне не очень везло, -
помоги мне. О боже,
всем проклятьям назло!
Помоги мне, мой черный,
мой затюканный бес,
чтобы путь мой стал торным
от земли до небес!
Это было чудо…
«Диалоги», Адам Михник, Алексей Навальный
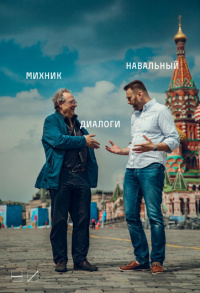
Я впервые услышал об этой книге на встрече с Адамом Михником в питерском Фонтанном доме. Мы попали туда случайно – пришли на выставку, но оказалось, что приехал Михник – как было не пойти. Адам Михник – известный польский диссидент, один из основателей «Солидарности», историк, публицист, главный редактор Gazeta Wyborcza и один из самых известных выходцев из Восточной Европы второй половины ХХ века – оказался обаятельнейшим человеком, остроумным, адекватным в суждениях, потрясающе интересным. И вот, в частности, он сказал, что в обозримом будущем выйдет книга его диалогов с Алексеем Навальным. И я рад, что у меня наконец-то дошли руки до этой небольшой, но крайне насыщенной книги.
Не буду здесь высказываться о политике – не время и не место. Скажу лишь, что, не являясь поклонником Навального, я прочитал эти диалоги с огромным интересом. Тут важен вопрос восприятия. Кто-то, наверняка, воспринял или воспримет эту книгу как пиар ход российского оппозиционера, в очередной раз разъясняющего свои взгляды на национализм, авторитаризм и коррупционные скандалы. Для меня же стало сюрпризом, что – хотя бы в первой половине книги – Навальный выступил как настоящий журналист: там, где он просит Михника рассказывать об истории «Солидарности» и о том, что происходило в Польше во время крушения там коммунистического режима, он ведет себя как очень профессиональный журналист – задает правильные вопросы и слушает ответы. Именно эта сторона книги «Диалоги» мне казалась наиболее интересной. Во-первых, повторюсь, Михник – блестящий рассказчик. А во-вторых, конечно, об истории «Солидарности» написано много, но всегда интереснее услышать рассказ из первых уст.
«Это было чудо. Летом 1980 года началось социальное брожение. Я тогда собирался в Татры с девушкой. Яцек Куронь позвонил и сказал: “Адам, это исторический момент!” Я ответил: “Яцек, ты мне уже двадцать лет это говоришь! Я хочу в горы с девушкой!” Но он оказался прав…» - да, бывает и так.
И еще маленькая цитата, опять про чудо: «Огромную роль сыграла католическая церковь. Она стала убежищем для оппозиции. Конечно, епископы были разными: одни открыто поддерживали оппозицию, другие держались крайне осторожно. Но церковь, как сила нации, всегда была против коммунистического насилия. Тем более римским папой был поляк, мы его знали еще по краковским временам. Иоанн Павел II не до конца понимал капиталистический Запад, но коммунистический Восток понимал прекрасно. И он призывал отказаться от насилия, ненависти, настраивал нас на диалог. С нами случилось тогда три чуда, которые создали определенный климат в обществе: избрание римским папой поляка в 1978-м, рождение “Солидарности” в 1980‑м и Нобелевская премия по литературе Чеслава Милоша в 1980-м…» Иногда все происходит очень быстро.
Приключения продолжаются!
«Таинственный город», Николай Заболоцкий

Основываясь на воспоминаниях сына Николая Заболоцкого (и не только на них), можно легко восстановить хронологию событий. Дело было так. В декабре 1927 года в записной книжке Даниил Хармс написал: «Олейников и Житков организовали ассоциацию “Писатели детской литературы”. Мы (Введенский, Заболоцкий и я) приглашаемся». И уже в 1928-м Заболоцкий стал писать небольшие детские рассказы, которые периодически выходили в журнале «Еж». Чуть позже Самуил Маршак посоветовал Заболоцкому пересказать для детей приключенческую повесть о путешествии в Тибет и еще одну небольшую книжку – сборник писем о работе русского врача в Африке. И только в конце февраля 1929-го у Заболоцкого вышла первая поэтическая книга «Столбцы» - общепризнанный дебют писателя. Однако книга «Письма из Африки», подписанная странным именем Беюл, вышла раньше – еще в 1928-м. Сейчас, когда «Письма из Африки» и та самая повесть про Тибет – «Таинственный город» - переизданы, можно с большим удовольствием поговорить о том, как замечательным рассказчиком был поэт Николай Заболоцкий.
Так вот, «Письма из Африки» и, особенно, «Таинственный город» - это настоящая приключенческая подростковая литература, которая лично у меня вызвала в памяти сери книг о Томеке, которыми я зачитывался лет тридцать назад (и которые, кстати, вновь переизданы – правда, кажется, слишком маленькими тиражами). Я почти наверняка знаю, что все (ну, почти все) люди моего поколения мечтали хотя бы ненадолго попасть в реальность, напоминающую то, что было описано на страницах этих книг. (Про тех, кто родился раньше, и говорить не приходится – там все ясно; потрясающий поэт и замечательный, непрочитанный писатель начала ХХ века Константин Большаков в книге «Маршал сто пятого дня» пишет: «Проходит несколько лет. Прочитаны Майн Рид, Эмар и Жюль Верн. Надоело в мечтах бродить по прериям. Смешно считать себя бледнолицым братом краснокожих, когда дома заставляют есть котлеты, а на ночь чистить зубы и мыть ноги. Бежать в Америку бессмысленно, да и Америки уже нет. Бизоны сохранились только в Иелостонском парке. Иелостонский парк вроде нашего Зоологического сада. Во всем этом на всю жизнь убедили иллюстрированные открытки и картинки в журналах, а Фенимор Купер, оказывается, писал сто лет назад…») Думаю, именно поэтому книги о приключениях Томека в буквальном смысле перевернули нашу вселенную. «Таинственный город» Заболоцкого – это как раз оно. Это приключения, от которых не оторваться. Это исторические, географические и прочие подробности, которые хочется запомнить, потому что поданы они не языком школьной программы, а так, как будто они тебе необходимы – без знания их ты попросту не сможешь справиться с многочисленными опасностями, которые подстерегают тебя на каждом шагу. Это чтение, в которое ты проваливаешься с головой – как в детстве – и выныриваешь уже потом, закрывая книгу и думая: ах, зачем же она такая короткая!
«Наш сотрудник, доктор Беюл, живет сейчас в Центральной Африке. Там он лечит негров от сонной болезни. Он прислал нам очень много писем. Из этих писем мы сделали интересную книжку… Недавно эта книжка вышла из печати. Стоит она 35 копеек» - так звучала реклама книги в десятом номере детского журнала «Еж». О возникновении псевдонима Беюл и вообще о появлении этих писем в дико итересном предисловии к книге, о которой идет речь, есть отдельная детективная история. Как и о том, откуда в библиотеке Заболоцкого появилась книга, ставшая впоследствии «Таинственным городом» (к слову, тоже подписанным псевдонимом – Яков Миллер). Это я пишу специально для взрослых, которые, возможно, подсунут книгу детям, а сами решат ее не читать – не совершайте такую ошибку!
Конечно, писать на обложке этой книги имя Николая Заболоцкого (как автора) немного нечестно. Он лишь пересказал для умных подростков то, что было написано не им. Но какое же счастье, что именно его имя поместили на обложку издатели – иначе эту книгу легко можно было бы не заметить.
Жажда жизни
«От Черты до черты», Давид Маркиш
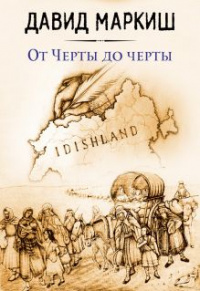
«Отец был еврейским поэтом, не писал по-русски и всегда из поездок привозил мне книги. Однажды, мне тогда было лет восемь, когда он вернулся из очередной поездки, я спросил: “Что ты привез мне в подарок?” Он сказал: “Я тебе привез кое-что для головы”. “Шапку?” — спросил я. Он рассмеялся. А потом, через несколько минут, вошел ко мне в комнату, принес книгу, открыл и прочитал:
Хоть и не шапка с
виду,
Подарок сей, увы, —
Он все ж тебе, Давиду,
Давиду не в обиду,
Пригож для головы.
Когда я стал взрослым, я понял, что это – стихи, написанные человеком, который абсолютно владеет языком. При том, что он не писал по-русски…» – так писатель Давид Маркиш рассказывает про своего отца, великого еврейского поэта Переца Маркиша. Формально новая книга Давида – «От Черты до черты» - рассказывает историю Еврейского антифашистского комитета, одним из основателей которого был Перец Маркиш. Но, на самом деле, книга значительно масштабнее – возможно, даже масштабнее своего замысла.
«Я должен был вынуть то, что находилось внутри меня, и распределить по столу, по листу бумаги… – рассказывал мне Давид Маркиш. – Я вдруг ощутил — а я, понятное дело, ни в какую мистику не верю, — необходимость записать то, что знал. Почему? Потому что все вокруг меня уже умерли – я имею виду, очевидцев… Я стал размышлять о том, как написать такую книгу. Надо было определить жанр, границы рассказываемого и, самое главное, – поскольку, если ты не являешься свидетелем, факты всегда подогнаны и подструганы, – я думал о том, что нужно сделать попытку логически осмыслить то, что произошло…» Маркиш начинает издалека – 23 декабря 1791 года, когда Екатерина Великая подписала Указ об учреждении «Черты постоянной еврейской оседлости» - это и есть та самая «Черта» с большой буквы, первая в названии книги. А вторая «черта» - это 12 августа 1952 года, когда тринадцать членов ЕАК, в том числе и Перц Маркиш, были расстреляны. От «Черты» до «черты» Давид Маркиш ведет повествование медленно, очень подробно, привлекая огромное количество документов, мало или совсем неизвестных широкой публике деталей и, что важно, живых свидетельств, в том числе и своих. Порой он повторяется, но и эти повторения, и обилие на первый взгляд незначительных (а на самом деле – более чем значительных) подробностей, призваны объяснить, по сути, прописные истины – те истины, которые, к сожалению, исторически не в чести в России – например, про ценность человеческой жизни.
«От Черты до черты» – очень важная историческая книга о взаимоотношениях Российского (Советского) государства с евреями. Важная прежде всего личным взглядом – взглядом, без которого сложно представить книгу про эти события, написанную человеком, носящим фамилию Маркиш. При этом книга Маркиша все равно не о ненависти. Она о любви – к своему отцу, к своему народу, о любви к жизни. «Жажда жизни» – такое название тоже бы подошло. Но все же книга называется «От Черты до черты» - Маркиш четко очерчивает границы своего повествования. И от первой до последней страницы следует выбранному маршруту, каким бы страшным и, порой, безысходным не казался этот маршрут.
Нет Рая на земле?
«Манарага», Владимир Сорокин
 «Эпоха
Гуттенберга завершилась полной победой электричества», большая часть бумажных
книг уничтожена, и лишь первые экземпляры, вместе с библиографическими
редкостями, хранятся в музеях и библиотеках, откуда их крадут специально
обученные люди, чтобы доставить «поленья» на нелегальные, крайне дорогие и от
того элитарные «чтения» - на них… готовят еду. «Первый стейк был зажарен в
Лондоне на пламени первого издания “Поминок по Финнегану”, выкраденного из
Британского музея. Так родился book’n’grill», повара объединены в секретную
организацию Кухня, специализируются на разной литературе – есть русские, евреи,
французы и так далее, - и разъезжают по миру, чтобы готовить изысканные блюда,
переворачивая горящие страницы с помощью созданных для этого экскалибуров. Геза
Яснодворский, один из поваров Кухни, - главный герой новой книги Владимира
Сорокина «Манарага», которая, как обычно у этого автора, умнее чем кажется.
«Эпоха
Гуттенберга завершилась полной победой электричества», большая часть бумажных
книг уничтожена, и лишь первые экземпляры, вместе с библиографическими
редкостями, хранятся в музеях и библиотеках, откуда их крадут специально
обученные люди, чтобы доставить «поленья» на нелегальные, крайне дорогие и от
того элитарные «чтения» - на них… готовят еду. «Первый стейк был зажарен в
Лондоне на пламени первого издания “Поминок по Финнегану”, выкраденного из
Британского музея. Так родился book’n’grill», повара объединены в секретную
организацию Кухня, специализируются на разной литературе – есть русские, евреи,
французы и так далее, - и разъезжают по миру, чтобы готовить изысканные блюда,
переворачивая горящие страницы с помощью созданных для этого экскалибуров. Геза
Яснодворский, один из поваров Кухни, - главный герой новой книги Владимира
Сорокина «Манарага», которая, как обычно у этого автора, умнее чем кажется.
Здесь есть все, за что мы так любим Сорокина: придуманное им Новое Средневековье, в которое превратился мир недалекого будущего после сокрушительных войн и катастроф, издевательства над живыми и мертвыми (в данном случае – писателями), как всегда виртуозные игры с языком (скажем, «патриотическая» критика уже обиделась на цитату из книги «Я пришел с Родины» бритоголового автора с проспиртованным взглядом – с нетерпением жду, когда воспрянут от сна поклонники Льва нашего Толстого) и прочее. А еще в «Манараге» есть изощренный приключенческий сюжет-триллер, который к финалу превращается в кровавый боевик.
Легче всего представить новую книгу Сорокина как парад легко читаемых метафор – от «рукописи не горят» до «глотать книги» и прочее, и прочее. И они, естественно, в этой книге есть, и в финале (это не спойлер), когда торжество индивидуальности превращается в жизнь как супермаркет, в мир победившей массовой культуры aka суррогат, читатель удовлетворенно закрывает книгу – да, такой финал вполне можно было предсказать (как, впрочем, и любой другой – как в жизни). Да, наверное, легче всего прочитать эту книгу именно как метафору победы массовой культуры над всем остальным. Сложнее не воспринять Манарагу (уже без кавычек) метафорой Рая, пусть и на земле.
Гора Манарага, кстати, действительно существует.
Полная свобода от рамок библейского предания
«Самсон Назорей», Владимир Жаботинский

Имя Владимира Жаботинского, автора великой книги «Пятеро», в основном ассоциируется с сионистским движением — (как пишет «википедия») лидер правого сионизма, основатель и идеолог движения сионистов-ревизионистов (о своей боевой юности он написал крайне увлекательную историческую книгу «Повесть моих дней»), создатель Еврейского легиона (об этом он не менее увлекательно и познавательно написал в книге «Слово о полку») и так далее. Он был одним из первых, кто выступил в прессе об антисемитских настроениях русской литературы. Он был знаком, дружил или спорил почти со всеми теми людьми, именами которых названы улицы всех без исключения городов Израиля. За всем этим порой забывается, что Жаботинский, вообще-то, был невероятным писателем и, если бы не увлечение политикой, - как знать, возможно, он бы стал настоящим классиком российской литературы. Во всяком случае, все предпосылки для этого были.
Книгу «Самсон Назорей» Жаботинский написал в 1926 году, за десять лет до своей самой известной книги — автобиографического романа «Пятеро». Первый большой роман Жаботинского — это вольное, очень вольное переложение биографии ветхозаветного героя Самсона, который прославился длинными волосами, расправами над львом и филистимлянами, судейской практикой и тем, что Ангел предсказал, что именно с него начнется спасение Израиля [от руки филистимлян]. Правда, само ветхозаветное сказание по книги Жаботинского лучше все-таки не изучать – автор в предисловии честно предупреждает: «Гюго написал и, может быть, имел право написать в примечании к “Рюи Блазу”: “Само собою понятно, в этой пьесе нет ни одной детали — касается ли она жизни частной или публичной, обстановки, геральдии, этикета, биографии, топографии, цифр, — ни одной детали, которая не соответствовала бы точной исторической правде. Когда, например, граф Кампореаль говорит: „Содержание двора королевы стоит 664066 дукатов в год“, — можете справиться в такой-то книге (следует заглавие) и найдете именно эту цифру”. Я, со своей стороны, о предлагаемом рассказе из времен Судей ничего подобного не утверждаю. Повесть эта сложилась на полной свободе и от рамок библейского предания, и от данных или догадок археологии…»
Легче всего воспринимать «Самсона Назорея» как политическое высказывание об исторической подоплеке зарождения государства Израиль. Исследователи совершенно справедливо замечают, что в «Самсоне Назорее», написанном во времена британского мандата, филистимляне соответствуют англичанам, ханаанеи — арабам, евреи (что естественно) — евреям. И, таким образом, все повествование книги — метафорическое, уходящее корнями в глубь веков, но все же осмысление ситуации в Палестине в начале ХХ века, положения евреев на ней и так далее. И с такой позиции читать «Самсона Назорея» крайне интересно. Но мне все-таки кажется, что за историческими параллелями и политическими манифестами ни в коем случае нельзя забывать о том, что Жаботинский все-таки большой писатель. Так что его роман — это прежде всего (да простят меня сионисты-ревизионисты и все другие сионисты) литература, написанная красивым, сочным, насыщенным русским языком, это роскошная приключенческая книга о любви и битвах, ревности и предательстве, дружбе и самопожертвовании, книга, наполненная тонкими замечаниями о человеческой психологии и огромным количеством того, что в буквальном смысле хочется заучивать наизусть:
«Слово есть не то, что сказал говорящий: слово есть то, что услыхали слушатели. Брошу я камень в небо: упадет на землю — я пошутил; упадет человеку на голову — я убийца. Обмолвка наедине — обмолвка; обмолвка на людях — приговор…»
Слишком долго я немею в стиснувшем меня трамвае…
Written in the Dark. Five Poets in the Siege of Leningrad

Геннадий Гор (1907-1981) - писатель близкий к обэриутам, - во время блокады писал стихи, о которых знали только самые близкие. Дмитрий Максимов (1904-1987) – литературовед, поэт, тоже близкий к обэриутам, - в блокаду тоже писал стихи, не похожие на все то, что он писал до и после. Сергей Рудаков (1909-1944) погиб в бою и похоронен в деревне Устье Могилевской области, известен тем, что в Воронеже был близок с семьей Мандельштамов; он провел несколько месяцев в блокадном Ленинграде, где писал стихи. Владимир Стерлигов (1904/1905-1973) – живописец, ученик Казимира Малевича, и снова близкий к ОБЭРИУ человек, в блокадном Ленинграде написал несколько поэтических текстов, в том числе на смерть Даниила Хармса. Павел Зальцман (1912-1985) – ученик Павла Филонова, художник, писатель – провел вЛенинграде первую и самую страшную блокадную зиму, о чем написал несколько стихотворений. Блокадную поэзию этих удивительных, необыкновенно талантливых, уникальных людей собрала под одной обложкой поэтесса и исследователь блокады Полина Барскова. По большому счету, этой информации вполне достаточно для того, чтобы найти небольшую книгу Written in the Dark (она двуязычная – на русском и английском языках, издана в США, и ее все равно можно и нужной найти). Это – в прямом смысле потрясающее чтение.
А теперь – тексты.
__________________________________
Геннадий Гор
Какая
тревога на сердце простом.
Умерли гуси в ветре густом.
Остались без веток пустые кусты.
Висели без рек беcстыдно мосты.
Вдруг море погасло.
И я
Остался без мира,
Как масло.
***
Дмитрий Максимов
Свет на чердаке
Безумный глаз в заржавленном железе.
Бытийствует чердак – кричи иль не кричи.
Там Существо полуночное грезит –
И тянутся ко мне его лучи.
И там в Судилище молчат над черным протоколом,
Пока в дырявом пиджаке палач
Обходит дом. Пока под полом
Он с крысами не понесется вскачь.
Не узнавай, кто прячется за рамой,
И Божье воинство напрасно не зови.
Задвинь засов. Прикройся пентаграммой
И страшного врага останови.
***
Сергей Рудаков
На улицах такая стынь.
Куда ни глянь – провозят санки.
На них печальные останки,
Зашиты в белизну простынь.
Скользит замерших мумий ряд.
Все повторимо в этом мире:
Песков египетский обряд
Воскреснул в Северной Пальмире.
***
Владимир Стерлигов
[На
смерть Д.И. Хармса]
Даниил Иванович! Вы брали дудочку
Тростинку желтую с квадратами ладов
Берестяной рожок, сапелочку
И лады перебирая пальцами
И просыпалось утро русское
В лаптях росы холщевый пастушок
Блеснув прохладным жемчугом
По синим храмам ельника
На елках блещет молодость
И солнышко разутой стопой
Уже шагнуло в пыль дорожную
Чтоб к полудню ее нагреть
Росы от капель высушить
Смахнув прохладу полночи
Идет корова громкая
За ней бегут овечки
Колокольцем пощелкивая
Подходит стадо к речке.
***
Павел Зальцман
Нет, я ничего не понимаю
В своем голодном вое,
Слишком долго я немею
В стиснувшем меня трамвае.
Дома я бы каждою минутой
Оживлял твою сырую глину,
Но ты меня томишь другой работой –
Вот я терплю, терплю и плюну.
Торжество незначительности
«Лихово», Дойвбер Левин

Про Дойвбера Левина я уже писал – когда вышла его книга «Десять вагонов». Повторюсь в двух словах: Левин – забытый обэриут (близкий друг Хармса, он участвовал в первой постановке «Елизаветы Бам», единственный из обэриутов не писал стихов, ни один его обэриутовский текст не был опубликован и не сохранился – все они погибли в блокаду, а сам Левин погиб в 1941-м, едва ли ни в первом бою), популярный писатель – его довольно активно печатали в те самые тридцатые. Его «Десять вагонов», чей первый абзац поразительно похож на первый абзац вышедшего позже романа Булгакова «Мастер и Маргарита», были пропагандистским пересказом историй, рассказанных детьми из еврейского детского дома, двум странным людям, попавшим туда случайно во время дождя – cамому Левину и его долговязому другу, в котором угадывается Хармс. Книга «Десять вагонов», так получилось, оказалась первой – именно с нее началось наше знакомство с Левиным, которого не переиздавали с тридцатых. Знакомство это было интересным – «Деcять вагонов» показались совершеннейшим продуктом своего времени, когда, по меткому замечанию критика Игоря Гулина, чувствуется растерянность автора, который не знает, что писать, чего от него ждут, чего хочет цензура и чего, наконец, хочет он сам. Не выдающаяся, но заметная и более чем интересная книга оказалась прелюдией – только что вышедший роман «Лихово» (главная книга Левина) открывает нам по-настоящему большого писателя, который не успел написать того, что должен был.
Итак, перед нами – городок Лихово, окруженный гниющими болотами и населенный нищими уродцами, один другого краше, пьяницами и сварливым женами; городок, в котором на «бугре» подставляют солнцу лица настоящие уроды – калеки и душевнобольные, а под «бугром» дерутся насмерть и пропивают последнее такие же, но еще не до конца потерявшие человеческий облик. В этот городок однажды приходит хромой Гирш – много лет назад, подростком, он ушел из Лихово, чтобы теперь вернуться и отомстить.
По большому счету, это – весь сюжет «Лихово». Удивительным образом в этом густонаселенном, многословном и красочном романе ничего не происходит. Вернее, не так – в нем что-то происходит в буквальном смысле каждое мгновение, но все эти мелкие и незначительные события настолько мелки и незначительны, что не имеют никакого влияния на немудреный сюжет. Но именно они и есть – главная ценность этой удивительной книги. В предисловии этот роман сравнивается с картинами Филонова. Мне же кажется, что роман больше похож на картины Босха (с которым, кстати, Филонова сравнивали) – в картинах Босха точно также нет яркого сюжета, они также густо населены странными копошащимися существами, которых необходимо рассматривать, рассматривать до бесконечности, силясь понять смысл их движения в пустоту – в босховский ад или, как у Левина, по кругу, среди гниющих болот. Левин – что твой Босх – удивительно четко прорисовывает каждого, даже самого незначительного персонажа своего повествования, выписывает его жизнь, его характер, оживляет его, наделяет его яркими, запоминающимися чертами. Это необходимо – все они в результате сыграют свою роль, никто не будет брошен, никто не будет забыт – ни те, кто доживут до финала, ни те, кто бесславно погибнут, но даже и после финала «муравейник», выстроенный Левиным, будет продолжать копошиться, выживать и жить в ожидании солнца. И каждое произнесенное слово будет произнесено не зря.
Удивительным образом «Лихово» вызывает в памяти «Подвиг» Набокова, хотя, конечно, сложно представить двух более далеких друг от друга писателей. Но – главный герой «Подвига», на протяжении всей книги готовящий себя к подвигу, бесславно исчезает при переходе границы, так и Гирш, вернувшись в родное местечко для мести, пропадает почем зря. При этом «Лихово», по большому счету, непохоже ни на одну – по крайней мере, известную мне – книгу. Исследуя, как и большинство ранних советских литераторов, возможности языка, Левин сочиняет собственный мир, в котором при желании можно увидеть все, что угодно, от жизни местечка до метафоры целой страны.
Левин погиб в 1941 году, ему было тридцать семь, и почти все его друзья к этому времени уже были убиты чудовищной страной. Левин возвращается позже остальных, и будет очень обидно, если этот невероятный писатель останется в тени своих более именитых соратников. Во всяком случае, «Лихово» Дойвбера Левина - книга, достойная встать в один ряд с другими шедеврами, недавно открытыми: со «Щенками» Павла Зальцмана, «Турдейской Манон Леско» Всеволода Петрова и с другими книгами, которые еще ждут своих «первооткрывателей». Семьдесят лет назад мы потеряли великую литературу – кажется, настало время для ее возвращения.
День моей жизни
«Воскресные облака», Виктор Кривулин
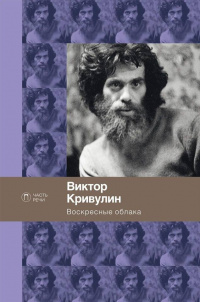
Это был 1994 год. Мне было двадцать, я был влюблен в то, что – как я позже узнал – называлось «другой (второй, неофициальной) культурой», я скупал какие-то малотиражные книжки, почти учил наизусть все, что в них было написано, грустил из-за того, что рок-н-рольное время ушло безвозвратно, когда я еще был маленьким. И 9 июля – в Питере было жарко – я пошел в Дом актера (СТД) на Невском проспекте, потому что, как мне сказали, там, в местном ресторане, празднует день рождения Виктор Кривулин. На тот момент я его еще никогда не видел. Но уже обожал его стихи и знал, что Кривулин – одна из главных фигур неофициальной ленинградской поэзии и вообще жизни, что без него эту самую жизнь в буквальном смысле невозможно представить. И я был уверен, что день рождения такого большого поэта и человека нельзя пропустить.
В ресторане Дома актера было не протолкнуться. У накрытых столов толпилась разношерстая публика – старые лохматые хиппи соседствовали с какими-то олухами в костюмах, седовласые женщины диссидентского вида курили «Беломор», все поминутно пожимали друг другу руки, на столах в ряд выстроились бутылки «Зубровки» – почему-то именно их я запомнил особенно отчетливо. И ни одного знакомого – я был явно чужим на этом празднике жизни, где все знали друг друга как минимум с середины шестидесятых. Какой-то мужчина взял надо мной шефство – усадим меня между собой и другим таким же седовласым мужчиной, он налил мне «Зубровки» и начал рассказывать, кто есть кто. И вот теперь – о, ужас! – я должен признаться: я не помню ни одной названной фамилии. Уже больше двадцати лет я стараюсь восстановить в памяти эти фамилии, чтобы понять, рядом с кем мне выпало счастье сидеть за тем столом и кого слушать, потому что многие там не просто чествовали юбиляра, но и читали свои тексты, - пытаюсь и не могу. То ли «Зубровка» повлияла на мой неокрепший к тому моменту организм, то ли волнение, но память у меня буквально отшибло. Кажется, там был Уфлянд.
Через какое-то время, когда разговоры за столами стали громче и эмоциональнее, я решил, что пора уходить. С только что приобретенной книжкой в руках (это был только что вышедший крошечный сборник Кривулина «Предграничье») я направился к юбиляру. Он написал мне на обложке несколько приятных слов, мы пожали друг другу руки, и я ушел.
Долгое время это была единственная книга Виктора Кривулина в моей библиотеке. Потом к ней добавились другие сборники. И все это время я мечтал о том, что когда-нибудь появится большая книга его стихов.
Все это я пишу, имея в голове две цели. Первая – вдруг это прочитает кто-то, кто тоже был на том дне рождения в Доме актера на Невском проспекте и у кого память в тот день работала лучше, чем у меня. И вторая (и главная) – только что вышла книга «Воскресные облака». На сегодняшний день это – самый полный свод стихов Кривулина конца 1960-х – середины 1980-х, да и вообще – самый большой свод его стихов. Кривулин – невероятный поэт, гигантская личность и в масштабе Питера, подарившего русской литературе не один десяток по-настоящему великих имен, и, уверен, в масштабе всей страны. Будет очень обидно, если выход этой книги останется незамеченным.
А вот – один текст Виктора Кривулина. Не из этой книги, а просто любимый.
***
другие
жизни и другие смерти
моя средь них младенец
еще играющий в предсердьи
как человек из полотенец
неловко сшитый
без глаз - но кукла
и ничего-то не прожито
а так, припухло
игла споткнется и уколом
ее разбужен
себя ли я увижу голым
и распеленутым - и вчуже
или с тобою
лежим переплетая руки
ну точно дети
с родителями не в разлуке -
в том, синем свете
Тоническое трезвучие
«Шум времени», Джулиан Барнс
Недоверие к этой книге – то есть к такой книге британского, пусть даже лучшего из лучших, автора – вполне оправдано: ну что он знает про наши реалии? что он в них понимает? куда он, в конце концов, лезет? Чтобы раз и навсегда закончить с этой темой, сразу скажу – британский писатель Джулиан Барнс, а речь идет именно о нем, ориентируется в «наших реалиях» так, как, пожалуй, не ориентируются многие писатели, рожденные в России и, вроде бы, впитавшие эти самые реалии с молоком матери. Оказывается, дело не только в молоке.
Новая книга Барнса, которая, как писали, «гремит в Великобритании», называется «Шум времени» и повествует о композиторе Дмитрии Шостаковиче. О названии этой книги написано уже очень много, но, наверное, стоит повториться. Во-первых, «Шум времени» - книга Осипа Мандельштама. Во-вторых, слово «шум» в некоторых обстоятельствах может быть синонимом слову «сумбур», а именно определение «сумбур вместо музыки» однажды сломало жизнь композитору Шостаковичу. И, наконец, «шум времени» – это шум того самого времени («Лил жуткий дождь, / Шел страшный снег, / Вовсю дурил двадцатый век…» – пел сильно позже Александр Галич), в котором жили Шостакович и Мандельштам и в котором сломленный, уничтоженный, униженный композитор все равно слышал музыку – «тоническое трезвучие».
«Шум времени» Барнса – книга о Шостаковиче. Но это – не биография композитора, не «жизнь замечательных людей», не штрихи к портрету, так что е стоит ждать от нее именно что биографических подробностей, за ними – в многочисленные (другие) книги, в воспоминания очевидцев и в «Википедию». «Шум времени» Барнса – удивительная (и еще более удивительная, потому что крайне удачная) попытка… залезть в голову к человеку, далекому от автора настолько, насколько это возможно. Британскому интеллектуалу Барнсу, как уже неоднократно писали (вообще, об этой книге написано столько, что сложно сказать что-то новое), непостижимым образом удалось влезть в голову, в подсознание, в само существование советского интеллигента, и именно с этих позиций написать свою книгу. Не удивляет, как точно Барнс ориентируется в советских реалиях 1930-1950-х – в конце концов, литературы на эту тему предостаточно, каждый желающий может изучить. Удивляет, как точно Барнс ориентируется в… поступках, реакциях, в психологическом состоянии человека, живущего в постоянном страхе. «Шум времени» Барнса – книга о страхе и о чудовищном времени, пропитанном этим страхом. Это книга о человеке, которого унизили и почти убили, но оставили жить и даже вознесли до небес, заставляя ставить подписи под чужими письмами и статьями, и заседать, и голосовать, давая и одновременно не давая возможности работать (и оставляя лишь способность слышать музыку в шуме людоедского времени). Это книга о компромиссе, ставшем жизненным принципом (или, по выражению Анны Наринской, состоянием души). Очень страшная, очень точная, очень важная книга.
«Когда у них со Стравинским зашел разговор о дирижировании, он признался:
– Не знаю, как побороть страх.
В то время он считал, что речь идет исключительно о дирижировании. Теперь уверенности поубавилось.
Быть убитым он больше не боялся, что правда, то правда, и это сулило большие преимущества. Ему определенно позволят жить и получать самое лучшее медицинское обслуживание. Но в некотором смысле от этого только хуже. Потому что всегда есть вероятность опустить жизнь до самой низкой отметки. О мертвых такого не скажешь…»
Потом дверь захлопнулась
«Наша Вена», Тина Вальфер, Штефан Темпль

«Ввиду продолжительной супружеской неверности и принимая во внимание расовые различия, нельзя поставить в упрек заявительнице, что она отказалась уехать со своим супругом», - это выписка из решения суда по делу Пауля и Маргарете Штефан. Они были женаты 32 года, их брак был заключен по любви, но, по заверению Маргарете Штефан, спустя 20 лет ее муж разрушил этот брак своими романами на стороне, и, кроме того, «10 марта 1938 года он будто бы – поскольку он, как еврей, происходящий от двух еврейских бабушек и двух еврейских дедов, не мог больше оставаться в Австрии – уехал в Швейцарию, не попросив ее поехать с ним или приехать к нему позднее». И дальше: «И она более не желает восстанавливать супружеские отношения со своим мужем, поскольку их брак – в частности, после перелома – стал неустойчивым вследствие расовых различий. И она хочет потому развода по вине ответчика…» Стоял октябрь 1938-го, аншлюс произошел более полугода назад, Паулю Штефану было шестьдесят четыре. А через два года служба оборота имущества разрешила продажу принадлежащей Паулю Штефану половины доходного дома его бывшей жене.
Эта маленькая частная история завершилась не слишком трагично, большинство историй того времени заканчивались иначе – в Бухенвальде, Дахау или в других лагерях. Был и еще один финал – самоубийство. Некто Эгон Фридель, например, попросил пришедших за ним нацистов подождать минуточку, пошел в свой кабинет, крикнул из окна похожим: «Поберегитесь!» - и выбросился из окна. «Было так много самоубийств, что Геринг высказался по этому поводу в том духе, что у него не хватит полицейских, чтобы приставлять их к каждому еврею, который хочет покончить с собой». Ну, и так далее.
Книг про Холокост очень много – от выжимающей слезы художественной литературы до серьезных исследований, от сохранившихся дневников жертв до протоколов допросов палачей, от «Мальчика в полосатой пижаме» до «Черной книги». «Моя Вена» очень отличается от них. Как справедливо написано в аннотации, это – памятник еврейской Вене, которая была уничтожена/расхищена за несколько месяцев после аншлюса. Эта книга – сухое и (почти) лишенное эмоций изложение методов – социально-политических, социокультурных, юридических, – с помощью которых арийские жители Вены, при поддержке новых властей, отбирали то, что принадлежало неарийской части населения австрийской столицы – от квартир, денег и произведений искусства до жизней. Важно понимать – все это делалось с педантичным соблюдением (нового) закона – собирались доказательные базы, проходили суды, оформлялись документы; жизнь шла своим чередом. «Чудовищность происходящего никогда не становилась предметом рефлексии, поскольку виновные будто бы лишь выполняли «предписания нацистов». Власть буквы закона была сильнее, чем власть морального чувства; да и сами законы были, в конечном счете, созданы для того, чтобы легализовать грабеж».
«Правовые средства против данной конфискации неприменимы».
Анализируя причины происходящего, в самом начале книги автор пишет: «…венцы захотели радикального выхода: народный вождь с его непререкаемым авторитетом был призван освободить население от страха перед жизнью, от постоянного ощущения неуверенности и задавленности. Ради этого жители Вены были готовы отдать абсолютную власть в одни-единственные руки. Такой фюрер был призван помочь им получить все то, что они считали своим по праву…» Очень актуальная книга, если задуматься.
«Короткая перепалка; шаги; стук и грохот; потом дверь захлопнулась».
Единственный свидетель
«Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс», Владимир Глоцер

Андрей, сын Владимира Глоцера, рассказывал, как его отец работал над этой книгой. Работы было много – за две недели, что Владимир Глоцер провел в Венесуэле, в доме Марины Владимировны Дурново, он записал множество кассет, и на них остался голос этой удивительной женщины – голос, который рассказывал целую жизнь. «Передо мной предстала изящная маленькая женщина, с голубыми глазами, очень живая, подвижная, пробегающая по своей просторной квартире как девочка, чуть ли не вприскочку, - вспоминал он в предисловии. - Благородные черты ее красивого лица и прекрасные манеры выдавали аристократическое происхождение…»
Марина Владимировна переходила с русского на испанский, или на английский, или на французский, потому что за десятилетия, проведенные вдали от России, она стала забывать русский. Иногда ее память уносила ее далеко от темы разговора. Порой она просто чего-то не могла вспомнить, и тогда Глоцеру приходилось рассказывать ей то, что происходило во времена ее молодости – чтобы она вспомнила подробности, которые знала только она.
«Ложились мы поздно ночью и вставали тоже поздно. Даня мог спать до двенадцати. А иногда вставали в два или даже в три часа дня.
Когда нечего было есть и некуда было идти, так он и спал, как и я.
Шура Введенский... Я его очень любила. Он был симпатичен мне. И всегда присутствовал в нашей жизни. “Шурка сказал...”, или “Шурка приехал...”, или “Шурка зайдет...”
Даня и Шура всегда были вместе, тесно связаны друг с другом.
Я думаю, что Шурка был для Дани самый близкий человек. Причем Даня, по-моему, верховодил в их отношениях, был как-то над ним. Они постоянно советовались, сделать так или этак, так ли поступить и прочее…»
И вот так получилась эта книга – «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс». Воспоминания – странная штука, доверять им нельзя. Ведь Марина Владимировна рассказывала о том, что было шестьдесят, даже семьдесят лет назад. Но других – таких – воспоминаний о Хармсе не существует. И не может существовать.
«Я слушал Марину Владимировну Дурново час за часом и понимал, что она, по существу, последняя свидетельница жизни Даниила Хармса».
Листки военного времени
Про военкора Савелия Леонова

Будущий классик советской литературы Савелий Леонов родился в начале 1904 года в деревне, в семье бедного крестьянина, и никто даже не мог предположить, что его книги будут издавать огромными тиражами. «Отец его, бедный крестьянин, имел всего лишь полторы десятины земли и не мог прокормить свою большую семью, - писал Леонов сам о себе. – Он часто уходил плотничать на стороне. И дети, подрастая, вынуждены были наниматься в батраки. Будущему писателю пришлось с семилетнего возраста зарабатывать на хлеб. Он работал у кулаков, подпаском деревенского стада, на помещичьем поле, на заводе фруктовых вод, в аптеке, в пекарне. Большое влияние оказал на формирование взглядов писателя его старший брат Петр, посвятивший себя революции. Тринадцатилетним мальчиком С. Леонов уходит добровольцем на фронт гражданской войны и в качестве пулеметчика бьется против белых банд Мамонтова и Деникина…» Однажды, со слов Леонова рассказывала мне его дочь, его часть окружили и взяли в плен. Всех расстреляли, пожалев только мальчишку. Взаперти его не держали, а бежать было особо некуда, и он слонялся между солдат и офицеров. Однажды Савва познакомился с каким-то солдатом, который умел предсказывать будущее – при мальчике он нехотя предсказал скорую смерть другому солдату, здоровенному детине, и тот был убит в следующем же бою. Леонову он рассказал всю его будущую жизнь, включая увлечение литературой. Просто должно было пройти время.
Так и получилось. Он жил и учился на Урале, приехал в Ленинград, стал посещать литературную группу «Резец», писал стихи, много печатался в журналах и вообще принимал активное участие в литературной жизни Ленинграда 1920-1930-х. А во время Великой отечественной войны был военным корреспондентом. Книгу, о которой идет речь, составляют его тексты-репортажи, написанные для боевых листков частей, к которым он был приписан. На каждом листке обозначалось: «Не выносить за пределы части». И, так получилось, что эти тексты будущего классика советской литературы читали только солдаты – больше их, по сути, никто не видел. Не знаю, стоит ли говорить о литературных достоинствах этих текстов (хотя они, безусловно, есть), главное здесь не это. Военные тексты Леонова – это еще один неизвестный документ, неизвестное свидетельство страшной войны. Да, эти тексты проходили дикую военную цензуру, да и без нее они – естественным для военного времени образом – было пропитаны пропагандистским духом. Но в них все равно зафиксированы реальные судьбы реальных людей, реальные события тех дней, реальная история страны – история, до сих пор не осмысленная, до сих пор не написанная.
Что касается всего остального, то над своим самым известным романом – «Молодостью» - Леонов начал работать до войны, а закончил он его уже после. Роман выдержал более десятка переизданий и стал главным произведением автора и абсолютной советской классикой. Почитайте как-нибудь – хорошая книга своего времени. А сам Леонов дожил до 1988 года.
Я же, чтобы как-то закончить это затянувшееся повествование, приведу здесь стихотворение Леонова, написанное в 1929 году и с тех пор, кажется, больше нигде не издававшееся (впрочем, больше не издавались и другие стихи этого автора):
В сияньи, как бред открывателя
Неведомых земель, -
Он шьет из ледяшек платье
Вековой зиме.
Он плачет со скал сосулями
Хохочет ворохом звезд,
Гремит ледяными разгулами
На тысячи верст.
Он знает: по звездным рекам
Пустились к нему с берегов…
Но полюс не встретил человека
И человек его…
Глаза ледяных морей
Следов не приметят ни чьих.
Лишь щепки норвежских рей
Запенятся в толчеи…
И может быть взгляд последний
Последнего из пловцов –
Хлестнется в дерзко-бледное
Севера лицо:
«А вот самолет сравнится
С полетом полярной птицы,
Прожектора лапа сама
Запросится в туман;
И новый Амендсен поедет
На полюс на белом медведе
Из кабелей и проводов…
И севера серый путь
Расчешут пропеллеры вдоль
И поперек. Пусть
В сияньи как бред открывателя
Неведомых земель
Ты шьешь из ледяшек платье
Разбуженной зиме.
Тем хуже для них
«Стихотворения», Пабло Пикассо
Завтра (2 февраля) в 1938 года Пабло Пикассо написал:

повиснув на шее веревки
ласковая
молчаливая
приятно отдающая вербеной
плавные руки
забрызганные капельками пота
бьющие тревогу
в потоке света
прижатые к вискам
отблески льда стучащего в дверь
и таящего аромат радуги
за голубиными вуалями
пересекаются со счетами угольщика
как всегда приходящего вовремя
А потом, в следующие пять дней, дописал:
повиснув на шее веревки (повиснув ибо ее пальцы это лучи
голубого желтого зеленого лилового света) ласковая (ибо извилистый рисунок
окружает палец и беззубыми деснами впивается в него до крови) молчаливая (ибо
веревка на конце которой она держится в равновесии хлопает ее по ляжкам и
щекочет между пальцами ее ног пеплом циферблата часов подвешенных к пламени
свечи) приятно отдающая вербеной (кавалькада тарелок вилок ложек и кухонных
тряпок поставленная на постреливающий огонь и бросающаяся в ноги покусывая
липкие руки тюремщика)
плавные руки (это руки слова едва сорвавшегося с губ и уже пьяного недостатком
внимания окутанного гигроскопической ватой мелодии тянущейся из-под подушки)
забрызганные капельками пота (иначе говоря любовь печаль и легкий аромат
сандалового веера) бьющие тревогу (я представляю себе тележку зеленщика
влекомую телками выкрашенными красной краской словно кирпичная стена)
в потоке света (равном 137.840 минус марка приложенная к подолу ее подвенечного
платья)
прижатые к вискам (свет сквозь ставни попорченные корзинами уже мертвых
мандаринов поставленными на стол в столовой)
отблески льда стучащего в дверь (как говорится волей-неволей)
и таящего аромат радуги (порядок в мыслях запах угля ослепленного фарами
автомобиля прибывшего чтобы овладеть резонами прилепленными к килю корабля
оторвавшегося от потолка и поданного горячим на полотне брошенном в кресло)
за голубиными вуалями (оружие граждан погибших ни за что закопанных в землю и
питающихся трупными червями)
пересекаются со счетами угольщика (услышать вдали за городом крики трех
маленьких девочек атакованных змеями)
как всегда приходящего вовремя (чтение вслух списка номеров выигравших в
национальной лотерее)
«Прежде всего все искусство суть одно; картину можно написать словами – так же, как описать ощущение в стихах», - утверждал Пабло Пикассо. Он начал писать стихи в 1935 году – ему было 54 года. Писал на французском и испанском. И написал довольно много текстов. В середине шестидесятых он спросил своего друга: «Мне кажется, что на самом деле я поэт-неудачник. Как ты думаешь?» Что ответил его друг, я не знаю.
И вот еще что. «Они принимают меня всерьез лишь как художника, - однажды заявил Пикассо. - Тем хуже для них…»
Начало любви
Елена Макарова, «Мы лепим, что мы лепим, что мы лепим. Три дня с Яном Раухвергером»

Язык Елены Макаровой похож на метроном со сбитым ритмом, или на часы, которые то замедляются, то, наоборот, набирают ход. Короткие фразы, короткие описания, диалоги, шум машин за окном, глиняные голуби на подоконнике, улегшаяся на полу собака, странные парижские друзья, потерявшиеся в бывшей промзоне южного Тель-Авива, во дворе бесконечного серого дома, в котором живут художники. Тик-так, тик-так.
В течение трех дней Елена Макарова и Ян Раухвергер лепили друг друга. Они встречались утром в мастерской Яна – большом, заставленным всевозможными вещами, помещении с высокими потолками, с картинами, прислоненными к стенам, с глиняными голубями на подоконнике, с греющимися в тостере питами, - и лепили друг друга. И разговаривали – обо всем и ни о чем: о любви, о Веласкесе, о Москве и Тель-Авиве, о погоде и свекольном салате, который приготовила Галит, не говорящая по-русски жена Яна. Три дня стрелки часов тикали – тик-так, - то замедляясь, то ускоряясь. Три дня метроном сбивался с ритма, ошметки ненужной глины падали под стол, глаза на вылепленном лице обретали взгляд, а дверь за вылепленной фигурой приоткрывалась, обнажая за собой бесконечность.
«Художники думают, что, если они зафиксируют пастель и вставят картину в раму, она сохранится навечно. У рамы и фиксатива есть функция охраны картины. Но я думаю, что только любовь других поколений может ее сохранить. Если будет пожар – вынесут. То есть это любовь, а не фиксатив. Так и в работе. Когда я начинаю новую работу, это влюбленность в мотив, желание понять. Желание приблизиться – это начало любви…»
Елена Макарова – прозаик, историк, скульптор, исследователь искусства лагеря Терезин, автор книги «Фридл» и еще четырех десятков книг, арт-терапевт – откликнулась на предложение Яна Раухвергера – художника, ученика Владимира Вейсберга, «круглое мягкое лицо, сильные руки», - сочинить что-то на тему его работ – «я так и не поняла, что именно». Она подумала, что «могла бы слепить тебя у тебя в мастерской». Ян ответил – три сеанса, «за это время многое прояснится. Ты хотела бы работать в глине?» Им обоим это было нужно.
«Ян великодушный. В каждом находит что-то хорошее. Художники, как правило, не злоязычны. Злоязычие – прерогатива писателей, к которым я каким-то боком тоже принадлежу. Мы лепим, время бежит…»
Очень сложно словами описать процесс творчества, со-творчества. Но – «мы таки влепились друг в друга, а с участью раздельного бытования торса, головы и волос создатель разберется сам». В течение трех дней Елена Макарова и Ян Раухвергер лепили друг друга. Получились скульптурная композиция с Яном и открытой дверью, лицо Елены с пронзительным взглядом и книга, которую не с чем сравнить. Тик-так.
Дети страшных лет России
«Пятеро», Владимир Жаботинский

Очень сложно писать про книгу, которая при чтении вызывает восторг. Но не написать о ней нельзя – знаю, что многие ее не читали (многие, правда, читали), так что – простите, текста будет мало, и он будет бессвязным. Зато искренним.
Для начала – два слова об авторе. Владимир (Вольф) Евгеньевич (Евнович) Жаботинский родился в Одессе, умер в Нью-Йорке, а похоронен в Иерусалиме. Он был идеологом сионистов-ревизионистов, создателем Еврейского легиона и нескольких еврейских организаций, сторонником жестких мер в отношении арабов, пропагандистом иврита, полиглотом, другом Корнея Чуковского и – так уж вышло – великим писателем. Небольшой роман «Пятеро» считается одной из лучших его книг.
По сути, это – рассказ о еврейской семье (еврейские писатели предпочитают романы о семьях) на фоне бушующей истории начала ХХ века. Действие происходит в Одессе – пять детей семейства, с которым поддерживает дружеские отношения автор, избирают пять разных путей и, как и положено в великом литературном произведении, олицетворяют пути, по которым пошло российское еврейство – это звучит ужасно скучно, но от книги Жаботинского в прямом смысле невозможно оторваться. Магию, которой обладает его, по большому счету, простой язык, я (не литературовед) объяснить не могу. Возможно, все дело в честности, с которой Жаботинский пишет о времени и о людях, которые делали это время, в отсутствии пафоса, в грустном юморе и – да, чего уж, – в любви, в которой он не отказывает своим героям, в каких бы ситуациях они не оказывались и какими бы ни выходили из них. Это – его народ, и другого у него нет, и не надо.
Но «Пятеро» - это, конечно, не только книга о семье. Это еще и очень тонкая и, при том, жесткая книга о времени. И смысловой центр ее – восстание на броненосце «Потемкин», которое окончательно ломает и без того шатающийся мир. Жаботинский очень точно и очень страшно описывает, как «глупые, неопытные, молодые, мы не предвидели, что хорал его [восстания], начавшийся набатом, в тот же вечер собьется на вой кабацкого бессмыслия...» Ужасно, но снова и снова литература начала ХХ века оказывается до дрожи актуальной.
«Пятеро» Жаботинского – великий роман о треснувшем времени и о людях, которым довелось жить в этом времени. То есть, по сути, о нас с вами. Ведь, так вышло, у России не было не страшных лет.
Побег от эскапизма
«По следам Ван Гога. Записки 1949 года», Мария и Давид Бурлюки
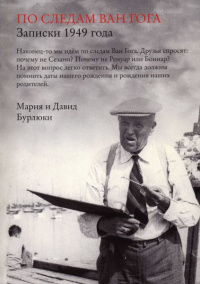
После того, как семейство Бурлюков в начале 1920-х оказалось в Америке, им потребовалось более двадцати лет, чтобы утвердиться на новом месте (в Новом Свете) – будучи родоначальником русского футуризма и одним из самых плодовитых художников-авангардистов, считая себя тем, кто открыл Маяковского (известно, что Бурлюк в прямом смысле «продюсировал» поэта, платя ему полтинник за текст), и вообще едва ли не главной фигурой нового русского (aka российского) искусства, Давиду Бурлюку пришлось в прямом смысле открывать для себя, завоевывать Америку. Завоевание завершилось заслуженной победой художника, и в 1949 году он, в сопровождении жены Марии, смог отправиться в Европу, по следам Ван Гога. Все время путешествия Мария вела подробный (иногда – слишком подробный) дневник, который в результате и стал книгой – книгой. И, более того, совершенно уникальной книгой.
«Наконец-то мы идем по следам Ван Гога. Друзья спросят: почему не Сезанн? Почему не Ренуар или Боннар? На этот вопрос легко ответить. Мы всегда должны помнить даты нашего рождения и рождения наших родителей. Ван Гог и Гоген родились соответственно в 1853 и 1848 году. Мой отец появился на свет в 1857 году: Сезанн – в 1839…» - лукавит Бурлюк, объясняя выбор гения, по следам которого предстоит путешествовать. Но потом, естественно, все же проговаривается: «Когда Гоген покидал своего одноухого друга в Арле, он отметил, что Винсент все еще продолжает экспериментировать. То, что в то время с точки зрения современников казалось слабостью, ахиллесовой пятой, с годами стало бессмертной твердыней, подобной башне, для всех художников, кто ныне пытается сбежать от эскапизма в реальность. Из этого трио [Сезанн, Гоген, Ван Гог] Ван Гог – самый реалистический, самый разнообразный в своих темах и практически универсальный в своей недолгой попытке отразить разнообразие граней жизни…»
А дальше начинается, собственно, дневник Марии Бурлюк, и это – удивительное чтение. Прежде всего, потому что текст Марии Бурлюк – идеальный репортаж. В своих поисках (а текст, конечно, лучше было бы назвать не «По следам…», а «В поисках…») супруги не просто посещают места, которые задолго до них посещал Ван Гог, - они находят людей, видевших и общавшихся с художником, они пытаются погрузится в его жизнь, почувствовать то, что чувствовал он. И оказываются в зазеркалье – сравнивая виды, написанные Ван Гогом, они фиксируют их же, переживших годы и войны. Фиксируют – в тексте Марии и рисунках Давида. Поразительный опыт – не уверен, что кто-нибудь когда-нибудь предпринимал такое сравнение – не фотографий тогда/сейчас, а именно живописных переживаний.
Ну и, к тому же, Мария Бурлюк кропотливо собирает бытовые подробности – она описывает еду и посуду, цвет стен и шум ветра, она всматривается в окружающих людей и уделяет внимание не только их одежде и словам, но – глазам: будете читать, обратите внимание на описания этих глаз. Ну, и так далее.
И, конечно, нельзя не упомянуть обилие иллюстраций – маленькое издательство Grundrisse наполнило книгу картинами Ван Гога, Бурлюка, старыми открытками, автографами, репринтами журналов и газет. Рассматривать эту книгу – отдельное удовольствие.
И последнее. Тираж этой книги – 700 экземпляров. Не прозевайте.
Гран-Борис
«Ладья темных странствий», Борис Кудряков

«Пастух подсел к ней ближе, зашептал: В молоке не купайся, из темного стекла не пей, в седьмую пятницу на пятый год поставь мне свечку, а через два года гони от отца всех друзей.
Вздрогнула: не речь пастуха, - затаилась. – Погадай по руке. – О чем? – Ну, предположим… мальчик или девочка у меня будет? – По руке девицы не ответить. – Откуда знаешь?.. – Волосы при свече у тебя переливаются, глаз световит, и должна быть под коленкой кожа, как у младенца за ухом. Хочешь ответ знать – ступай в хлев без огня, с первой овцы выдери клок…»
Загадочная проза Бориса Кудрякова не похожа ни на что и похожа сразу на все: здесь Беккет, там Саша Соколов, тут Майринк, где-то за кочкой притаился чудак-Гофман, тенью навис Андрей Белый, ожили картины сюрреалистов, заговоривших языком хлебниковской зауми… Борис Кудряков, согласно «Википедии», до 1972 года работал фотографом, после 1972-го – оператором угольной котельной. Отец был репрессирован. Кудряков печатался в самиздате и на Западе, что вызвало пристальный интерес КГБ и затруднило не только поиски работы – жизнь вообще. Был одним из самых известных (насколько может быть известным представитель «второй культуры» в эпоху окончательной победы первой над здравым смыслом), иногда подписывался прозвищем гран-Борис. Писал стихи и прозу с 15 лет, был членом «Клуба-81» и Академии Зауми, лауреатом Премии Андрея Белого. Александр Скидан писал, что его «проза ошеломляла»…
Не перестаю удивляться тому, как ленинградские литераторы, принадлежавшие «второй культуре», умудрились не растерять связь с теми, кто был до них, не подражая «предкам», но как бы осуществляя связь, продолжая начатую линию, то есть, не пользуясь изобретенным языком, а развивая его. (Говорю именно про ленинградских литераторов – не знаю, было ли такое где-то за пределами болот имени Федора Достоевского, я не встречал.) Как, например, обэриутское письмо, пройдя все круги забвения и уничтожения, возродилось, скажем, в поэзии Олеге Григорьеве, чтобы потом продолжиться у Гаврилы Лубнина и Дмитрия Озерского. Как Владимир Эрль, о котором я уже писал с десяток раз, продолжил традиции, условно говоря, зауми. Ну, и так далее, примеров множество.
В свое время, то есть в поздние 1970-е, его тексты по настроению сравнивали с текстами Беккета, и в этом, безусловно, есть доля истины, но мне-то кажется, что он наследует прозаическому языку Андрея Белого – не повторяет, а именно что развивает его, впитав одновременно с ним и обязательную заумь: «Зима захрипела, раскиселилась, в свежий бархат снегов свое сердце скрывать перестала. Одернула саван прощальный в пляске метелей. Кровью лед проистек. Посмешище певчих ехидно задергалось трелью. Рессорная тачка со старой Зимой катилась по половодью снов замордованных семянноносцев в сумерках парных, без шума, без гама, рессорная тачка со старой Зимою катилась, с собою прощаясь. Крики весны приближались. Кружевницы утр все более вяло затягивали лужи, когда тачка со старухой была сброшена в шахту, на тело прошедшей осени. Весенние дни – эти горлопаны с барабанами, грязные, с лицами гнилых идиотов (вместо головы только рот), прокричали ура и ушли закусывать кошачьими воплями. Вода причесалась надеждой…»
Еще интересно наблюдать, как, пользуясь этим своим/не своим языком, он порой сгущает такую жуть, что и не снилась какому-нибудь Мамлееву: «Левой рукой он прошмыгнул под ее прическу и, нащупав уютную впадину под основание черепа, изрядно воодушевившись молчанием ее теплого тела, Иболитов пальцами левой надавил интимную впадину, так что из носа Марфушки пошел воздух велосипедной шины, правой рукой погрузил клещи в левый нижний угол рта. Сжал клещи. Раздался долгий хруст. Снова пробежало воодушевление, до чресел Иболитова и обратно…» Жуть, которая внезапно разрешается совершенно обэриутовским финалом: «Соседка Иболитова – баба Надя открыла энциклопедию. Она искала слово суккуленты, но нашла репелленты. И со вкусом ознакомилась с частицей просвещения».
Очень красивая проза, «Ладья темных странствий», - первое масштабное собрание текстов одного из самых интересных писателей ленинградской «второй культуры» Бориса Кудрякова, до сих пор непрочитанного и неоцененного.
Нет у революции конца. Размышления накануне столетия
"Комиссары", Юрий Либединский

После того, как Михаил Трофименков написал в моем любимом «Ъ-Weekend» про фильм «Комиссары», я сразу посмотрел этот. Фильм, хочу сказать, совершенно прекрасный. А теперь я попробую сформулировать несколько важных для меня мыслей.
[Вообще, довольно странно так подробно писать про фильм, который никто не видел, снятый по книге, которую никто не читал, и все же.] Вот Трофименков пишет: «Далеко не второстепенную и, безусловно, роковую роль в судьбе СССР сыграла даже не то чтобы ссора, но бесповоротная размолвка власти и интеллигенции, случившаяся в конце 1960-х. В результате общество "поправело", отвергнув саму идею революции, а власть оттолкнула тех, кто этой идее был без лести предан…» Хотя мне-то кажется, что более важный раскол случился много раньше – в предреволюционные годы, когда произошло разделение на, скажем, большевиков и меньшевиков, и позже, когда против тоталитарных большевиков, изначально строивших взаимоотношения с другими партиями на предательстве, шантаже и уничтожении (все это очень круто описано, например, в книге «Тачанки с Юга» Василия Голованова), пошли их былые союзники. Интересно, кстати, заметить, что ту самую революционную романтику, которой сложно не восхищаться, независимо от собственных взглядов, породили именно те, кто позже или перешел в разряд попутчиков, или поступился принципами, или – нужное подчеркнуть. Вот, тот же самый Либединский, в краткой автобиографии писал: «Рост мой до революции семнадцатого года шел под влиянием мистиков-символистов (Блок, Андрей Белый), однако я не переставал перечитывать классиков (гл. обр. Толстого и Тургенева). С семнадцатого года... я пережил краткое увлечение народничеством, более длительное и глубокое влияние оказал на меня анархо-синдикализм...» Другой парень, тоже из моих героев и важный для ранней советской литературы человек Николай Костырев, дружил с отцом национал-большевизма Николаем Устряловым, а в юности, естественно, сочувствовал анархистам. С плохо скрываемым восхищением (ну, мне так кажется) поглядывал на махновцев Исаак Бабель. Да чего говорить – Виктор Шкловский, написавший про свою революционную юность гениальное «Сентиментальное путешествие», вообще участвовал в эсеровском мятеже. Кажется, Ленин писал (не помню точную цитату) про то, что, кого вокруг не копни, - либо меньшевик, либо левый эсер. Вот он, первый и очень важный глубинный раскол, и, как мне кажется, именно о нем в 1926 году написал повесть «Комиссары» Юрий Либединский, и именно о нем снимал в 1969-м фильм Николай Мащенко. Из фильма, правда, выпала львиная доля того, что составляло ту совсем небольшую повесть – бесконечные споры о революции, которые ведут в 1921 году комиссары на странных курсах, куда их собрали. Там очень мало слов про партию, все больше – про саму революцию. Но один из центральных эпизодов книги (и фильма) – выход из партии одного из боевых товарищей, который не может справиться с сомнениями, с мыслями о бесконечности борьбы. И в книге, и в фильме никто не говорит о победе, а если и говорит, этот разговор заканчивается одним и тем же – нет у революции конца. О том же говорят и те, кто выступают против комиссаров – про бесконечность борьбы. И – те же сомнения. В книге, в отличие от фильма, очень много разговоров о смысле революции, о справедливости, но – и это настроение точно поймано в фильме – очень мало слов об идеологии. Комиссары в пыльных шлемах не упоминают свою близость к большевикам (правда, походя упоминают о подавлении Кронштадтского мятежа – это тоже очень важный и очень сильный момент фильма). Там ведь, если копнуть поглубже что одних, что других, - ну, понятно.
И еще один очень важный раскол случился много позже, уже после окончательной победы большевиков. Эта трагедия непонимания очень точно (и страшно) видна на примере Ольги Берггольц. Рожденная в 1910 году, она была далека от всех этих споров между большевиками и меньшевиками. Она, в силу разных причин, воспринимала революцию сердцем – таких, как мы знаем, в тридцатые ломали особенно сильно (впрочем, там всех ломали одинаково сильно). Но, несмотря на все это («Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули обратно и говорят: “Живи”…»), Берггольц, кажется, до конца сохранила веру в революцию сродни религиозной – по сути, вера была именно что религиозной, без сомнений и вопросов, вера – в революцию, в коммуну – обязательно прочитайте «Первороссийск» и посмотрите невероятной красоты фильм «Первороссияне», в котором те, первые, коммунары – словно первохристиане, и гибнут так же. Вот у Либединского в «Комиссарах», и в опять-таки невероятной красоты фильме Мащенко, речь тоже идет о революции, а по сути там – апостолы. Апостолы, красная конницы – фильм, к слову, начинается с ожившей «Красной конницы» Малевича, не знаю, сознательно ли это было сделано. Либединский писал в то «веселое», по выражению Аркадия Гайдара, время, когда вера еще была жива, когда ее еще не растоптали, когда еще была возможность вопросов и сомнений, когда казалось, что еще сохраняется возможность выбрать путь. Потом пришло время Ольги Берггольц, когда, чтобы сохранить веру, чтобы не отдать ее на поругание, нужно было отказаться от вопросов, поверить до фанатизма. А потом, когда свой фильм снимал Мащенко (и когда снимали и «Первороссиян», и «Интервенцию», и «В огне брода нет»), сохранить веру было уже невозможно – веру окончательно подменила религия, идеология, пластмассовый мир победил. Фильм «Комиссары», наверное, потому и отличается настолько сильно от книги, что снят он из другого времени и с другими знаниями. Но все же поразительно, как в эти серые годы, в конце шестидесятых, появлялись именно такие фильмы, фильмы о вере.
Очень страшно, конечно от того, что сейчас наснимают по поводу столетия октябрьских событий. Но, как минимум, уже есть «Ангелы революции». Нет у революции конца.
И так далее, и так далее
«Прогулки с Бродским и так далее». Иосиф Бродский в фильме Алексея Шишова и Елены Якович

Я очень хочу написать про эту, только что вышедшую, книгу, но я совершенно не знаю, что нужно про нее сказать. Ну, хорошо – многие из вас смотрели фильм Елены Якович и Алексея Шишова «Прогулки с Бродским», в котором Иосиф Бродский и Евгений Рейн бродят по Венеции и говорят, говорят, говорят, так вот, книга, о которой идет речь – это как бы расшифровка всего того, что Бродский сказал во время съемок этого замечательного фильма, в кадре и, что немаловажно, за кадром (в то время, когда камера была выключена, Елена Якович включала диктофон, в результате чего записала еще довольно много прекрасных слов). По большому счету, этого знания вполне достаточно, чтобы отложить все дела, пойти в магазин и купить эту книгу, которая вполне достойна того, чтобы встать на полку рядом с прозой Бродского. Но я все же скажу еще пару слов.
Даже если просто расшифровывать записанный на пленку текст, ничего в нем не меняя, все равно очень сложно сохранить авторские интонации, особенно – такие узнаваемые, какими обладал Иосиф Бродский (потому что мне сложно представить человека, который вообще никогда не слышал этого неповторимого голоса). Елене Якович удалось виртуозно эти интонации сохранить. То есть, буквально, читаешь книгу – и слышишь этот голос: и так далее, и так далее... И в этом заключается еще одна ценность книги.
Ну и, наконец, о личном. В фильме есть момент, когда Бродский говорит про свою ссылку и про то, как на этапе он разговаривал с одним стариком… Ну, вы все помните (а если не помните, то, читая книгу, обязательно поймете, о чем я, это – один из самых пронзительных моментов и книги, и фильма). Так вот, теперь я могу обращаться к этим словам всегда, когда мне это понадобится, потому что теперь они есть на бумаге. А мне всегда казалось, что очень важно, чтобы эти слова оказались зафиксированными на бумаге.
Как-то так, если коротко.
Шалость удалась!
«Гарри Поттер и Проклятое дитя», Джек Торн, Джон Тиффани, Дж.К.Роулинг

С момента выхода последней книги о Гарри Поттере прошло девять лет, и вот, наконец, появилась новая. Гарри Поттер, девятнадцать лет спустя (именно столько лет прошло по сюжету с того момента, как закончилась та, последняя книга). Четыре часа мне потребовалось для того, чтобы прочитать эту саму новую книгу – я в буквальном смысле не мог отложить книгу, пока не закончил. И это – главное, что я могу о ней сказать. Дальше – детали.
Зарекался ничего не писать про переводы – пожалуй, не буду и на этот раз. Просто, если вы еще не читали будьте готовы к профессору Злей (не скажу), Хоггварцу и шокогадушкам. Хотя, нет – сначала будьте готовы к тому, что это – пьеса (правда, не очень многолюдная, так что ее легко читать даже тем, кто пьес отродясь не читал). Хотя, нет – сначала будьте готовы к тому, что автор этой книги – не Дж. К. Роулинг: «мама» Гарри Поттера лишь придумала (не одна) то, что называется оригинальной историей (хорошая, кстати, история, хоть и с использованием бродячего сюжета – а какой сюжет не бродячий?), а уже саму пьесу написал Джек Торн. Ну, вот, а уже дальше – пьеса, Хогварц и шокогадушки.
Еще нужно сказать, что в книге поднимаются очень важные вопросы взросления, взаимоотношений отцов и детей, дружбы и предательства (боже, какая пошлость!). Неожиданно, правда? То есть, все как обычно – борьба добра со злом; к новым приключениям спешим, друзья; любовь как главная магия…
Но все это, конечно, не очень важно. И можно сколько угодно обсуждать качество этой книги (или, скажем, нового фильма про Индиану Джонса), – дело-то не в качестве. Я, конечно, уже вырос из того возраста, в котором штурмуют магазины или кинотеатры, но – вот, пожалуйста, четыре часа, оторваться не мог. Чего и вам желаю.
Шалость удалась!
Когда нет практики доступных развлечений…
«Ваш Николай», Леонид Шваб

На днях была вручена литературная премия Андрея Белого. Перед тем, как перейти, собственно, к победителю (в номинации «Поэзия»), несколько слов о самой премии, чья история поистине прекрасна. Вот так описывает возникновение премии знаменитый писатель, один из родоначальников ленинградского самиздата и один из основателей «Клуба 81» Борис Иванов (чужими словами):
Первое вручение премии состоялось в декабре 1978 года. Приведу краткий рассказ об этом событии из моей статьи о Викторе Кривулине.
«Конец декабря. В угловом доме по улице Рылеева, в квартире искусствоведа Юрия Новикова, за зашторенными окнами (квартира находилась на первом этаже) собрались петербургские неофициалы – поэты, прозаики, философы... Не забуду ощущения странности всего того, что мы готовили, и главное – настроения собравшихся, публики честолюбивой, нетерпеливой, речистой и вдруг притихшей, как перед литургией. Почти из ничего – круглого столика, трех стульев, расставленных вокруг него, бутылки водки с тремя стопками и огромного яблока, купленного к этому вечеру Борисом Останиным на Кузнечном рынке, – создалась декорация торжественного действа, которое войдет в историю. Кажется, именно ветер истории глушил тогда минутные настроения собравшихся и непроизнесенные реплики. Герои торжества – поэт Виктор Кривулин, поэт и прозаик Аркадий Драгомощенко, философ культуры Борис Гройс – тоже были захвачены общим настроением.
В тот вечер "часовщики" впервые проводили вручение Премии Андрея Белого, которая, как впоследствии выяснилось, оказалась первой (!) в истории России независимой литературной премией.
Виктор Кривулин первым держал ответную речь. Он говорил о наступлении нового времени, когда деление русской литературы на "первую" и "вторую", официальную и неофициальную, казавшееся очевидным, закончилось. Говорил, как всегда покачиваясь на стуле: "Нет двух культур, культура одна, и этот наш вечер, возможно, ближе к ее сущности, чем другие широко обставленные действия". И далее о том, что составляло смысл его творчества, о самой премии: "Каждая отмеченность абсурдна. Но, выбирая между закрытостью и отмеченностью, мы выбираем второе... Это и есть подлинное культурное бытие – то, что находится между законченной артикуляцией и аморфным существованием вещей..."»…
А теперь, собственно, о победителе в номинации «Поэзия» - премию получил замечательный поэт Леонид Шваб, которого я вам очень рекомендую читать, и как можно больше.
***
Звезда-лейтенант освещает дорогу звезде-казначею
Бессмысленная порча имущества
Имеет смысл когда трагедия беззлобна
Вот гора Абдельдил вот гора Небольшой Человек
Телефонная станция без присмотра
Все разом кричат и едят помидоры
Долина приводит к воде
Старшеклассники скинувши обувь
Гуляют парами по мелководью
Чайки командуют флотом беда миновала
***
Не будет тайн но будет перечень приспособлений
Живой уголок однорукий солдат беспокойная дева
На каждом событии акт о приемке товара
Снаружи жилой пятиэтажный дом
Внутри безупречный вокзал или кинотеатр
По номеру паспорта видим достаток семьи
Казначейство выходит в народ
Деньги пахнут укропом
Малыми жизнями управляет маленький самолет
***
Не в самом деле сирые бессмертны
Секунды времени равняются котлетам
В жилых кварталах тишина
На автономных генераторах оранжевая плесень
Как вдруг начинается движение масс
Последнее предупрежденье
Кому сказать я вас люблю
Когда я вас люблю
Когда нет практики доступных развлечений
Зачем быть артистом
Это жизнь в теплых тонах
Реальное распределение благ
Ну и, как говорил по другому поводу Велимир Хлебников, «и так далее».
Остальное непонятно…
«Исследование ужаса», Леонид Липавский

Леонид Липавский, наверное, наименее известный из обэриутов (кроме, пожалуй, Дойвбера Левина, чьи обэриутские тексты не сохранились вообще!). Философ, писатель и поэт, в 1923 году переставший писать стихи, но, в первую очередь, философ, который считал, что мир состоит из неподдающихся подсчету и ежесекундно появляющихся миров. «Невероятно огромное пространство мира – оскорбление!» - писал он. Стоит ли говорить, что при жизни Липавского его философские работы не печатали. Он, как и его друзья, много писал для детей и даже активно издавался в тридцатые. «В июле 1917 года Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина. Большевикам было ясно: если Ленина арестуют, с ним тут же расправятся на месте. Большевистская партия и трудящиеся всего мира лишатся своего великого вождя. Во что бы то ни стало нужно спасти жизнь Ленина! Партия решила: Ленин должен немедленно уехать из Петрограда. Вечером одиннадцатого июля к Ленину пришел Сталин. Обсудили, что делать. Владимир Ильич присел к столу перед маленьким зеркальцем, быстро сбрил себе бороду, наголо постригся. Теперь его трудно было узнать. Затем вместе со Сталиным пошел он на вокзал…» - это начало его книги «Штурм Зимнего», написанной под псевдонимом Л. Савельев и изданной в 1938 году. А в ноябре 1941 года, 75 лет назад, Липавский погиб на фронте, ему было 37 лет.
Все его сохранившиеся философские тексты собраны в книге «Исследование ужаса», они завораживают.
«- В списке животных, вызывающих ужас, почти все – безногие или многоногие.
Паук – круглое брюхо, висящее на восьми тонких, колеблющихся, похожих на усы
ногах. Спрут – мускулистый и злобный морской паук. Краб – обросший панцирем
паук. Таракан, многоножка, сколопендра, клоп, вошь
– все эти черные, красные, прозрачные капельки, движущиеся на перебираемых,
точно усики, ногах. Наконец, гусеница, червяк, змея. Исключение – только
летучая мышь: темный человечек, запутавшийся в собственных крыльях.
- Танк, - почему танк своим видом обращал в бегство
целые полки людей? Потому что у него гусеничная передача. Можно составить себе
об этом представление, перевернув бутылку с маслом, касторовым или прованским:
сок истечет медленным безостановочным потоком. А если бы оно еще крутилось! Так
движутся винты машин: они то выпячиваются, то втягиваются назад в свое
металлическое ложе. Они текут. Если бы были жидкие животные, они передвигались
бы точно так…»
/ «Трактат о воде», начало 1930-х /
«Ребенок плачет от испуга, увидев колеблющееся на блюде желе. Его испугало
подрагивание этой, точно живой, аморфной и вместе с тем упругой массы. Почему?
Потому ли, что он счет ее живой? Но множество иных, подчас опасных
действительно, живых существ не вызывает в нем страха. Потому ли, что
жизненность здесь обманчива? Но если бы желе на самом деле было живым, оно было
бы никак не менее страшным…»
/ «Исследование ужаса», начало 1930-х /
«На улице какой-то парень с уродливо короткими руками-обрубками подошел не
то к милиционеру, не то к военному и ударил его. На него кинулись с нескольких
сторон, он бежал, его догоняли, били, он снова вырывался и бежал. Потом он
объяснил нам, мне с женой, свой поступок так: в очереди он уступил свое место
другому, а его не поняли и приняли за нарушение порядка.
Здесь ясна только конкретизация выражения «руки коротки». Остальное непонятно…»
/ «Сны», 1932 /
«Если бы родился, скажем, в Китае, или просто тут же, но на пять лет позже,
я бы себя даже не узнал, был бы совсем иным. Это – страшно…
Никто никогда не жил ни для себя, ни для других, а все жили для трепета…
Фигура дерева – рисунок взрыва. Поэтому в нем нет случайности…
Варфоломеевская ночь. Психологический нокаут, подсказанный эпохой…
Результат всегда больше того, какой может быть предвиден. Это и есть судьба…
Ход рыбы вверх по реке при нересте и повышение тона гудка паровоза при его
приближении – не одна ли тут причина?..»
/ «<Определенное…>», середина 1930-х /
А последняя часть книги Леонида Липавского – «Разговоры». Он записывал их в 1933-1934 годы в своей квартире, в Ленинграде, на Гатчинской улице. Не буду ничего больше объяснять, просто расшифрую инициалы собеседников: Л.Л. – Леонид Липавский, Н.М. – Николай Олейников, Н.А. – Николай Заболоцкий, Д.Х. – Даниил Хармс, Я.С. – Яков Друскин, А.В. – Александр Введенский, Д.Д. – Дмитрий Михайлов, Т.А. – Тамара Липавская.
«Л. Л.: Поэмы прошлого были по сути рассказами в стихах, они были сюжетны. Сюжет - причинная связь событий и их влияние на человека. Теперь, мне кажется, ни причинная связь, ни переживания человека, связанные с ней, не интересны. Сюжет - несерьезная вещь. Недаром драматические произведения всегда кажутся написанными для детей или для юношества. Великие произведения всех времен имеют неудачные или расплывчатые сюжеты. Если сейчас и возможен сюжет, то самый простой, вроде - я вышел из дому и вернулся домой. Потому что настоящая связь вещей не видна в их причинной последовательности.
Н. А.: Но должна же вещь быть законченной, как-то кончаться.
Л. Л.: По-моему, нет. Вещь должна быть бесконечной и прерываться лишь потому, что появляется ощущение: того, что сказано, довольно. Мне кажется, что такова и есть в музыке фуга, симфония же имеет действительно конец.
Н. А.: Когда-то у поэзии было все. Потом одно за другим отнималось наукой, религией, прозой, чем угодно. Последний, уже ограниченный расцвет в поэзии, был при романтиках. В России поэзия жила один век - от Ломоносова до Пушкина. Быть может сейчас, после большого перерыва пришел новый поэтический век. Если и так, то сейчас только самое его начало. И от этого так трудно найти законы строения больших вещей…»
«Л. Л.: Я не могу читать Хлебникова без того, чтобы сердце не сжималось от грусти. И не внешняя его судьба тому причиной, хотя и она страшна. Еще страшнее его внутренняя полная неудача во всем. А ведь это был не только гениальный поэт, а прежде всего реформатор человечества. Он первый почувствовал то, что лучше всего назвать волновым строением мира (35). Он открыл нашу эру, как может быть Винчи предыдущую. И даже своими стихами пожертвовал он для этого, сделав их только комментарием к открытию. Но понять, что он открыл и сделать правильные выводы он не мог. Он путался и делал грубые и глупые ошибки. Его попытки практического действия смешны и жалки. Он первый ощутил время как струну, несущую ритм колебаний, а не как случайную и аморфную абстракцию. Но его теория времени - ошибки и подтасовки. Он первый почувствовал геометрический смысл слов; но эту геометрию он понял по учебнику Киселева. На нем навсегда остался отпечаток провинциализма, мудрствования самоучки. Во всем сбился он с пути и попал в тупик. И даже стихи его в общем неудачны. Между тем он первый увидел и стиль для вновь открывшихся вещей: стиль не просто искусства или науки, но стиль мудрости…»
«Затем: О суде.
А. В.: Это дурной театр. Странно, почему человек, которому грозит смерть, должен принимать участие в представлении. Очевидно, не только должен, но и хочет, иначе бы суд не удавался. Да, этот сидящий на скамье, уважает суд. Но можно представить себе и такого, который перестал уважать суд. Тогда все пойдет очень странно. Толстый человек, на котором сосредоточено внимание, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности по распорядку, не отвечает, потому что ему лень, говорит что и когда хочет, и хохочет невпопад.
Я. С.: Я бы предложил, чтобы судья, вынесший смертный приговор, исполнял его сам, вступив с осужденным в поединок. При этом судье бы давались некоторые преимущества в оружии. Все же был бы риск, суд избавлялся бы от нереальности, от судьи требовались бы некоторые моральные качества…»
«О чудесах природы.
Д. X.: Сверчки самые верные супруги среди насекомых, как зебры среди зверей. У меня в клетке жили два сверчка, самец и самка. Когда самка умерла, самец просунул голову между прутьями и покончил так самоубийством.
Л. Л.: Удивительно, что крокодилы рождаются из яиц.
Д. X.: Я сам родился из икры. Тут даже чуть не вышло печальное недоразумение. Зашел поздравить дядя, это было как раз после нереста и мама лежала еще больная. Вот он и видит: люлька, полная икры. А дядя любил поесть. Он намазал меня на бутерброд и уже налил рюмку водки. К счастью, вовремя успели остановить его; потом меня долго собирали.
Т. А.: Как же вы чувствовали себя в таком виде?
Д. X.: Признаться, не могу припомнить: ведь я был в бессознательном состоянии. Знаю только, что родители долго избегали меня ставить в угол, так как я прилипал к стене.
Т. А.: И долго вы пробыли в бессознательном состоянии?
Д. X.: До окончания гимназии…»
«Л. Л.: Я - безответный. На днях открыли вентилятор и меня стало в него тянуть. Хорошо, что Т. А. заметила, когда я был уже под потолком, и ухватила меня за ножку. А то еще: купаюсь я и задумавшись, сам не соображая, что делаю, открыл затычку ванны. Образовавшийся водоворот увлек меня. Напрасно цеплялся я за гладкие края ванны, напрасно звал на помощь. К счастью мой крик услышали жильцы, взломали дверь и в последний момент спасли меня.
Д. X.: Мой организм подточен. Вчера, когда вставал с постели, у меня вдруг хлынула из носу кровь с молоком.
А. В. нашел в себе сходство с Пушкиным.
А. В.: Пушкин тоже не имел чувства собственного достоинства и любил тереться среди людей выше его.
А. В.: Недавно Д. X. вошел в отсутствие Н. М. и увидел на диване открытый том Пастернака. Пожалуй Н. М. действительно читает тайком Пастернака…»
«Д. X.: Я понял, какую комнату я люблю: загроможденную вещами, с закутками.
Д. Д.: Все люди, очевидно, делятся на жителей пещер и жителей палаток. Вы, конечно, житель пещеры. Самые лучшие жилища - английские квартиры в несколько этажей. Устанешь заниматься в нижней, идешь отдыхать в верхней. Высота ведь дает отдых. Я даже пробовал становиться на стул, прислоняясь к печке, что ж, это было хорошо.
Л. Л.: Это легко выполнимо: делать очень высокие кресла, высотой, скажем, с шкап. Вы приходите в гости, садитесь в кресла и беседуете, как два монарха.
Д. X.: Даже когда в библиотеке достаешь книгу с верхней полки и читаешь ее на лестнице, не спускаясь, это приятно. Было бы удобно избирать высоту положения по теме: когда разговор снизится, оба опускаются на несколько ступенек вниз, а потом с радостью вновь лезут наверх.
Н. М.: Люльки надо, в каких работают маляры, и дергать ее самому за веревку.
Д. Д.: Архитектуру до сих пор рассматривали неправильно, извне. Но ее суть во внутреннем, жилом пространстве. Даже целый город в средние века был как бы одной квартирой, жилым пространством. Потому улицы в нем кривы и узки. Кто строит комнату себе, заботясь главным образом о проходах? Сейчас же улицы для движения, это не жилое, а мимоходное пространство…»
«У Д. Д. встретился Л. Л. с П (70). Тот излагал свою теорию сказки. Все волшебные сказки - варианты одной основной с семью действующими лицами и точной цепью эпизодов. Вот эта цепь:
Отец отлучился; запрещение что-то делать.
Это все же делают.
Появляется соблазнитель или похититель; беда.
Прощай, отчий дом! Герой едет исправлять беду.
Встреча с неизвестным существом; испытание.
И тот дарит ему подарок в путь.
Подарок указывает дорогу.
Поединок с врагом.
В поединке герой получает отметину - печать.
Добыча похитителя возвращена; теперь скорее домой!
Погоня!
Дома никто не узнает его.
Самозванные герои оспаривают его подвиг; состязание с ними.
Печать случайно открывается и свидетельствует.
Второе рождение героя.
Свадьба и царство.
Таким образом по близости любой сказки к этому образцу можно судить о ее возрасте. Сходство же сказок, конечно, не от заимствования, а от того, что все они порождены одним отношением к миру.
Л. Л.: Вы считаете это только законом волшебных сказок и даже именно этим отличаете волшебные сказки от всяких других. Но не есть ли это основа вообще всех мифов, обрядов, сюжетов, от диккенсовских романов до американских кинокомедий? Те сказки, которые не причисляются к волшебным, отличаются, по-моему, лишь тем, что в них исчезло ощущение страха, это усохшие сказки. Так, по крайней мере, мы судим непосредственно. И разве произведения Гоголя не сказки?
П. не согласился. Он боялся утерять разграничение, право на научность…»
Купание красного коня
«Белый круг», Давид Маркиш

1911 году художник Сергей Калмыков нарисовал картину «Красные кони», о которой спустя десять лет писала, в частности, оренбургская газета «Коммунар»: «Грязно-зеленая – воробью по колено река, через которую слева направо идут-бредут две красных с отрезанными носами лошадки (у третьей видна только голова)… Таких же коньков любят вырезывать из бумаги и лепить на окна деревенские ребятишки… Тут же, у ног лошадей, барахтаются желтые фигуры напоминающие тонущих японцев, каких, помню видел в детстве на патриотических лубках. За конями на синем фоне опять тоненько рахитические фигурки; за ними нечто, похожее на синие лопаты, воткнутые черенками в землю; выше грязно-зеленое полосато-клубящееся небо… И все это грубо-грязно тяжело…» Калмыков – ученик Добужинского и Петрова-Водкина, один из активных участников «первого русского авангарда», как и Малевич, не только рисовал, но и составлял манифесты, и делал костюмы и декорации (привет, «Победа над Солнцем»), и так далее, в «Факультете ненужных вещей» о нем писал Домбровский. А сам Калмыков однажды написал вот что: «К сведению будущих составителей моей монографии. На красном коне наш милейший Кузьма Сергеевич изобразил меня… В образе томного юноши на этом знамени изображен я собственной персоной…»
Эта короткая невероятная история – о знаменитом «Купании красного коня» Петрова-Водкина, если что. Так вот, пользуясь такими короткими и невероятными историями, сочетая в тексте события начала и середины ХХ века и наших дней, выстраивая почти детективную историю, почему-то вызывающую в памяти «Двенадцать стульев», знаменитый писатель Давид Маркиш рассказывает о трагической и яркой судьбе придуманного художника Матвея Каца, в котором угадывается судьба совершенно непридуманного Сергея Калмыкова. Говоря коротко, два мужчины, имеющие в анамнезе далекое и плохо подтвержденное родство с этим самым Матвеем Кацем, звездой первого русского авангарда и вообще художником, по значимости сравнимым с Малевичем, но теперь забытом, неизвестном и вообще мало кому нужным, идут по следу картин Каца, которые считаются утерянными – как бы утерянными. За всем этим стоят несколько важных для думающего человека вещей. Первая – вера почти каждого из нас в то, что, когда-нибудь, в самом дальнем уголке грязного блошиного рынка, мы наткнемся на стоящий копейки шедевр. Вторая – что история российского (советского) ХХ века все еще таит такое количество тайн, секретов или просто чего-то забытого/потерянного/случайно не уничтоженного, что… страшно даже представить, сколько нам еще предстоит всего узнать. И третья – не менее страшно представить, сколько же всего утеряно или специально уничтожено: и рукописи Бабеля, и роман Введенского, и обэриутские тексты Дойвбера Левина, и… Список можно продолжать до бесконечности.
Был такой художник – Сергей Калмыков, звезда первого русского авангарда. Его картины, к счастью, остались. Как осталась и память. А книга Давида Маркиша «Белый круг» - просто фантазия. К сожалению, очень похожая на реальность.
Я не найду для этого слов…
«Я пришел к тебе, Бабий Яр…», Евгений Евтушенко
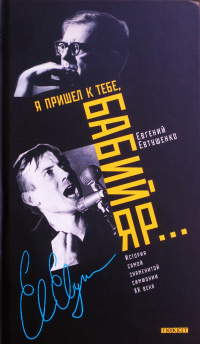
Этот текст не про книгу (хотя, конечно, и про книгу тоже) – это, скорее, просто размышления на тему. Размышления после прочтения. Короче говоря, «Я пришел к тебе, Бабий Яр…».
Мы все читали стихотворение Евгения Евтушенко – «Над Бабьим Яром памятников нет. / Крутой обрыв, как грубое надгробье. / Мне страшно. Мне сегодня столько лет, / как самому еврейскому народу…» Это стихотворение было написано в 1961 году, и в книге, о которой идет речь, Евтушенко подробно и увлекательно рассказывает историю публикации этих строк – понятно, что в начале шестидесятых напечатать такие стихи было, прямо скажем, нелегко. И – да, конечно, мы все читали у Сергея Довлатова, в его «Соло на ундервуде»:
Отмечалась годовщина массовых расстрелов у
БабьегоЯра. Шел неофициальный митинг. Среди
участников был Виктор Платонович Некрасов. Он вышел к микрофону, начал
говорить. Раздался выкрик из толпы:
- Здесь похоронены не только евреи!
- Да,верно, - ответил Некрасов, -
верно. Здесь похоронены не только евреи.Но лишь евреи были убиты за то, что они – евреи...
В общем, все (ну, хорошо, почти все) слышали про Бабий Яр. И, уверен, всем (ну, хорошо, почти всем) будет интересно узнать, что происходило вокруг стихов знаменитых стихов Евтушенко, и вокруг музыки Шостаковича, сопровождавшей эти стихи, и так далее – воспоминания интересны всегда, особенно воспоминания людей, которым есть что вспомнить, а Евтушенко – как раз из таких (все же так или иначе смотрят сериал про шестидесятые или хотя бы разговаривают про него, так вот у Евтушенко – все из первых рук). Меня же поразило другое. Вот вы, например, знали, что первое стихотворение про Бабий Яр было написано в Киеве в декабре 1941 года Ольгой Анстей – через полтора месяца после первого расстрела там?
Я не найду для этого слов:
Видите — вот на дороге посуда,
Продранный талес, обрывки Талмуда,
Клочья размытых дождем паспортов!
Чёрный — лобный — запекшийся крест!
Страшное место из страшных мест!
А потом была поэма Льва Озерова, написанная в 1944-1945 годы?
Я пришел к тебе, Бабий Яр.
Если возраст у горя есть,
Значит, я немыслимо стар.
На столетья считать — не счесть.
Я стою на земле, моля:
Если я не сойду с ума,
То услышу тебя, земля, —
Говори сама…
И еще стихи Ильи Эренбурга, 1944 года?
Мы понатужимся и встанем,
Костями застучим – туда,
Где дышат хлебом и духами
Еще живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
Мы к вам пришли. Не мы - овраги.
К стыду своему, я ничего этого не знал. Теперь знаю– из книги Евгения Евтушенко.
Вы были в Бабьем Яру? Я был, и не раз – тихое, красивое место. Очень страшно.
Страшные сны, похожие на жизнь
«Последнее странствие Сутина», Ральф Дутли

Хаим Сутин – человек, биография которого словно специально была придумана для романа (страшного, трагического, но романа). Он родился в местечке Смиловичи и был десятым из одиннадцати детей в бедной еврейской семье – и всю жизнь хранил в себе ненависть к этим местам. Ему запрещали рисовать, потому что в ортодоксальных еврейских семьях нельзя изображать никаких живых существ, но он все равно рисовал, за что был постоянно бит старшими братьями, отцом, служками синагоги. Он бежал из семьи, чтобы учиться живописи – сначала в Минск, потом в Вильно, потом в Париж. В Париже он оказался в знаменитом «Улье» – он таскает в свою крошечную нищую мастерскую туши, которые начинают гнить, и он, чтобы оживить их – он рисует их с натуры, — поливает их кровью, и эта кровь течет на пол и просачивается сквозь этажи заливая соседей, которые вызывают полицию. Он рисует распятых зайцев, и коровьи туши, и петухов, которым в его детских воспоминаниях перерезает горло смеющийся мясник – он рисует смерть и дружит с Модильяни – Модильяни рисует портреты Сутина, но Сутин никогда не рисует Модильяни. Он живет в нищете, рисует и уничтожает свои работы, пока в начале 1920-х американский коллекционер не сходит с ума, увидев картины Сутина, и не покупает сразу пять десятков. К середине 1930-х его картины пересекают океан, чтобы быть выставленными в Америке, в всеобщему восторгу и возмущению. После начала войны он остается во Франции – он никогда не возвращается в Смиловичи, где в 1941 году, в гетто, гибнут его родители. Сам Хаим Сутин, измученный страшной язвой, ежеминутно рискуя быть пойманным нацистами, скрывается в Шампиньи, а потом, 9 августа 1943 года, умирает в Париже. Его хоронят на кладбище Монпарнас, и потом, спустя годы, он становится одним из главных художников «Улья», одним из главных художников ХХ века вообще. Хаим Сутин – вы все видели его страшные и завораживающие картины.
В романе «Последнее странствие Сутина» Ральф Дутли делает попытку понять жизнь Сутина – человека, который жил наперекор всему. Небольшая книга – семнадцать болезненных, вызванных постоянной болью и уколами морфина галлюцинаций, которые смешиваются с воспоминаниями о том, что было и чего не было. Эти галлюцинации посещают Сутина во время его путешествия из Шампиньи в Париж, куда его, живой труп, везут в катафалке, в бессмысленной надежде спасти. Это путешествие живого – пока живого – мертвеца, который вспоминает (или пытается забыть) свою жизнь, свою любовь, свои картины – по Дутли, изживающие внутреннюю боль художника: это не мясо гниет на его картинах, это его душа кричит в попытке докричаться до как всегда безучастного Бога.
Страшная и прекрасная жизнь. Страшная и прекрасная книга.
Прокляты и забыты
«Прозрачные леса под Люксембургом», Сергей Говорухин
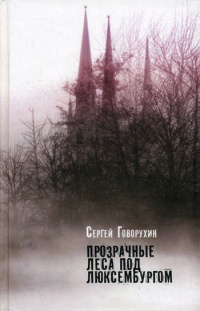
Сергей Говорухин, сын Станислава Говорухина, снял несколько фильмов, один из них – «Никто, кроме нас» – основан на его же одноименной повести. Эта повесть – настоящая мужская проза, жесткая и, вместе с тем, сентиментальная. Говорухин не мог написать иначе – он видел войну, он был в Афганистане, Чечне, Таджикистане, когда-то это называлось «горячими точками». Он участвовал в боевых операциях, был удостоен наград, он видел слишком много крови, но не озлобился, но обрел свой язык, который сложно спутать с другим. Сочетание жесткости и нежности вообще – одна из главных отличительных черт прозы и фильмов Говорухина. Такое сочетание встречается в настоящих фронтовых песнях – в тех, которые сочинены на войне, а не в угоду политическому режиму, каким бы он ни был.
И в фильмах, и в текстах Говорухин оставался честным, а честность, как известно, не всегда бывает удобной. «С детства твердо запомнил одно: спросят с тебя. С тем и живу». Было короткое время, когда о нем много писали, у него брали интервью, про него сняли телепередачу. Но, как оказалось, про его книги – в том числе и про последнюю, «Прозрачные леса под Люксембургом», – написано непростительно мало. Кажется, проза режиссера Сергея Говорухина осталась незамеченной (да и фильмы его, чего греха таить, видели не слишком много зрителей), ее как будто оттерли, оттолкнули локтями более «пробивные» авторы.
В начале самого известного, неигрового, фильма Говорухина «Прокляты и забыты» съемочная группа приносит извинения за плохое качество изображения, потому что не всегда условия съемки соответствовали общепринятом стандарту. Картина была снята в 1995 году на первой Чеченской войне – автор фильма в краткой автобиографии писал, что «в 1995 году был ранен в Чечне, вследствие чего лишился ноги и веры в человечество». В общем-то, это все, что нужно знать про прозу Говорухина – почитайте ее, это важно.
Лебедь слился с небом...
«Просто дети», «Я пасу облака», Патти Смит

Патти Смит очень любит поэта Артюра Рембо. Который, в частности, в марте 1870 года написал стихотворение «Предчувствие» (пер. М. Кудинова):
Глухими тропами, среди густой травы,
Уйду бродить я голубыми вечерами;
Коснется ветер непокрытой головы,
И свежесть чувствовать я буду под ногами.
Мне бесконечная любовь наполнит грудь.
Но буду я молчать и все слова забуду.
Я, как цыган, уйду — все дальше, дальше в путь!
И словно с женщиной, с Природой счастлив буду.
Это стихотворение — лучший эпиграф к маленькой книжечке Патти «Я пасу облака». Книге, написанной ею в 1991 году и посвященной ее воспоминаниям о собственном детстве. Не воспоминаниям даже, а какой-то очень нежной рефлексии по поводу детских тайн, детских реакций на происходящее, детского восприятия действительности: «Я всегда воображала, что однажды напишу книгу, пусть даже тоненькую-тоненькую, которая уводила бы в дальние дали — в мир, что невозможно ни измерить, ни даже удержать в памяти…» Рембо — один из главных поэтов в жизни Патти Смит, так что такое «совпадение» более чем понятно, хотя эпиграфа у книги нет.
Патти Смит — удивительная певица, поэт, общественный деятель, икона нью-йоркской богемы 1970-х, подруга фотографа Роберта Мэплторпа, соавтор Сэма Шепарда, подруга Уильяма Берроуза и женщина, стоявшая у истоков панк-рока… Слишком много для одного человека — хрупкой женщины, главными чертами творчества которой являются, с одной стороны, жесткие тексты («Иисус умер за чьи-то грехи, но уж точно не за мои…» — первые строчки песни Gloria, первой песни ее первого альбома) и простой, «трехаккордный» рок, а с другой — страстность и, порой, категоричность восприятия, свойственного бунтующему подростку, просто ребенку.
«Просто дети» — название автобиографии Патти, в которой она рассказывает о Нью-Йорке ее молодости, о любимом друге Мэплторпе, о знаменитом отеле «Челси». И о том, какой она сама была в детстве. «“Лебедь”, — сказала мать, заметив мой восторг. Существо рассекало блестящие воды, хлопая огромными крыльями, пока не взмыло в небо. Его имя ни капельки не выражало его великолепия, не передавало чувств, которые во мне всколыхнулись. Во мне проснулась потребность, которой я даже названия не знала, — желание рассказать о лебеде, о том, какой он белый, как движется, словно взрываясь на ходу, как медленно всплескивает крыльями. Лебедь слился с небом, а я никак не могла подобрать слова, чтобы описать свое впечатление….» — с этого начинается первая глава книги, и именно эта история, на самом деле, очень точно объясняет, что же это такое — Патти Смит. Женщина и борец, которая смогла сохранить в себе детскую непосредственность — ту частичку детства, которой так не хватает многим, почти всем.
«Как счастливы мы в детстве. Как тускнеет свет, когда раздается голос рассудка. Бредешь по жизни, оправа без драгоценного камня. Но вот однажды сворачиваешь на другую улицу — вот же он, лежит на земле, капля граненой крови, и светится, более реальный, чем призрак. Если потянуться к нему, он может исчезнуть. Если ничего не делать, не обретешь потерянного. В этой маленькой загадке содержится выход. Молись собственной молитвой. Неважно, как ты молишься. Но когда молитва будет произнесена, у тебя появится единственная драгоценность, которую стоит хранить. Единственное зернышко, которое стоит подарить другому…» — это уже из «Я пасу облака».
Только что на русском языке вышла очередная книга Патти Смит – время читать.
Общество анонимных людоедов
«Мой маленький муж», Паскаль Брюкнер

Одна из книг главного мизантропа европейской литературы (из тех, кого я знаю) – хваленому Уэльбеку до него как до Луны, – француза Паскаля Брюкнера (который, в частности, написал «Горькую Луну», послужившую основой для одноименного фильма Романа Поланского, а я писал о нем здесь и здесь), называется «Мой маленький муж». Супружеская пара, в которой муж ниже жены. И вот этот муж с каждым прибавлением в семье становится все ниже и ниже, пока, наконец, вообще едва не исчезает. И дальше начинается его борьба за выживание… Понятно, что в этом сюжете есть перекличка с разными другими сюжетами, в том числе – и с сюжетом «Божественного дитя» того же Брюкнера, который (сюжет) и сам тоже перекликался, и даже с «Превращением» Кафки. Это – не претензия, потому что все мы знаем, что сюжетов в мировой литературе мало, некоторые говорят – хватит пальцев одной руки. Дело не в сюжете, а в том, что из этого сюжета получается.
В «Моем маленьком муже» Брюкнер разбирается и с семейными
отношениями, и с религией, и с толерантным отношением к низкорослым людям, и с
любовью к детям, и даже, походя, с мировой литературой, и делает это легко и
красиво. И заканчивает поркой. Он всегда позволяет маленькое допущение – про
парня, который уменьшался в размерах, как тут, или про ребенка, который решил
не вылезать из материнской утробы, как в «Божественном дитя», а уже дальше выстраивает
повествование логично и, более того, реалистично – реализм в буквальном смысле,
даже странно. И, в общем, получается, что все – говно, причем, получается очень
убедительно, у него всегда так.
Когда-то Брюкнер приезжал в Питер и пересказывал, в частности, сюжет одного своего
рассказика – про общество анонимных людоедов (садятся люди в круг и
рассказывают, кто и как дошел до жизни такой), вот бы почитать.
Поющий бамбук
Александр Кан, «Пока не начался jazz»; Сева Новгородцев, «Интеграл похож на саксофон»

Самое прекрасное в книжках воспоминаний (кроме кучи фактов, документов эпохи и так далее), это, конечно, мелкие детали. Вот, например, из «Пока не начался jazz» Александра Кана:
«Однажды он [Владимир Чекасин] закончил отделение и призвал желающих выйти из зала на сцену, сесть за любой инструмент и начать играть – вне зависимости от степени владения этим инструментом. Обычно, воспитанная в почтении к понятию “артист” интеллигентная ленинградская публика в ответ на такого рода предложения слегка тушуется, и желающих находится немного. Но тут, не успел сам Чекасин уйти со сцены, по проходу к ней ринулся совсем еще мальчишка с по-детски оттопыренными ушами. Он резво взобрался на сцену, сел за барабаны и стал неистово по ним молотить. Так я впервые увидел Сергея Бугаева, получившего чуть позже прозвище Африка…»
Еще из книжки Александра Кана, теперь про рокеров:
«В 1985 году кульминацией такого экспериментирования [речь идет об “Аквариуме”] стал уникальный и больше никогда не повторявшийся концерт. “Аквариум” вышел на сцену Ленинградского Рок-клуба в таком составе: БГ, Курехин, Чекасин, Андрей Отряскин [гитарист из авант-рокового проекта “Джунгли”], Титов и Кондрашкин. Песни БГ звучали в тяжелых, резких аранжировках, с полиритмичным перкуссионным сопровождением Кондрашкина, с атональной колючей гитарой Отряскина и пронзительным соло Чекасина. <....> Рок-клубовская аудитория была в шоке. В шоке, видимо, был и сам БГ. Я с ним ни разу не говорил об этом и пишу сейчас, полагаясь на свои собственные тогдашние – быть может, ошибочные – ощущения. Как мне показалось, Боря просто испугался. Как бы заинтересованно он ни относился к экспериментам, но тут он почувствовал, что власть – определение того, чем, собственно, является его любимое детище, - внезапно уходит из его рук…»
Очень
бы хотелось это услышать, конечно.
А вот познавательный факт из жизни Сергея Курехина:
«А затем [он – Дэвид
Харрингтон, лидер Kronos Quartet] уже целенаправленно попросил меня передать
Сергею Курехину вполне серьезный заказ – написать специально для них струнный
квартет. Kronos был тогда на подъеме [речь идет про 1988 год]. Квартет уже
вышел на свой звездный путь, но в то время сохранял репутацию умного и
серьезного ансамбля, ни в коей мере не профанирующего музыку. Исполнение и
неизбежное издание на пластинке Kronos курехинского опуса сыграло бы, казалось
мне, неоценимую помощь в международном продвижении моего друга. Когда по
возвращении домой я уже внятно, без американской суеты изложил ему суть
предложения Харрингтона, он поначалу согласился и даже, кажется, пытался что-то
из себя выжать. Однако то ли он не хотел и не мог заставить себя упорно
работать в кабинетной тиши – не его это было дело, - то ли просто почувствовал,
что сочинить и записать нотами серьезный струнный квартет, который в то же
время отвечал бы его эстетическим принципам, просто не получается, но на затею
эту он плюнул…»
Ну и просто забавная штука - кто бы знал, что «Странные игры», оказывается,
дебютировали не в Ленинградском рок-клубе, а в Клубе Современной Музыки,
специализировавшемся на фриджазе. А вот поди ж ты.
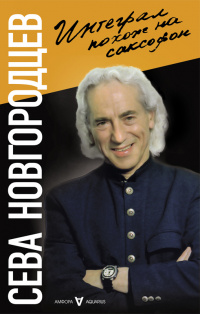
Такая же история со, скажем, замечательной книгой
воспоминаний Севы Новгородцева «Интеграл похож на саксофон». Очень мне там
понравилось, к примеру, одно место, где юный Сева приходит к приятелю,
саксофонисту Сергею Герасимову, который делает мундштуки для саксофонов:
«Казалось, в тот момент все органы чувств Сергея были направлены на одно,
его зрение и обоняние, вкус и осязание перестали делать положенное им природой
и лишь помогали слуху понять глубину и тайну того, что вылетало из раструба. "Колокольчиков мало, - сказал он твердо, - земля есть, земли больше не надо, а
вот колокольчика надо добавить. И, пожалуй, асфальта". Лицо Сереги приняло
мечтательное выражение. "Локджо Дэвиса слышал? Вот у кого асфальт! Звук прямо дымится!" Я неопределенно
покачал головой, было ясно, что в моем музыковедении были серьезные пробелы. "А
Колтрейн?" - осторожно спросил я. "Колтрэйн это ртуть! – с неожиданной
свирепостью заявил Серега. – С бронзой!" Далее наш разговор все более напоминал беседу двух гоголевских мужиков,
оценивавших достоинства колеса чичиковской брички и рассуждавших, доедет ли это
колесо до Москвы. Мы говорили про "песок" Сэма Бутеры, "войлок" Пола Гонзалеса
и "поющий бамбук" Пола Дезмонда. От Серегиного идеализма отдавало юностью, пионерским костром.
- Чего бы ты хотел добиться, какая у тебя мечта? – спросил я Серегу, как в
отряде. Он расплылся в счастливой улыбке.
- Я хотел бы сделать такой мундштук, - сказал он, - чтобы я ехал на машине,
высунув его в окно, а сзади бежал бы Стэн Гетц и кричал: "Продай!!!"…»
Короче, почитайте!
Мы уходим прямо в даль…
«Там, где…», Дмитрий Озерский

Отвечая на вопрос о любимых поэтах (или, если говорить умнее, о поэтах, оказавших наибольшее влияние), Дмитрий Озерский называет три фамилии – Пастернак, Введенский, Хлебников. Мне кажется, это очень верно: отточенные формулировки (если можно употреблять это слово в отношении стихов) Пастернака, заумь и вселенский абсурд Введенского и вселенская же грусть и мудрая ирония Хлебникова – составляющие стихотворных текстов Озерского, которые, существуя в общем поле русской поэзии, остаются совершенно узнаваемыми и абсолютно авторскими и оригинальными. При этом, творчество Озерского делится как бы на две (три, если говорить еще о прозе) части: как автор почти всех песен группы «АукцЫон», Озерский по-хлебниковски (и по-крученыховски) использует слова и буквы именно как слова и буквы, как звуки, существующие вместе с музыкой, как поэт же он продолжает обэриутовскую традицию грустного абсурда, за которым, кажется, скрывается от всего того, что его окружает.
Запрещено искать рассвет –
Проснешься через десять лет.
Запрещено искать закат –
Очнешься десять лет назад.
Не пей весной туман ночной –
Вернешься карликом домой.
Не трогай тень луча луны –
Увидишь бабушкины сны…
«Там, где…» - единственная книга стихов Озерского. Некоторые из этих стихов стали песнями «АукцЫона» - Леонид Федоров уже сделал из них «страшилки», некоторые пока остались стихами, Озерский называет их детскими. На вопрос, как он отличает детские стихи от взрослых, Озерский пожимает плечами: нравятся детям – значит детские.
Снег лежит, как птица белый,
А внутри – другое дело!
В небе звезды догорают –
Человечки отдыхают.
Пусть вокруг метель и стужа,
Только все это снаружи,
Там, где сосны за окошком,
Там, где лунная дорожка,
А внутри сопят, как мышки,
Человечки-коротышки,
И летят клубочки дыма,
И зима проходит мимо…
В книге «Там, где…» стихи Озерского дополнены рисунками Гавриила Лубнина – художника и поэта, который в своих стихах существует примерно в том же пространстве, что и Введенский, и Хармс, и Олег Григорьев, и Дмитрий Озерский, в пространстве победившего абсурда, в пространстве, в котором звук слов не менее важен, чем их смысл. И лучшего дополнения к стихам Озерского придумать невозможно.
И только один вопрос не дает мне покоя – почему Озерский называет свои стихи детскими?
Город спал и не заметил
Приближения ворон.
Только маленькие дети
Горько плакали сквозь сон.
Только выли, как старушки,
Из подвальной черноты
Злые кошки-побирушки
И бездомные коты.
Только совы веселились,
Только трубы да столбы
Затряслись и покосились
От вороньей ворожбы…
Мы все отменно пишем…
«Всякая жизнь», Виктор Ширали

Поэт Виктор Ширали («У вас в каждом ауле князь», – шутил Ширали про отца в 1970-е) был одним из лидеров ленинградского андерграунда (хотя сам он, по его словам, это слово не любит – ему больше по душе слово «авангард») или так называемой «второй культуры» (это определение мне нравится больше). Он – из поколения Виктора Кривулина и Елены Шварц, немного младше (буквально, пять-шесть лет) Бродского и Аронзона, два раза припадал к руке Анны Андреевны – один раз, когда та была жива, второй раз на панихиде, дружил с Довлатовым, Топоровым и Вознесенским, ну, и так далее. Ширали – поэт. Однажды они читали вместе с Аронзоном и Бродским. После чтения каждый высказывался. «Бродский снисходительно похвалил меня, про Аронзона сказал, что писал он так лет шесть назад. Я сказал, что стихи Аронзона мне понравились, а Бродского показались скучны. А мудрый Леня: “Ребята, мы все отменно пишем”…»
Или вот, например, стихотворение, которое Ширали прочитал одному из священников, с которыми встречался, еще в молодости:
Ученики завидуют Христу
Пройдут года и станутся апостолами
Какой-то Бог, бродяга и хлестун
Ладонями, как пятаками, по столу.
Довольно: поюродствовал и баста!
Тебе бы только шляться по шоссе
Давно никто не верит твоим басням
Живи, как все.
Иисус сидел, глазами мысли удил
И проворачивая слов педаль,
Сказал, как выхаркал, Иуде
– Предал!
Сказал, встал, вышел, улыбнулся в темень,
За стенками апостолы гогочут.
Чесалося завшивевшее темя
И думалось – близка Голгофа.
«Тут мой отец Моисей заставил меня исповедоваться и каяться еще раз, потом он так же тщательно исповедовал мою семидесятилетнюю маму, потом девяностолетнюю бабушку, которая еще была жива, а потом остался ночевать, испугавшись вечерних хулиганов. Я его уложил на постель бабушки, там ему должно было сниться меньше грешных снов. Смешной был священник – сказал, чтоб я выбросил или продал все свои книги и купил труды святых отцов, снял со стенок все свои картинки, особенно мой портрет работы славного художника Гаврильчика, дабы не разводить в моем доме культа личности…»
Все, что я цитирую, – это из маленькой книжечки «Всякая жизнь», в которой собраны крошечные прозаические автобиографические зарисовки Ширали – о времени и о себе. И это, пожалуй, одна из самых точных картин того удивительного времени – ленинградских 1970-х, когда еще не было ни «Клуба-81», ни Рок-клуба, а были только кочегарки, какие-то чтения, пьянство, блядство и еще что-то, самое важное – то, чего больше не было ни до, ни после. Ну, или это только так кажется, тому, кто не жил в те времена (то есть мне).
В «Википедии» о Викторе Ширали написано: «…российский поэт. В настоящий момент поэт живёт в Санкт-Петербурге, продолжает писать и печататься». Пусть так и будет.
Есть о чем поговорить…
«Не надейтесь избавиться от книг!», Умберто Эко, Жан-Клод Карьер

Это
будет длинный текст с минимумом моих слов. И речь в ней пойдет о книге с лучшим
на свете названием «Не надейтесь избавиться от книг!». Это диалог двух
интеллектуалов, Умберто Эко и Жан-Клода Карьера, ненавязчиво направляемый
Жан-Филиппом де Тоннаком. Не стоит пугаться слова «интеллектуалы» - диалог этих
двух мужчин легкий, шутливый и дико интересный. Они говорят об истории
литературы и книгоиздательстве, о древних культурах и новом кино, о глупости и
заблуждениях, о вере и религии, о собственных коллекциях и о тех книгах,
которых никогда не читали. В результате их диалог превращается даже не в
увлекательную историю литературы, но вообще в некую историю искусств –
во-первых, тут очень много фактов, а во-вторых, они все это так рассказывают,
что сразу хочется все прочитать, узнать побольше, покопаться в ящиках
букинистов. В общем, дико крутая книжка, которую я настоятельно всем советую.
Я решил выписать себе на память несколько цитат, а получилось много. Кое что
вырвано из контекста, кое что – просто понравившиеся мне байки, а кое что –
готовые афоризмы. Не, ну вдруг эти цитаты привлекут ваше внимание к этой замечательной
книге!
***
Жан-Клод Карьер: Может ли человек хорошо выражать свои мысли, если он не умеет
ни читать, ни писать?
Умберто Эко: Гомер несомненно ответил бы «да»…
Жан-Клод Карьер: Нет ничего более эфемерного, чем долговременные носители
информации. Эти банальные, набившие оскомину рассуждения о недолговечности
современных носителей, вызывают у нас с вами, ценителей первопечатных книг,
лишь легкую улыбку, не правда ли? Я принес вам из библиотеки вот эту книжицу,
изданную на латыни в конце XV века в Париже. Взгляните. Если открыть ее на
последней странице, мы увидим надпись, набранную по-французски: «Сей часослов,
предназначенный для Римской церкви, закончен в день двадцать седьмого числа
сентября в год тысяча четыреста девяносто восьмой для Жана Пуатевена,
книготорговца, проживающего в Париже на улице Нев-Нотр-Дам». Слова написаны в
старой транскрипции, форма записи даты давно не используется, но мы все равно
легко можем ее прочесть. То есть мы все еще можем прочитать текст, напечатанный
пять веков назад. Однако мы не можем просмотреть видеокассету или CD-ROM,
которому всего несколько лет. Если только мы не держим у себя в подвале старые
компьютеры…
Жан-Клод Карьер: У меня как-то была встреча с Леви-Строссом – по настояние
издательства «Одиль Жакоб», которое хотело, чтобы мы вместе с ним сделали
книгу-диалог. Он любезно отказался, со словами: «Не хочу повторять то, что
раньше сказал лучше»…
Жан-Клод Карьер: Я думаю о том, как мы читаем книги: наш глаз движется слева
направо и сверху вниз. В арабской, персидской письменности, в иврите все
наоборот: глаз движется справа налево. Я подумал, а не влияет ли эта разница на
движение камеры в кино? В большинстве случаев в западном кино камера движется
слева направо, тогда как в иранском кино, не говоря о других, я часто замечал
обратное движение. Почему бы не представить, что наши читательские привычки
могут обуславливать наш способ видения? Инстинктивные движения наших глаз?
Умберто Эко: В таком случае обращу ваше внимание на то, что западный
крестьянин, распахивая поле, сперва идет слева направо, а потом возвращается
справа налево, а египетский или иранский крестьянин сначала идет справа налево,
а затем возвращается слева направо. Это потому, что направление движения пахаря
в точности соответствует направлению бустрофедона*. Только в одном случае
движение начинается справа, а в другом – слева. Это очень важный и, на мой
взгляд, недостаточно изученный вопрос. Нацисты могли бы сразу же
идентифицировать крестьянина-еврея…
* Бустрофедон (или «двунаправленное письмо) – способ письма, при котором
направление чередуется в зависимости от четности строки: если первая строка
пишется справа налево, от вторая – слева направо, третья – снова справа налево
и т.д. (движение, напоминающее движение быка с плугом на поле). При перемене
направления письма буквы писались зеркально. Бустрофедон встречается в
памятниках лувийского, южноаравийского, этрусского, греческого, малоазийского и
др. письма.
Жан-Клод Карьер: Пророкам, как настоящим, так и мнимым, всегда свойственно
ошибаться. Не помню, кто сказал: «Если будущее – это будущее, оно всегда
неожиданно». Великое свойство будущего – постоянно удивлять. Меня всегда
поражал тот факт, что в золотой век фантастики, продолжавшийся с начала ХХ века
до конца 50-х годов, ни один автор не предугадал появление пластмассы, которая
заняла такое значительное место в нашей жизни…
Умберто Эко: В 60-е годы (работая в издательстве) я заказал перевод книги
Дерека де Солла Прайса «Малая наука, большая наука». В ней при помощи
статистики автор показывал, что число научных публикаций в XVII веке было
таково, что хороший ученый мог постоянно быть в курсе всего, что печаталось,
тогда как в наше время тому же ученому невозможно даже ознакомиться со всеми
«краткими изложениями» (abstracts) статей, касающихся его области исследований…
Умберто Эко: Современный, так называемый «буржуазный» роман зарождается в Англии
при весьма специфических экономических обстоятельствах. Авторы пишут романы для
жен коммерсантов и моряков – людей, которые, по определению, все время
путешествуют, - то есть для женщин, умеющих читать и располагающих для этого
свободным временем. А также для их горничных, поскольку и у тех и у других есть
свечи, чтобы читать по ночам. Буржуазный роман возник в контексте торговой
экономики и обращен в основном к женщинам. А когда выяснилось, что господин
Ричардсон делает деньги, рассказывая истории о горничных, тут же нашлись и
другие претенденты на трон..
Жан-Клод Карьер: Если писатель не хочет стать жертвой отсева, совет ему такой:
вступить в союз, примкнуть к какой-нибудь группе, не оставаться в одиночестве…
Умберто Эко: Во время одной поездки в Австралию меня заинтересовал опыт жизни
аборигенов, не тех, нынешних, которые почти вымерли под влиянием алкоголя и
благ цивилизации, а тех, что жили на этих землях до того, как там высадились
европейцы. Но чем они занимались? В бескрайней австралийской пустыне они,
будучи кочевниками, осваивали местность, передвигаясь по кругу. Вечером они
ловили ящерицу или змею, готовили из нее ужин, а утром отправлялись дальше.
Если бы вместо того, чтобы ходить по кругу, они прошли чуть дальше по прямой,
то достигли бы моря, где их ждало настоящее изобилие. Во всяком случае, в наше
время, как и прежде, в их изобразительном искусстве преобладают круги. Это
напоминает абстрактную живопись, впрочем, необычайно красивую. Однажды во время
этого путешествия мы отправились в одну резервацию, где была христианская
церковь и священник. И этот священник показал нам внутри здания большую
мозаику, в которой конечно же использовались одни круги. Он сказал, что эти
круги, по словам аборигенов, представляют Страсти Христовы, хотя объяснить,
почему это так, он не мог. Мой сын, не имеющий религиозного образования, тогда
еще подросток, тут же смекнул, что кругов этих четырнадцать. Очевидно, что это
четырнадцать этапов Крестного Пути…
Жан-Клод Карьер: Расскажу вам историю, поведанную мне Питером Бруком. Во время
Первой мировой войны Эдвард Гордон Крэг – великий театральный режиссер,
Станиславский английского театра – оказывается в Париже и не знает, чем
заняться. У него небольшая квартирка, немного денег, и в Англию он, разумеется,
вернуться не может. Чтобы развлечься, он ходит к букинистам на берег Сены.
Как-то раз он купил там две вещи: первая – перечень улиц Парижа времен
Директории со списком людей, живущих по тому или иному адресу, вторая –
относящийся к тому же периоду дневник обойщика, продавца мебели, который
записывал в нем свои визиты к клиентам. Крэг положил рядом перечень и дневник и
два года потратил на то, чтобы восстановить точные маршруты обойщика. На основе
этих данных, невольно предоставленных мастером, он сумел воссоздать некоторые
любовные истории и даже случаи супружеских измен времен Директории. Питер Брук,
который хорошо знал Крэга и представлял, насколько тщательной была его работа,
говорил, что эти всплывшие истории были совершенно очаровательны. Так, чтобы
добраться от одного клиента к другому, мастеру требовался час, а если он
затратил вдвое больше времени, то, вероятно, где-то останавливался:
спрашивается – для чего?..
Жан-Клод Карьер: Единственное, что по-прежнему пишется от руки – и то не
всегда, - это медицинские рецепты.
Умберто Эко: Общество придумало фармацевтов, чтобы расшифровывать их почерк…
Жан-Клод Карьер: Проблема черновиков вдруг напомнила мне об одном приезде
Борхеса в 1976 или 1977 году. Я тогда только что купил дом в Париже, и там шел
ремонт, царил беспорядок. Я зашел за Борхесом в его гостиницу. И вот мы
подходим к дому, идем через двор, он держит меня под руку, поскольку почти
ничего не видит, мы поднимаемся по лестнице, и, не замечая своей оплошности, я
счел уместным извиниться за кавардак, которого он, разумеется, не мог видеть. А
Борхес мне отвечает: «Да, понимаю. Это черновик»…
Жан-Клод Карьер: Когда я изучал классическую филологию, один профессор в
течение четырех месяцев излагал нам «гомеровский вопрос». Вывод его был таков:
«Теперь мы знаем, что гомеровские поэмы, вероятно, были написаны не Гомером, а
его внуком, которого также звали Гомер»…
Умберто Эко: Ничто не порождает столько толкований, как бессмыслица…
Умберто Эко: О богомилах* и павликианах** со слов их врагов известно, что они
поедали детей. Но то же самое говорили и о евреях. Все враги – неважно, чьи это
враги – всегда пожирали детей…
* Богомилы (от имен болгарского священника Богомила) – название еретического
движения в христианстве X-XV веков, которое появилось на Балканах (Болгария) и
оказало влияние на французских катаров.
** Павликиане (предположительно от имен апостола Павла) – одно из наиболее
значительных по размаху и последствиям еретических движений, зародившееся в VII
веке в Армении и получившее широкое распространение в VIII-IX веках в Малой
Азии и в европейских владениях Византийской империи.
Жан-Клод Карьер: Мне сразу приходит на ум необычный трехтомный труд «Безумие
Иисуса», в котором автор объясняет, что этот человек на самом деле был
«физическим и умственным дегенератом». Автор, Бине-Сангле, был известным
профессором медицины, свое эссе он опубликовал в начале ХХ века, в 1908 году.
Процитирую несколько блестящих отрывков: «Демонстрируя симптомы хронической
анорексии и кровавого пота, скоропостижно скончавшийся на кресте от потери
сознания при глотании, усугубленной существующим левосторонним плевритным
кровоизлиянием, очевидно, туберкулезного происхождения…» Автор уточняет, что
Иисус был маленького роста, с недостаточным весом, он происходил из семьи
виноделов, где употребляли много вина, и т. д. Короче, «вот уже тысяча
девятьсот лет западное общество живет за счет ошибки в диагнозе». Исследование
написано сумасшедшим, но серьезность его подхода не может не вызывать уважения…
Умберто Эко: В 1869 оду некий Андрие опубликовал книгу о вреде зубочисток. А
некий господин Экошоар писал о различных техниках сажания на кол. Другой, по
фамилии Фурнель, в 1858 оду написал о пользе наказания палками, приведя список
знаменитых писателей и художников, которых били палками, от Буало до Вольтера и
Моцарта.
Жан-Клод Карьер: Не забудьте про Эдгара Берийона, члена Французской академии,
который в 1915 году написал, что немцы испражняются обильнее, чем французы, и
по объему их экскрементов можно даже сказать, в каких местах они побывали…
Умберто Эко: До написания «Маятника Фуко» я опубликовал исследование о подобных
(публикующих книги за счет автора) издательствах. Вы отправляете свой текст в
одно из этих издательств, и оно, не скупясь, расточает похвалы очевидным
литературным достоинствам вашего произведения и предлагает его опубликовать. Вы
взволнованы. Вам дают подписать договор, в котором указано, что вам надлежит
оплатить издание вашей книги, в обмен на что издательство обязуется сделать
все, чтобы книга получила множество газетных откликов и даже, почему бы нет,
престижные литературные награды. В контракте не оговаривается, сколько
экземпляров издатель должен отпечатать, но подчеркивается, что нераспроданные
экземпляры будут уничтожены, «если остатки тиража не будут выкуплены автором».
Издатель печатает триста экземпляров, сто и них предназначается автору, который
раздает их друзьям и знакомым, а две сотни отправляются в газеты и журналы,
которые тут же выбрасывают их на помойку.
Жан-Клод Карьер: При одном только взгляде на название издательства.
Умберто Эко: Однако у издательства есть свои доверенные журналы, в которых
вскоре будут опубликованы хвалебные рецензии на эту «значительную» книгу. Чтобы
завоевать восхищение своих близких, автор приобретает еще, допустим, сто
экземпляров (издатель их быстренько допечатывает). К концу года автору
сообщают, что продажи были не слишком успешными и что остатки тиража (который
был, по словам издателя, десятитысячным) будут уничтожены. Сколько экземпляров
из него вы желали бы выкупить? При одой мысли, что его драгоценный труд может
быть истреблен, автор приходит в отчаяние. И покупает три тысячи экземпляров.
Издатель тут же допечатывает три тысячи, которых раньше не существовало, и
продает их автору. Предприятие процветает, так как издатель не несет ровно никаких
расходов на распространение…
Умберто Эко: Мы уже убеждались, что издатели порой бывают достаточно глупыми и
отвергают шедевры. Это еще одна глава в истории невежества. «Я, наверное,
чего-то недопонимаю, но у меня в голове не укладывается, зачем этому господину
нужно на тридцати страницах описывать, как он ворочается в кровати перед сном».
Это первый отзыв о романе «В поисках утраченного времени» Пруста. А вот по
поводу Моби Дика: «Не думаем, чтобы эта вещь пользовалась спросом на рынке
детской литературы». Ответ Флоберу по поводу «Госпожи Бовари»: «Сударь, вы
похоронили ваш роман в ворохе деталей, хороiо выписанных, но совершенно
излишних». Эмили Дикинсон: «Сомневаюсь. Все рифмы неправильные». Ответ Колет по
поводу «Клодины в школе»: «Не удастся продать и десяти экземпляров». Джорджу
Оруэллу по поводу повести «Скотный двор»: «Истории о животных в США будет
невозможно продать». Касательно «Дневника» Анны Франк: «Кажется, эта девушка не
видит и не чувствует, как можно поднять эту книгу над уровнем обыкновенного
курьеза». Но этим грешат не только издатели, есть еще голливудские продюсеры.
Вот мнение одного «охотника за талантами» о первом выступлении Фреда Астера в
1928 году: «Он скверно играет, не умеет петь, и к тому же лысый. Может как-то
выкарабкаться за счет танца». А вот по поводу Кларка Гейбла: «И куда мне девать
парня с такими ушами?»…
Жан-Клод Карьер: Когда мы с Бунюэлем снимали «Млечный путь», фильм,
иллюстрирующий христианские ереси, я придумал сцену, которая нам очень
понравилась, но слишком дорого стоила и поэтому не вошла в фильм. Где-то с
сильным грохотом приземляется летающая тарелка, открывается кабина пилота.
Оттуда вылезает зеленое существо с антеннами и потрясает крестом, к которому
прибито такое же зеленое существо с антеннами…
Жан-Клод Карьер: Флобер говорил, что глупость – это желание делать выводы.
Глупец хочет сам прийти к окончательным и бесповоротным решениям. Он хочет
навсегда закрыть вопрос…
Жан-Клод Карьер: Вы совершенно справедливо сказали, что те, кто сжигает книги,
прекрасно знают, что делают. Необходимо оценить опасность текста, чтобы
захотеть его уничтожить. В то же время цензор – не сумасшедший. Испепелив
несколько экземпляров запрещенной книги, он ее не уничтожит. Ему прекрасно это
известно. Но само действие в высшей степени символично. И главное, оно говорит
остальным: вы тоже имеете право сжечь такую книгу, не сомневайтесь, это хороший
поступок…
Умберто Эко: Если во Франции вы продадите две-три сотни экземпляров, это
рекорд. В Германии, чтобы о вас хорошо думали, нужно продать не меньше
миллиона. Самые маленькие тиражи в Англии. Англичане в основном предпочитают
брать книги в библиотеках. Что же касается Италии, то она, кажется, стоит
где-то перед Ганой. Зато итальянцы читают много журналов, больше, чем французы.
Во всяком случае, именно пресса нашла хороший способ вернуть нечитающих людей к
книге. Каким образом? Так произошло в Испании, в Италии, но не во Франции.
Ежедневная газета за весьма скромную плату предлагает своим читателям вдобавок
книгу или диск. Книготорговля выступила против такой практики, но в конце
концов эта практика утвердилась. Помню, когда роман «Имя розы» предлагался
таким же образом в качестве бесплатного приложения к газете «Репубблика»,
газета продала два миллиона экземпляров (вместо обычных 650 000), и число
читателей моей книги дошло до двух миллионов (а если учесть, что книга может
заинтересовать всю семью, осторожно скажем: четыре миллиона). Тут, возможно,
книготорговцам есть о чем волноваться. Однако через полгода, когда мы
подсчитали продажи за полугодие в книготорговой сети, то видели, что из-за
продажи карманного издания они понизились весьма незначительно. Значит, эти два
миллиона были не только теми людьми, которые и так ходят по книжным магазинам.
Мы завоевали новых читателей…
Жан-Клод Карьер: Приятно допускать, что библиотека не обязательно должна
состоять из книг, которые мы читали или когда-нибудь прочтем. Это книги,
которые мы можем прочесть. Или могли бы прочесть. Даже если никогда их не
откроем…
Декорации для идеального преступления
«Большое путешествие», Агата Кристи

«Дорогая мамочка! Все очень хорошо: каюта отличная, очень просторная. Мне так нравятся мои фиалки. Береги себя, родная, я тебя очень люблю. Напишу тебе с Мадейры. С любовью, твоя Агата», - написала 20 января 1922 года с парохода «Юнион-касл» королева детектива Агата Кристи. Это – первое письмо, отправленное ею из кругосветного путешествия, совершенного вместе с мужем – за десять месяцев 1922 года они обогнули глобус, увидели кучу стран, пообщались с диким количеством людей, и все это Кристи фиксировала – в письмах и фотографиях.
«Приехали вчера ночью. На вид гостиница похожа на огромную ратушу, очень удобная… Мисс Монтегю сегодня утром прокатила меня на машине по городу, показала резиденцию губернатора, где леди Чаплин завела настоящий зверинец… Еще у нее три белых абердинских терьера, причем за каждым ухаживает личный слуга! У леди Чаплин две собаки, кошки, две клетки с птицами, попугай и маленькая обезьянка, которая каждую ночь спит у нее в спальне!..» – это письмо из Солсбери (Харере).
С каждым днем письма Агаты Кристи становятся все подробнее, и в результате мы получаем подробную и крайне увлекательно написанную картину из пост-викторианской эпохи: одежда и еда, разговоры и правила этикета, характеры и смешные эпизоды – ничто не ускользает от внимательного взгляда Кристи. «В номере снова воняло потными коммивояжерами, но когда я распахнула окно, лучше не стало, и на следующее утро выяснилось почему: снаружи на балконе спали вповалку несколько коммивояжеров…» И плюс – подробный фотоотчет (правда, без коммивояжеров), как будто ты видишь это путешествие глазами Агаты Кристи.
«В этой книге – ни одного убийства», – вздыхает газета TheWashingtonPost. Но – не смогу указать первоисточник, однако я точно читал чье-то меткое наблюдение: королева детектива создала все необходимые декорации для идеального преступления, только не описала само преступление. Что ж – есть простор для фантазии (если кругосветного путешествия вам мало). Увлекательное, в общем, чтение.
P.S. Завтра, 15 сентября, исполняется 126 лет со дня рождения Агаты Кристи.
Неизвестный обэриут
«Десять вагонов», Дойвбер Левин

В издательстве «Книжники» вышла очень важная книга, и будет дико обидно, если она останется незамеченной.
Вот всего несколько слов, чтобы было понятно. Автор этой книги, Дойвбер Левин, до войны был успешным сценаристом и писателем, но, что важнее, он был одним из самых активных участников ОБЭРИУ (именно его фамилией подписаны многие манифесты Объединения), другом и соратником Даниила Хармса, постановщиком его «Елизаветы Бам» и, кажется, единственным обэриутом, который не писал стихов. Левин записался в ополчение в первые дни войны и погиб зимой 1941 года, едва ли не в первом своем бою. Его имя встречается в письмах Хармса и воспоминаниях Пантелеева и других лучших представителей литературы того времени. Его произведения, насколько я знаю, после войны не переиздавались. И ни один его «обэриутовский» текст не сохранился – архив Дойвбера Левина сгорел в блокадном Ленинграде. И, в принципе, этих нескольких слов достаточно, чтобы только что изданная книга «Десять вагонов» стала бестселлером.
А тут еще и тема книги. Два детских писателя – «высокий, костистый» Хлопушин (который, понятное дело, Хармс) и «пониже ростом, широкоплечий» Ледин (сам Левин) – во время дождя спасаются в первом попавшемся здании, которое оказывается еврейским детским домом – здесь живут дети, оставшиеся сиротами после погромов Гражданской войны. В результате Ледин и Хлопушин начинают ходить туда и записывать рассказы этих самых детей об их жизни в местечках, о погромах и так далее – удивительные истории, наполненные смертью, ужасом, приключениями, бегающими гусями и стреляющими пушками, свистящими пулями, пожарами, потешными боями с настоящей кровью, голодом, ранним взрослением и ощущением детства, с которым все равно ничто не сможет справиться… Каждая глава – одна или несколько историй, рассказанных детьми и записанных взрослыми с почтением сохраненными детскими интонациями и реакциями. Уникальная, на самом деле, книга, которая написана на рассказанном детьми взрослом материале и являющаяся одновременно и рассчитанной на подростков (потому что рассказы все же рассказаны подростками), и на взрослых (потому что тема – страшнее самого страшного сна, Холокост-то еще впереди).
И еще, интересная деталь, книга начинается вот с таких слов: «В осенний вечер 1929 года по Среднему проспекту Васильевского острова, в Ленинграде, шли два человека. Один – высокий, костистый, в мягкой темно-коричневой шляпе с опущенными полями, в суконной серой куртке и с палкой в руке. Другой – пониже ростом, широкоплечий, в черном пальто и в зеленой кепке, надвинутой на уши…» Будет время – сравните с началом «Мастера и Маргариты».
В общем, в тридцатые книга выдержала два переиздания, а потом потребовалось еще более восьмидесяти лет, чтобы она снова была издана. И я не знаю, что еще сказать.
Пусть придут, увидят сами, как обидели меня...
«Апельсинные корки», Мария Моравская

Мария Магдалина Франческа Людвиговна Моравская умерла то ли в конце 1940-х в США, то ли в конце 1950-х в Чили, а родилась в 1890-м в Польше, в небогатой католической семье, рано потеряла мать, а в возрасте 15 лет, из-за конфликта с мачехой, ушла из дома, оказалась в Одессе, потом в Санкт-Петербурге, включилась в революционное движение, дважды оказывалась в пересыльных тюрьмах. А еще она писала стихи – ей покровительствовал Волошин, ее хвалила Гиппиус (похвала этой женщины дорогого стоила), она общалась с Гумилевым, дружила с Эренбургом, была завсегдатаем «Бродячей собаки», потом, после Февральской революции, эмигрировала — через Японию и Латинскую Америку в США, и в результате оказалась практически забытой в России.
Книга «Апельсинные корки» появилась в 1914 году. Сборник детских стихов понравился Чуковскому и Георгию Иванову, а сама Моравская писала про него: «Это мои любимые стихи». И вот, наконец, благодаря маленькому, но гордому детскому издательству «Август», они переизданы.

Это – очень особенные детские стихи. Их главный герой – ребенок, которого обижают. Вернее, ему кажется, что его обижают – им владеют совершенно взрослые грустные мысли: ах, меня никто не любит! «Ах, обижают меня постоянно… Убегу в африканские страны…» — впрочем, пожалев «маму, котенка и братца», ребенок все же решит, что лучше остаться. Девочка из другого стихотворения требует убрать надоевших кукол, потому что мечтает о котенке, а Гришка из стихотворения «Беглец» убежал в Америку – его, конечно, нашли, на Приморском вокзале, и теперь он грустно кусает ноги, но мы-то знаем, что он – герой! И сразу в нескольких стихотворениях дети сидят дома, потому что на улице – дождь, или потому что они болеют, или еще по какой очень важной причине.
Никогда не читал таких детских стихов. Зато знаю, что дети начала ХХ века были очень этими стихами довольны. Надеюсь, и спустя сто лет дети будут счастливы, если родители прочитают им эти строчки. И совершенно уверен в том, что родителям эти строчки понравятся.
Горько жить мне, очень горько, —
все ушли, и я один…
Шебаршит мышонок в норке,
я грызу, вздыхая, корки, —
съел давно я апельсин.
Час я плакал длинный-длинный,
не идет уже слеза.
Соком корки апельсинной
я побрызгаю глаза.
Запасусь опять слезами,
буду плакать хоть полдня, —
пусть придут, увидят сами,
как обидели меня.
Ко дню расстрела Николая Гумилева (24 августа 1921 года)
«Угол отражения», Ида Наппельбаум

«Первым
писателем, с которым я встретилась в жизни, был Александр Куприн…» - это первые
строчки книги воспоминаний Иды Наппельбаум, и это не дает мне покоя. Потому что
очень сложно быть спокойным, если, родившись в 1974 году, ты знаешь Александра
Куприна через одно рукопожатие.
Пару лет назад я сидел в квартире на улице Рубинштейна,
за большим столом. И Екатерина Михайловна, дочь Иды Наппельбаум и поэта и переводчика Михаила Фромана, показывала мне
старые фотографии деда (того самого Моисея Наппельбаума) и старые книги –
первую книгу стихов Иды «Мой дом» 1927 года и книгу Фромана «Память», тоже
1927-го. Стихи Иды 1920-х хвалил ее учитель Николай Гумилев, особенно вот это
стихотворение:
Тот же город и тот же запах,
И Кремля утомленный звон,
В луковичных и пестрых шляпах
Быль отвесила низкий поклон.
Смутно вижу: о летнем театре
Афиши пестрят на столбе.
А душа моя делится на три –
О стихах, о былом, о тебе…
Ида вспоминала, как, спустя годы, встретилась с
Ириной Одоевцевой, и Ирина процитировала: «А душа моя делится на три…»
В этой квартире на Рубинштейна когда-то висел
портрет Гумилева. Осенью 1921 года его написала Надежда Шведе-Радлова – она
«писала его с натуры в последние месяцы перед арестом поэта». В 1937 году
Михаил Фроман, муж Иды, сжег этот портрет. «“Так надо, - еле слышно произнес
Фроман, - уже им интересуются, спрашивают людей”. Потом куски холста свернули в
рулон и унесли туда, где можно было их сжечь. Он горел, он дымил, он корчился в
тисках огня, он всполошил запахом масляной краски не только жильцов квартиры,
но и соседей по дому. К счастью, я всего этого не видела…» Потом, в самом
начале 1950-х, Иду арестовали – на допросах ей припомнили в том числе и тот
портрет. А уже потом, в 1985-м, по плохо сохранившейся фотографии и подсказкам
Иды Моисеевны художница Фаня Вяземская восстановила этот портрет. Когда мы
рассматривали старые фотографии, я все не мог оторвать от него взгляда.
Первая книга Иды Наппельбаум, «Мой дом», вышла в
1927 году. Вторая, «Отдаю долги», - в 1990-м. Вот она, передо мной, с
автографом Иды Моисеевны, и это тоже не дает мне покоя.
Знаю – точно серенькая мышка –
Ты, свернувшись, дремлешь в темном уголке.
Мне дыханья твоего не слышно
И не видно синей жилки на виске.
Далеко ты спишь сейчас, в другом бараке,
Но я чувствую дыхание твое,
По снегу пройдешь – и расцветают маки,
И на голых ветках соловей поет.
Кто ты мне? Чужая ведь, совсем чужая,
Встречная в дороге снеговой,
Но сплелась судьба моя лихая
С горькою твоей судьбой.
Все осталось там, за стрельчатым забором:
Юной дочери родимое лицо,
Мужниных забот незыблемые горы
И друзей старинных крепкое кольцо.
Ну, а здесь, за этою оградой,
Целый мир в тебе, в тебе одной,
И за все потер мне одна награда –
Знать, что мышка серая со мной!
Ночь темна, боль страшна…
«Блокадный дневник», Ольга Берггольц

«Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули обратно и говорят: “Живи”», - так писала Ольга Берггольц в дневнике вскоре после освобождения. Освободили ее в июле 1939 года, забрали в конце 1938-го – как и положено, за связь с врагами народа. Когда ее арестовали, она была беременной, ее били, в результате чего она потеряла ребенка. Две ее старших дочери умерли раньше – одна в возрасте трех лет, другая – восьми. Ее первого мужа поэта Бориса Корнилова (автора, например, текста «Нас утро встречает прохладой…») расстреляли в 1938 году. Ее второй муж, литературовед Николай Молчанов, умер в 1942 году в блокадном Ленинграде от голода... Так получилось, что мне очень трудно писать о текстах Ольги Берггольц, у меня к ним… слишком личное отношение. К тому же, ее дневники (и вообще, дневники как таковые) с трудом проходят по разряду литературы – в них должны разбираться историки, социологи, психологи. Для меня тексты Берггольц – и дневники, и стихи, и проза, - отдельная страница ранней советской литературы, и отдельная страница блокадных дневниковых свидетельств, и вообще отдельная и, повторюсь, очень личная история. Но мне очень хочется, чтобы ее тексты читали, и отдельно, чтобы читали ее дневники, которые уже очень скоро начнут выходить без купюр, с комментариями, большим изданием в несколько томов (и это, не побоюсь излишнего пафоса, обязательное чтение). Отрывки дневника, который Ольга Берггольц вела всю жизнь, печатались в разных изданиях, самое популярное – книга «Запретный дневник», тираж которой, кажется, уже кончился.
Ну вот, а некоторое время назад был издан ее «Блокадный дневник».
Первая запись блокадного дневника (вернее, «Блокадного дневника») Ольги Берггольц датирована 22 июня 1941 года: «14 часов. ВОЙНА!»
А вот последняя запись, 10 июня 1944 года: «Сын человеческий, сын человеческий, что ты сделал со своей женщиной, со своей матерью, любовницей, женой и сестрой? Что ты сделал с лучшим украшением и милейшей радостью мира – женским телом, женской силой? Не будет тебе ни прощенья, ни радости за все это. Что сделал – то и получишь! Ох, тяжкий мир. –
Ночь темна
Боль страшна…»
Между двумя записями – три года и целая жизнь.
Речь, условно, пойдет именно об этой книге.
Кроме обширных комментариев и блистательных сопроводительных текстов, там еще собраны рисунки времен блокады, черновики Ольги Берггольц и, едва ли не самое главное, - блокадные фотографии из ее архива с ее же пометками. Так получилось, что Берггольц – «голос блокадного Ленинграда» и все прочее – была еще человеком, который пытался сохранить память о блокаде. При том, что ее дневник – уже потрясающий памятник катастрофе, которая происходила в городе почти три военных года, Берггольц собирала фотографии, воспоминания, предметы – она собирала факты. Этих фактов в книге очень много.
И вот тут я сделаю небольшое отступление. Дело в том, что до недавних пор в Питере был только один памятник Ольге Федоровне Берггольц – на Литераторских мостках Волковского кладбища, его установили в 2005 году. Ну, и еще несколько мемориальных досок. Об одну из них, на улице Рубинштейна, какие-то упыри однажды зимой разбили бутылку с чем-то жидким – белая гадость растеклась по буквам и замерзла. Доску, конечно, довольно быстро отмыли, но она, мне кажется, стала немного темнее, чем была раньше.
Еще есть памятник в одном из дворов на Гороховой улице – он появился пару лет назад и подойти к нему мне так ни разу и не удалось: его поставили на обнесенной забором территории, которая, кажется, охраняется, и единственное, что я могу сказать про этот памятник, - он белый.
Так же несколько лет назад, осенью, в Невском районе Санкт-Петербурга, в школе номер № 340,
открылся музей «Истоки жизни – Невская застава» имени Ольги Берггольц. Открылся
громко, с посещением губернатора Санкт-Петербурга, так что о нем написали все
СМИ. И хорошо, иначе бы о нем вообще никто не знал. В музее три небольших
помещения. В одном, условно разделенном на несколько частей, есть кусочек
довоенного школьного класса, довоенной школьной учительской, пионерского
уголка. Дальше – довоенная комната простого рабочего Невской заставы и
блокадная комната – примерно в таких интерьерах проходила жизнь, в том числе, и
Ольги Берггольц. Отдельно – воссозданный по фотографии кабинет Ольги Федоровны,
с книжным шкафом, столом, печатной машинкой, портретами Евгения Шварца и Анны
Ахматовой. И потом – небольшой кинозал со стендами, на которых – фотографии
Берггольц с детства до смерти в 1975 году. Там есть и копии документов об
освобождении, и фотографии погибших дочерей и мужей, и книга с автографом, и
всевозможные издания – от самых первых, до недавно изданного «Запретного
дневника», в свое время изъятого чекистами. Большая страшная жизнь в трех
маленьких комнатах и на нескольких небольших стендах.
С этой школой Ольгу Берггольц ничего не связывает.
За исключением того, что сама школа расположена на улице ее имени и в районе
Невская застава, с которым связана биография поэтессы. И еще тем, что нашлись
люди, которые это все сделали, в буквальном смысле по крупицам собирая предметы
быта того времени – вроде бы недавнего, но слишком настырно уничтожавшегося. Но
это, в принципе, не музей Ольги Берггольц – это просто несколько с любовью
обставленных комнаток, пройдясь по которым можно получить минимальное
представление о довоенной жизни рабочих людей Невской заставы. И, чего греха
таить, вспомнить о том, что вот, дескать, была такая поэтесса Ольга Берггольц,
которая большинству известна как автор строк «Никто не забыт и ничто не
забыто», а на самом деле – удивительно красивая, талантливая и несчастная
женщина, которая прожила страшную жизнь, теперь уже навсегда вписанную в
историю города.
Года два назад в городе появился еще один памятник, в начале четной стороны набережной очень извилистой Черной речки, где стоят мрачноватые дома из серого кирпича. Последние годы жизни Ольга Берггольц провела в одном из них, в доме 20. Там, в огромном дворе, и открыли скульптурную композицию памяти Берггольц: тетрадь, печатная машинка, выбитые на камнях стихи. Я все еще не понимаю своего отношения к этому памятнику, но оно точно не отрицательное.
А вот одно из стихотворений, выбитых на памятнике, - «Ответ», 1962 год:
А я вам говорю, что нет
напрасно прожитых мной лет,
ненужно пройденных путей,
впустую слышанных вестей.
Нет невоспринятых миров,
нет мнимо розданных даров,
любви напрасной тоже нет,
любви обманутой, больной,—
ее нетленно-чистый свет
всегда во мне,
всегда со мной.
И никогда не поздно снова
начать всю жизнь,
начать весь путь,
и так, чтоб в прошлом бы — ни слова,
ни стона бы не зачеркнуть.
К чему я это все? Я это все к тому, что памятники – это очень здорово, и они, конечно, должны быть. Но, пока не опубликованы дневники Берггольц, никаких памятников недостаточно, сколько бы их ни было. «Блокадный дневник» – первая ласточка. А уже осенью выйдет первый том полного собрания дневниковых записей Ольги Берггольц.
Что же касается всего остального… «А для слова – правдивого слова о Ленинграде» - еще, видимо, не пришло время… Придет ли оно вообще? Будем надеяться…» – написала Берггольц в дневнике 20 марта 1942 года. Да, будем надеяться.
Посмотрите! Я живой!
«Dichtung und Wildheit. Комментарий к стихотворениям 1963–1990 гг.», Сергей Магид

В прошлую среду я написал два слова о двухтомнике Сергея Магида, в этот же раз хочу подробнее остановиться на втором томе – вернее, условно втором томе, потому что обе эти книги вполне могут существовать отдельно (правда, читать их лучше все же вместе, одну за другой).
Так вот, в воспоминаниях Магида впервые читаю про «Клуб 81» и вообще значимых людей ленинградской неофициальной литературы, как бы это… без прикрас. То есть, по-человечески понятно, что все было непросто, но другие «вспоминатели» на моей памяти такого себе не позволяли. Магид – правда, очень взвешенно, тактично и доказательно – пишет обо всех то, что думает, а думает он не всегда хорошо. Немного обидно за моего любимого Бориса Иванова, который, по Магиду, писал скучно, средне и так далее – впрочем, думаю, прозе Иванова такая оценка не повредит. Но вообще, конечно, очень интересно.
Вот, например, он как-то отправил Дмитрию Волчеку, который «Митин журнал», свою поэму, дело происходило в какие-то ранние 1980-е, кажется, и Волчек в письме эту поэму интеллектуально разнес в пух и прах. Магид приводит это письмо целиком, а дальше анализирует и само письмо, и свое состояние после его прочтения – от обиды «непризнанного гения» до понимания самого языка, которым Волчек пишет свое письмо-рецензию. Магид считает, что это письмо – реплика, брошенная условным столичным интеллектуалом условному простолюдину, который и фамилий-то, употребляемых автором письма, никогда не слышал (и, действительно, не слышал – возможности не было), это взгляд свысока, это (по Магиду) способ осадить кого-то, кто высовывается, - кого-то «из низов» тусовки, кому высовываться еще не позволено «старшими». Не знаю, так ли это на самом деле, но вообще довольно сильно похоже на правду – во всяком случае, Магид в своем анализе крайне убедительно переходит от частного к общему.
Или, например, тема антисемитизма в кругах неофициальных литераторов, о чем я никогда раньше не читал и даже не думал – во-первых, там же все интеллигентные люди были, а во-вторых, там же была толпа евреев. А вот, поди ж ты, все было, не могло не быть. Всплеск интереса к православию влек за собой всплеск «патриотизма» и совершенно логичного в этом случае русского шовинизма. «Гитлер уничтожил шесть миллионов евреев – как это может уложиться в голове?! Шесть миллионов! Поверить невозможно в это. Шесть миллионов! Но ведь, раз уничтожил шесть миллионов – миллионов!!! – значит, было за что? Не могло же это просто так произойти…» Магид и об этом тоже пишет подробно, и тоже пытается анализировать.
Еще интересные и убедительные размышления об Осипе Мандельштаме и его «Мы живем, под собою не чуя страны» в частности и о поэзии и тоталитаризме в целом. По Магиду (я мало читал литературоведения о Мандельштаме, так что не знаю – может, это вообще общее место и все об этом уже четверть века говорят, но для меня это все в новинку и дико интересно), так вот, по Магиду, этим стихотворением Мандельштам совершал самоубийство. То есть, понятно, что он не сознательно это делал. Просто поэт, который продолжает работать, не может находиться в состоянии «мертвого» человека, которого не замечают, и выход для него – настоящая смерть. И своим стихотворением он как бы обозначал, доказывал, что живой, кричал об этом – «Посмотрите! Я живой!» - и тем самым давал возможность себя убить, по-настоящему. Я невнятно объясняю, у Магида это все, понятное дело, яснее и четче.
Или отповедь Анатолию Найману за его суждения по поводу Надежды Мандельштам. Тут я уж точно не возьмусь пересказывать, тем более, отношусь с огромным уважением к Найману. Однако слова Магида звучат более чем убедительно и, к тому же, в конце он пишет о том, что в его суждениях (и в этих, и почти во всех остальных) нет личной заинтересованности. Почитайте – это очень, очень интересно, а после есть, о чем поговорить.
Вообще, вот эти попытки взвешенного анализа того, что происходило, и отличают книгу Магида от прочих воспоминаний о том времени – во всяком случае, от тех, что я читал. Хотя оно и понятно – для Магида это не воспоминания, а комментарии к стихами: он пишет о поэзии, которая оказала на него влияние (от того же Мандельштама, через Сатуновского, к Кривулину), и на людей, которые открывали перед ним двери восприятия (независимо от того, что было за этими дверями). Ну, то есть, - все-таки воспоминания, да.
Язык это...
Сергей Магид, «Рефлексии и деревья»

Лучше всех о Сергее Магиде написал сам Сергей Магид: «Осенью 1965 г., в возрасте 18 лет и 4 месяцев, на ночном дежурстве в аккумуляторной, я неожиданно обнаружил, что жизнь бессмысленна…»
Он вообще очень хорошо пишет: «Бродский говорит, что «язык это Бог». Наоборот, язык это только человек. Бог это то, что на своем неуклюжем языке человек пытается выразить. Но языком Бога не скажешь, не выскажешь. Всякая поэзия есть только бесконечное и неосуществимое приближение к тому, что выразить нельзя…»
Об этом, а так же о многом другом («Сайгон», «Клуб 81», неформальная ленинградская поэзия поздних 1970-х и 1980-х и так далее) Магид пишет в автобиографической книге, остроумно названной «Комментарии к стихотворениям 1963-1990 гг.» и являющейся совершенно самостоятельным изданием и, при этом, как бы вторым томом к почти полному своду его стихов «Рефлексии и деревья». Обе книги выпущены издательством «Водолей», как обычно, очень небольшими тиражами, и пропустить их, конечно, ни в коме случае нельзя.
не хочется говорить бог
газетную рвань клочковатый ветер
пинает по пустым переулкам
не хочется говорить любовь
ты улетаешь первой
я буду вторым, всегда буду вторым
не хочется говорить жизнь
окно распахнуто настежь на восьмом этаже
толпа головами в круг
молчит, на асфальт глазея
не хочется говорить смерть
в институте переливания крови
обжигают кроликов каждый день
пробуя на выживанье
а им никак не привыкнуть
и только раз еще
дай мне господи
испытать любовь
единственной в жизни женщины
чтобы смерть
когда встретимся
привела меня
в ярость
/ Сергей Магид, 1984 год /
Гуляй, поле!
Нестор Махно, «Воспоминания»
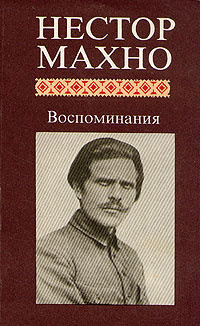
«Восемь лет и 8 месяцев моего сидения в тюрьме, когда я был закован (как бессрочник) по рукам и ногам, сидения, сопровождавшегося временами тяжелой болезнью, ни на йоту не пошатнуло меня в вере в правоту анархизма, борющегося против государства как формы организации общественности и как формы власти над этой общественностью. Наоборот, во многом мое сидение в тюрьме помогло укрепить и развить мои убеждения, с которыми и за которые я был схвачен властями и замурован на всю жизнь в тюрьму, - примерно с этих строк начинаются воспоминания Нестора Махно. - С убеждением, что свобода, вольный труд, равенство и солидарность восторжествуют над рабством под игом государства и капитала, я вышел 2 марта 1917 года из ворот Бутырской тюрьмы. С этим же убеждением я бросился на третий день по выходе из тюрьмы, там же в Москве, в работу Лефортовской анархической группы, ни на минуту не покидая мысли о работе нашей Гуляйпольской группы хлеборобов анархистов-коммунистов, работе, начатой ею одиннадцать-двенадцать лет тому назад и, несмотря на величайшие потери передовых ее членов, продолжающейся, как мне друзья сообщали, и сейчас…»
Воспоминания продолжаются по-боевому – это, на самом деле, настоящий боевик, только основанный на более чем реальных событиях. Махно пишет очень откровенно, не пытаясь ничего скрывать (во всяком случае, именно такое впечатление создается, когда читаешь его довольно-таки внушительные воспоминания). Крайне познавательное чтение – не только для людей, которые придерживаются анархистских взглядом. Воспоминания Нестора Махно – настоящая серьезная историческая литература, которая не теряет актуальности.
Нестор Махно умер (по одной из версий) 25 июля, в Париже, в возрасте сорока пяти лет от костного туберкулеза. Годовщина смерти одного из величайших анархистов – еще один повод почитать тексты, который он оставил нам в наследство.
Солнце встает над городом Ленина
«Тимур. “Врать только правду!”», Екатерина Андреева

Беда многих книг (и фильмов) подобного рода: их пишут словно для людей, которые в теме. Или, еще вернее, их авторам, вероятно, кажется, что выбранная ими тема настолько интересна и важна, что едва ли найдутся в большом мире те, кто не в ней. Результатом этого будет почти полное отсутствие пояснений, без которых простому смертному понять, о чем же на самом деле речь, крайне затруднительно. Данная претензия полностью относится к книге Екатерины Андреевой «Тимур. “Врать только правду!”», но это, пожалуй, единственная претензия. В остальном книга безупречна.
Как несложно понять из названия, книга посвящена Тимуру Новикову – пожалуй, одному из главных людей ленинградской неподцензурной художественной жизни 1980—1990-х. По сути, Новиков – тот самый человек, который аккумулировал эту жизнь, снабдил ее ясной целью (естественно, завоевание мира) и средствами достижения этой цели. «Врать только правду!» - сборник интервью, в котором главные герои художественной жизни поздне-советского Ленинграда и ранне-несоветского Санкт-Петербурга (кроме самого Новикова, тут присутствуют Олег Котельников, Елена Фигурина, Юрий Циркуль, Георгий Гурьянов, Сергей «Африка» Бугаев, Андрей Хлобыстин, Ирена Куксенайте, Аркадий Драгомощенко, Олег Маслов, Айдан Салахова, Константин Звездочетов, Сергей Летов, Евгений Юфит, Александр Флоренский и другие) говорят о Тимуре, о живописи и о себе, причем говорят диалоги их сохранены практически без внешней редактуры. Это сначала раздражает, а потом вдруг понимаешь – именно благодаря этому нарочитому отсутствию редакторской руки в текстах остается самое главное: эмоции. И еще – конечно, очень интересно следить, как и о чем предпочитают говорить герои ленинградского художественного андерграунда – кто-то говорит только о Тимуре, кто-то предпочитает говорить почти исключительно о себе.
Читая «Врать только правду!», я в очередной раз пришел к выводу, что люди, которые выстраивали ленинградский культурный контекст условно в поздние семидесятые и восьмидесятые, не зря остаются именно что питерским феноменом, даже оказав влияние на культурную жизнь страны вообще. Я сейчас не про рок-н-ролл, который выходил за рамки города хотя бы в силу своей массовости, я про остальное - про всяких художников, про Театр АХЕ, про Олега Григорьева, Виктора Кривулина, Владимира Уфлянда, про Рида Грачева, про Сергея Курехина или, скажем, про только что вернувшегося куда-то на свою планету Олега Каравайчука. Все эти парни – фигуры невероятного масштаба, однако, даже будучи известными за пределами города трех революций, они все равно остаются знаковыми фигурами именно этого странного города. Возможно, именно это спасает их от нелепой канонизации. Ленинград тех лет, более свободный, чем та же Москва (об это пишут во многих воспоминаниях), оставался какой-то герметичной структурой, вольно или невольно. Тимуру Новикову (как и Курехину, как и многим другим), конечно, было тесно в этом странном городе. Но он все равно остается в нем навсегда.
Главное и неоспоримое достоинство книги – содержащаяся на ее страницах попытка анализа, попытка понять, что ж это было такое. Несмотря на обилие литературы и фильмов, созданных в последнее время, таких попыток, по большому счету, было совершено крайне мало. Навскидку: книга «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока» Александра Кушнира. Фильм «Тимур Новиков. Ноль-объект» Александра Шейна. И – «Тимур. “Врать только правду!”» Екатерины Андреевой.
Украшение жизни
Воспоминания о Бабеле

30 июня (12 июля по новому стилю) 1894 года в Одессе родился писатель Исаак Бабель.
«Обаяние писательской силы Бабеля было для нас непреодолимо. Сюда присоединялось личное его обаяние, которому тоже невозможно было противиться, хотя в наружности Бабеля не было ничего внешне эффектного. Он был невысок, раздался более в ширину. Это была фигура приземистая, приземленная, прозаическая, не вязавшаяся с представлением о кавалеристе, поэте, путешественнике. У него была большая лобастая голова, немного втянутая в плечи, голова кабинетного ученого…
Стоит сказать несколько слов о манере чтения Бабеля; она была довольно точным отпечатком его натуры. У него был замечательный и редкостный дар личного единения с каждым слушателем в отдельности. Это было даже в больших залах, наполненных сотнями людей. Каждый чувствовал, что Бабель обращается именно к нему. Таким образом, и в многолюдных аудиториях он сохранял тон интимной, камерной беседы…»
/Лев Славин /
«Внешне он меньше всего походил на писателя. Он рассказал в очерке "Начало", как, приехав впервые в Петербург (ему тогда было двадцать два года), снял комнату в квартире инженера. Поглядев внимательно на нового жильца, инженер приказал запереть на ключ дверь из комнаты Бабеля в столовую, а из передней убрать пальто и калоши. Двадцать лет спустя Бабель поселился в квартире старой француженки в парижском предместье Нейи; хозяйка запирала его на ночь – боялась, что он ее зарежет. А ничего страшного в облике Исаака Эммануиловича не было; просто он многих озадачивал: бог его знает, что за человек и чем он занимается...»
/ Илья Эренбург /
«Я не встречал человека, внешне столь мало похожего на писателя, как Бабель. Сутулый, почти без шеи из-за наследственной одесской астмы, с утиным носом и морщинистым лбом, с маслянистым блеском маленьких глаз, он с первого взгляда не вызывал интереса. Но, конечно, только до той минуты, пока он не начинал говорить. Его можно было принять за коммивояжера или маклера. С первыми же словами все менялось. В тонком звучании его голоса слышалась настойчивая ирония. Многие люди не могли смотреть в прожигающие насквозь глаза Бабеля. По натуре Бабель был разоблачителем. Он любил ставить людей в тупик и потому слыл в Одессе человеком трудным и опасным…»
«О многословии Бабель говорил с брезгливостью. Каждое лишнее слово в прозе вызывало у него просто физическое отвращение. Он вымарывал из рукописи лишние слова с такой злобой, что карандаш рвал бумагу. Он почти никогда не говорил о своей работе "пишу". Он говорил "сочиняю". И вместе с тем он несколько раз жаловался на отсутствие у себя сочинительского дара, на отсутствие воображения. А оно, по его же словам, было "богом прозы и поэзии"…
/ Константин Паустовский /
«Бабель исчез из нашей среды, как исчезли другие наши товарищи, но все же он оставил неизгладимый, я бы сказал, ослепительный след в нашей литературе. Не по своей вине он не допел свою песнь…
/ Лев Никулин /
«Я уверена, что он был украшением жизни для каждого, кто встретил его на своем пути…»
/ Валентина Ходасевич /
Тугие паруса
«Одиссея. Песни IX-XII» в пер. Г. Стариковского, Гомер
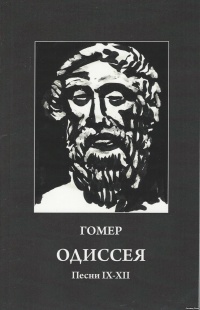
...Ничего не
бывает, поистине, отвратней и постыдней
женщины, вложившей подобное дело в сердце,
позорное дело, непотребный замысел убийство
законного мужа. Я, конечно же, верил
что буду встречен ласково детьми и челядью
по возвращении. Слишком подлым помыслом
пролила позор на себя и на прочих женщин,
которые будут, даже на добродетельных…
Когда вы последний раз открывали «Одиссею»? В юности, когда еще учились в школе? Или позже, в попытке понять, что же на самом деле происходит в телевизионном сериале одного известного режиссера? Настала пора вновь вернуться к этой, без дураков, бессмертной классике.
Дело в том, что выпускник Колумбийского университета (кафедра классической филологии), поэт, переводчик, эссеист Григорий Стариковский, который уже давно живет в пригороде Нью-Йорка, переводил оды Пиндара, элегии Проперция, «Буколики» Вергилия, сатиры Авла Персия, так вот, Стариковский несколько лет назад взялся за… «Одиссею». Не имея в виду соревнование с Жуковским, Григорий объясняет свою идею так: переводить надо для кого-то, и вот он решил попробовать сделать свой перевод для любимого писателя – Варлама Шаламова. И перевел песни 9-12; изданная в прошлом году книга вошла в шорт-лист премии «Мастер» за 2015 год.
«Гомер — это самозащита от всего того, что происходит вокруг, Гомер — то, что держит на плаву, не дает пойти на дно», — сказал Стариковский в интервью Александру Генису, который отозвался о выходе книги так: «До тех пор, пока поэт бьется над русским Гомером, жизнь и культура продолжаются». И оба они чертовски правы.
Я видел Тантала, его жестокую пытку:
он стоял в воде, доходившей до
подбородка,
чувствовал жажду, не мог зачерпнуть и
пригубить.
Когда старик нагибался, желая напиться,
вода пропадала, втянутая, и земля появлялась
чёрная под ногами, божеством иссушенная.
Рослые растеклись плодами сверху – яблони
с наливными яблоками, груши, гранатовые
деревья, оливковые в цвету, желанные смоквы.
Когда старик вытягивался, чтобы дотронуться,
ветер забрасывал ветви к сумрачным тучам.
Как говорил товарищ Вышинский....
«Социализм не порождает преступности», Алексей Ракитин

«Тот факт, что в районе Конного переулка и примыкающего к нему рынка орудует убийца или банда убийц, стал известен московской милиции 13 марта 1921 г., когда из-под снежной кучи на пустыре позади жилой застройки показалась грубая холстина обычного мешка, в котором тогда перевозили зерно…»
«Татьяна заступила в ночную смену, и около полуночи ей понадобилось перейти из одного больничного корпуса в другой, расстояние между которыми составляло едва ли 80 м. На ступенях лестницы, уже на выходе из здания, она на пару минут задержалась, заговорив с доктором. Но поскольку накрапывал мелкий дождь, разговор быстро закончился, и женщина направилась по своим делам. Но в соседнее здание она так и не вошла…»
Эту книгу можно открыть в любом месте и оказаться в начале или в середине (или в финале) кровавого триллера, который, к сожалению, основан на реальных событиях – автор книги «Социализм не порождает преступности» Алексей Ракитин провел поистине титаническую работу и написал подробную историю серийных убийц Советской России и Советского Союза, со следственными делами, свидетельствами очевидцев, психологическими портретами и экскурсам в историю. Историю, которая читается на одном дыхании.
А фраза, вынесенная в название, принадлежит Андрею Вышинскому, в тридцатые годы ХХ века – прокурору сначала РСФСР, а потом СССР. Но это – так, к слову.
Добродетель, злая птица
«Четки из ладана», графиня Нина Подгоричани

Жизнь любого (ну, хорошо, почти любого) человека достойна отдельной книги или, хотя бы, истории. Жизнь графини Нины Подгоричани книги более чем достойна, потому что больше всего на свете она похожа на роман. Если коротко, телеграфным стилем, то родилась графиня родилась в декабре 1889-го; дебютировала в 1910-е переводом английской сказки; в 1916-м подготовила свой первый стихотворный сборник (он, как и остальные ее поэтические книги, при жизни графини так и не был опубликован); во время Гражданской войны жила в колчаковском Омске; много переводила (включая Байрона и Браунинга); страстно увлекалась шахматами (много писала о них, в том числе и стихи, а в 1925-м была победила в первом женском шахматном чемпионате в Иркутске); была членом ИХЛО (Иркутское литературно-художественное объединение, ранее – «Барка поэтов», первое в Восточной Сибири литературное объединение поэтов, от пролеткультовцев до футуристов); в 1926-м приехала в Москву, печаталась в журналах, в 1930-е зарабатывала на жизнь драматургом Московского кукольного театра; в 1938-м была арестована (ее обвиняли в подготовке покушения на наркома иностранных дела Литвинова), и 17 лет она провела в лагерях и, позже, ссылке; в 1955-м, после реабилитации, вернулась в Москву, работала переводчиком, в 1961-м вышла ее единственная прижизненная книга (десять страниц!) – сборник детских стихов «Сначала – налево, потом – направо»; умерла в 1964-м, похоронена на Донском кладбище, некролог опубликовала газета «Шахматная Москва». Это если коротко.
А дальше начинается разговор о стихах (в прошлом году издательство «Гешарим – Мосты культуры» выпустило едва ли не полное собрание взрослых стихов графини крошечным тиражом), и этот разговор вести очень сложно. Дело в том, что манерные, декадентские стихи Нины Подгоричани почти полностью посвящены… любовному томлению и Богу. В этих стихах есть стройные мальчики, лепестки роз, любовники и любовницы, смятые постели, глаза, рты и руки, «Зачем пришла смущать монашеский покой?», «Не так опасна тигра пасть / Как твой открытый рот», есть трагическое, до смешного, стихотворение о случайном свидании девушки без ног и юноши без рук, есть монашки, грешницы и блудницы. И совсем нет никаких примет времени – ни колчаковского Омска, ни голода, ни Гражданской войны, ни крови, а если и есть боль, только – сердечная боль неразделенной любви. Кажется, что графиня Подгоричани – и мы никогда не узнаем, специально или нет, – прячется в выдуманный ею мир в попытке не заметить, как привычный ей мир катится в тартарары. В подробных комментариях в конце книги, в том числе, встречаются воспоминания о доме-салоне, который графиня создала в агонизирующем Омске начала 1920-х, и это салон, пожалуй, не уступал салонам дореволюционного Санкт-Петербурга. Лишь в «Сибирских триолетах», написанных в белом Омске, встречаются вдруг такие строки: «Чтоб не подпасть под власть твою, унынья праздный бес / Я постараюсь полюбить холодный снег и лес…»
«Я с эскимосом говорила - / Он отвечал мне кое как… / С индейцем, пламенным, как мак / Я целый час проговорила - / И право, было очень мило!.. / Но я стараюсь так и сяк, - / О чем бы я ни говорила, / Молчит угрюмый сибиряк!»
И от того очень странными, словно искусственными, кажутся в стихах графини строки о Ленине или внезапные взрывы футуризма:
Ее так недавно,
в двадцать седьмом
спорили: место ли
шахматам
в школе?
Не делаются ли –
поставим вопрос
ребром –
Не мозгу
от шахмат
мозоли?
А теперь –
ткните куда ни на есть –
В любую
точку
на карте
Всюду
для шахмат
место есть,
На каждом столе
и парте.
А теперь неумелому:
«Эх-ма ты.
Тоже боец –
куда там!
Не умеешь
расставить
шахматы.
Счета
не знаешь
квадратами!»
И такой,
закусив удила,
Как шахматный конь
вздыбится.
Вперед!
Была не была,
Надо и мне
- выбиться!..
А теперь, даже в недрах
в шахтах,
Глубоко под водой,
на воде,
Место найдется для шахмат
в е з д е.
Хоть в кабинке, того,
тесно.
Но возьмет их с собой
стратостат.
Ведь даже этой
сфере небесной
Объявили мы:
шах и мат!
Но в памяти, конечно, остается не это, а совсем другие стихи (и трогательная, ироничная, словно оторванная от времени и от земли, проза):
Добродетель, ты напрасно
К нам направишь путь
Плечи нежны, очи ясны
И упруга грудь.
Бедра стройны, члены гибки
Льнет пушок к губкам
И ни часа без улыбки
Не прожить губам.
Средь развали ворон ищет
Потемнее щель
Ту, где ветер злее свищет,
Что забыл Апрель.
Добродетель, злая птица,
Где гнездо совьешь?
Не найдешь, где приютиться
И ни с чем уйдешь.
Недетские детские стихи
«Сеттер Джек», Вера Инбер

Борис Слуцкий сравнивал Инбер с деревом, у котором ветви отсохли раньше, чем корни, — племянница Льва Троцкого, она всю жизнь жила в страхе за себя и свою семью, и писала то, что писала. И, одновременно с этим, писала пронзительную прозу и пронзительные стихи. Она начала писать в ранние двадцатые, и именно тогда появились ее самые красивые и самые известные детские стихи. «Ночь идет на мягких лапах, / Дышит как медведь. / Мальчик создан, чтобы плакать, / Мама – чтобы петь…» – кто не знает этих стихов?
Но, и об этом важно помнить, когда вы откроете книгу, – стихи Веры Инбер очень грустные. Сейчас, когда я с восторгом (с тем же восторгом, с которым читал, или, скорее, слушал эти стихи когда-то) прочитал книжку «Сеттер Джек», я вдруг понял: детские стихи Веры Инбер – это настоящая, большая поэзия, которая только притворяется детской.
День окончен. Делать нечего.
Вечер снежно-голубой.
Хорошо уютным вечером
Нам беседовать с тобой.
Чиж долбит сердито жёрдочку,
Точно клетка коротка;
Кошка высунула мордочку
Из-под тёплого платка.
— Завтра, значит, будет праздница?
— Праздник, Жанна, говорят.
— Всё равно, какая разница,
Лишь бы дали шоколад.
— Будет всё, мой мальчик маленький,
Будет даже детский бал.
Знаешь: повар в старом валенке
Утром мышку увидал.
— Мама, ты всегда проказница:
Я не мальчик. Я же дочь.
— Всё равно, какая разница,
Спи, мой мальчик, скоро ночь.
Как много нам открытий...
«Новое о Бурлюках», Евгений Деменок

Самое замечательное в этой книге (не пишу «интересное», потому что интересно там все) – история про то, как одесский культуролог Евгений Деменок, который сколько-то там лет назад решил посвятить большую часть жизни изучению архивных материалов, посвященных русскому авангарду, вознамерился раскопать хоть что-то о последних годах Людмилы, сестры основоположника русского футуризма Давида Бурлюка. На тот момент Женя знал только то, что она жила и умерла в Праге. Женя рассказывал, как поехал в Прагу с идеей в буквальном смысле обойти все пражские кладбища и найти-таки могилу Людмилы. К счастью, сработало правило нескольких рукопожатий – Женя поговорил с одним, потом с другим, и в результате оказался на крыльце дома, в котором Людмила жила последние годы. Оказалось, что там до сих пор живут ее потомки, и они не только рассказали ему то, что не рассказывали никогда и никому (возможно, просто никто не спрашивал), не только показали фотографии, которые никогда не публиковались, но и вынули из шкафа рукописную тетрадку. И вот таким, вроде бы, нехитрым образом в книге Евгения Деменка «Новое о Бурлюках» появились стихи Давида Бурлюка, которые не читал никто, кроме родственников футуриста.
В этой книге еще много чего интересного – море фотографий, автографов, картин, отрывков из писем и воспоминаний, каких-то неведанных подробностей. «Новое о Бурлюках» — не литературоведение, а записки архивариуса, заметки на полях, комментарии. Сведения, без которых, в принципе, можно обойтись (с другой стороны, а без каких сведений обойтись нельзя?), но которые придают нашим знаниям особую… пикантность. Это – еще несколько штрихов к жизни человека, который открыл Маяковского и вообще однажды изменил русское искусство, к жизни, которая, казалось бы, изучена вдоль и поперек. И, кроме того, это просто крайне увлекательное чтение – Жене Деменку и в разговоре, и в книгах удается с кажущейся легкостью увлечь слушателя/читателя, заинтересовать его, влюбить в предмет.
Я же не могу перестать думать вот о чем: это ж сколько еще открытий нам предстоит сделать! Женя, кстати, сейчас работает над новой книгой.
Читайте Тувима!
"Стихи", Юлиан Тувим
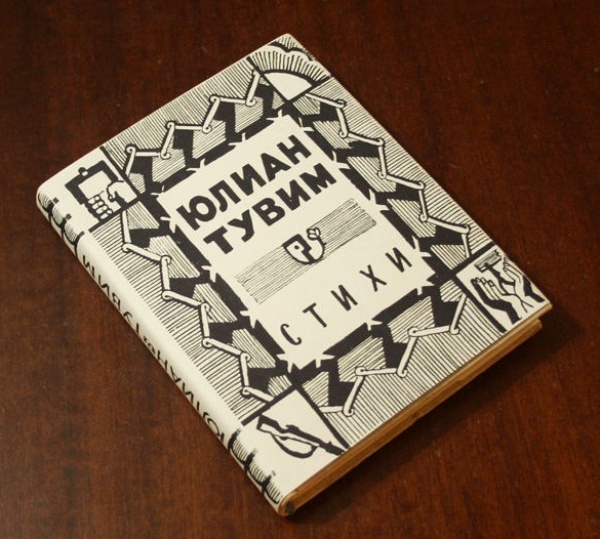
«Дорогие мои дети! / Я пишу вам письмецо: / Я прошу вас, мойте чаще / Ваши руки и лицо…» - кто не знает этих стихов Юлиана Тувима (в переводе Сергея Михалкова). Тувим вообще известен широким, читающим на русском языке, массам как автор детских стихов. Вернее, был известен – вряд ли сейчас найдется много людей, которые читают его детские стихи. С взрослыми, думаю, дела обстоят еще хуже. Между тем, Тувим в первую очередь взрослый поэт, причем один из главных в Польше.
Знаток языков (например, он переводил свои стихи на эсперанто), Тувим дебютировал в 1913 году (ему было 19 лет), а спустя два года стал зарабатывать переводами с русского (в результате перевел на польский много русской классики). К концу 1910-х он был известным в Польше литератором, основателем литературного кабаре Pikador, создателем поэтических групп, сотрудничал с ведущими литературными журналами, некоторые даже возглавлял. После начала Второй Мировой войны Тувим скитался по Европе – жил в Румынии, Франции, Португалии, Бразилии, в 1942-м переехал в Нью-Йорк, в сороковые сотрудничал с левой прессой, в 1946-м вернулся на родину, поселился в Варшаве. И все время активно писал.
Его ранние стихи – это (в противовес модному в те годы декадансу) оптимистичный гимн молодости, главный герой Тувима – молодой городской житель, счастливый и влюбленный. Но, чем дальше, тем сильнее тексты наполняет пессимизм, кроме того, Тувим обращается к сатире. Но все равно до конца своих дней остается лириком.
Однако, когда читаешь большой корпус текстов Тувима (на русский его переводили Анна Ахматова, Давид Самойлов, Николай Чуковский и другие) в хронологическом порядке, очень интересно наблюдать, как сквозь лирику – то академическую, то едва ли не простонародную – вдруг прорывается неожиданный футуризм.
А в мае
Я кататься привык, господа,
На передней площадке трамвая!
Город меня прошивает насквозь!
Я в голове что творится тогда:
Огни, огнива, беги, побеги.
И весело отчего-то,
Особенно у поворота.
На поворотах
Расправляю плечи самозабвенно,
А деревья шумят вдохновенно,
И пахнет весной
Шалеющий сад,
И ликует вода,
А улицы напропалую звенят:
В мае! в мае! –
Вот так и катаюсь на передней площадке трамвая,
Многоуважаемые господа.
Называется, между прочим, «Критикам». И еще стихотворение, одно из моих любимых, «Обыск»:
Трое – вежливо,
спокойно и с улыбкой:
"Так-с… А здесь?.. А тут?.."
Учтиво в душу лезли.
(На губах – усмешка юркой рыбкой,
А в зрачках – угроза скрытых лезвий.)
Этот, скучный, дряблый, будто весь поблеклый,
Притворяется. Другой, лощеный, в каске,
Шарит в книгах. Третий из-за стекол
Зорко щурит сыщицкие глазки.
"Что? Подвинуть? Можно".
(Там, под сердцем, что-то
Будто оборвалось и со стоном – в бездну.)
Липкий страх… А тот, рукой прикрыв зевоту:
"Ну-с… Пойдемте. Будьте столь любезны".
Вот такой поэт – разный, прекрасный и, кажется, сейчас в России, к сожалению, почти забытый. А зря. Читайте Тувима!
«Не подам руки грязнулям, / Не поеду в гости к ним! / Сам я моюсь очень часто. / До свиданья! Ваш Тувим».
Игры разума
«Легенды современности: Окупационные эссе», Чеслав Милош

Поэт, переводчик, эссеист, лауреат Нобелевской премии (1980), Праведник мира — Чеслав Милош писал эти тексты, названные теперь «Окупационными эссе», в 1942-1943 годах. После войны он публиковал эти тексты, правда, в разрозненном виде. Но, только читай их один за другим, понимаешь, что они представляют собой единый корпус текстов, способных существовать друг без друга, но приобретающих суперсилу лишь вместе, под одной обложкой.
Это очень сложные тексты, и про них очень сложно писать, особенно, не обладая тем интеллектуальным багажом, который был у Милоша (а в мире мало найдется людей, обладающих хотя бы сравнимым багажом знаний). Что такое «Окупационные эссе»? На первый взгляд, это литературоведческие тексты, посвященные Дефо, Бальзаку, Толстому, Стендалю и другим, и их вполне можно воспринимать именно как высокое литературоведение. Однако это, конечно, не только и не столько литературоведение — на основе классических произведений мировой литературы Милош рассуждает о времени и о себе, о современном ему мифотворчестве, об ответственности интеллектуала за происходящее вокруг. Сформировавшийся между двумя чудовищными войнами (а какие войны не чудовищны?), рожденный в 1911 году Милош пытается постичь происходящие в Европе, найти корни этому. Естественным для него является анализ литературы, в которой, как в капле воды, отражается мир.
Вторая часть книги — переписка (того же времени) Милоша и Ежи Анджеевского, автора, в числе прочего, романа «Пепел и алмаз», экранизированного Анджеем Вайдой. Литературовед Ян Блонский во вступительном слове очень точно формулирует суть эссе Милоша: «Мы оба — совершенно сознательно и как бы из центральной ложи — наблюдаем невообразимые преступления…. и, более того, мы чувствуем, что в любой час могут произойти преступления еще более ужасные. Какую позицию мы должны занять? Разумеется, мы осуждаем эти преступления. Но что мы должны сделать, чтобы понять, как такое возможно? И какими являются — или были — глубинные причины этих преступлений и ошибок? Где и в какой момент европейская цивилизация — оба писателя в этом не сомневаются — выбилась из колеи или сбилась с верного пути?..» И, чуть дальше: «Но оба понимают, что для философских рассуждений уже не время и что то, что необходимо выработать, это никакая не система, но позиция, которая позволит человеку, как написал бы старинный поэт, “бесстрашно столкнуться / С несчастьем самим и кровавому твердо / Показать победителя лик…” В интеллектуальные рассуждения, таким образом, незаметно вкрадывается личный момент. Ибо эта позиция не может быть только интеллектуальной, она должна вырастать из всего человека…»
Вот отрывок из письма Анджеевского Милошу: «Наверное, у Тебя неоднократно была возможность заметить, сколь частым явлением в наше время является разлад между мировоззрением человека и его жизнью. Разлад, правда, старый как мир, но мне кажется, что в настоящее время особенно резко обозначившийся. Редко встречаются люди, живущие в соответствии со своими высказываниями. Люди живут хуже, бедней и трусливей. Своей жизнью они на каждом шагу противоречат своим словам. Отовсюду заливает нас безмерность лжи, лицемерия и цинизма. Сомневаюсь, чтобы Диоген, живя в наше время, захотел жить в бочке. Подозреваю, что он писал бы статьи и оглашал по радио выступления. Рекомендующие такой образ жизни, но сам жил бы на современной фешенебельной вилле. Хотя все современные идеологии рекомендуют трудную жизнь, героическую и мужественную, идеал, к которому большинство современников стремятся и который практически реализуют, — это легкая жизнь. В то время как идеология пропагандирует самоотречение и жертвенность, ее приверженцы склонны скорее полными горстями наслаждаться жизнью. Современники с достойной удивления ловкостью усовершенствовались в поддержании неведения левой руки о том, что делает правая…»
А вот отрывок и письма Милоша Анджеевскому: «…в такие периоды, как нынешний, когда требуется максимальная быстрота решения, способность одним ударом разрубать гордиевы узлы, упорство, отказ от сомнений (иногда имеющий привкус дефетизма, то есть пораженчества), — есть ли место в таких условиях людям подобного типа (Милош говорит об «интеллектуалах» — прим. Е. К.); можно ли констатировать (причем не только теоретически, но и экспериментально), что возникает благожелательная для них атмосфера?». И, с некоторыми оговорками, отвечает утвердительно.
И, наконец, цитата из одного из эссе: «Выводы, вытекающие из раздумий над переживанием войны, скорее тревожны. Крепко веря в уничтожение доктрины расового сверхчеловека, можно спросить, удастся ли похоронить и забыть столь мощный заряд зла, как это пытались сделать после Первой Мировой войны, продолжая существовать в иллюзиях благоденствия. Все зависит от того, как совесть человека позволит ему справиться с сомнением. Если оно поселится в человеке, если борьбу за “жизненное пространство” он сочтет естественной, то на арену выйдут политики-реалисты, которые в равновесии сил и взаимных шахматных ходах государств будут искать единую основу международных отношений. А это, как мы знаем, ведет уже не к «малым войнам» между двумя государствами, а к тому, что должно кончиться фейерверком для всего земного шара. Если же человек преодолеет сомнение и вновь вернется на старый путь мечтаний о государстве объединенного человечества — еще неизвестно, какую формулу он выберет. То ли, сочтя, что цивилизация в ее нынешнем виде в принципе зла, захочет ее уничтожить, перепахать и строить новую, воспитывая массы в братстве нищеты и утраты личности? Или же, признавая, осознанно или неосознанно, традицию западного христианства, захочет цивилизацию обновить, обогатить и улучшить, заменяя устаревшие институции и приспосабливая их к новым требованиям? Неизвестно…» Даже страшно, до чего актуальная книга.
А по поводу времени появления этих эссе сам Милош говорил так: «…если все в тебе — дрожь, ненависть и отчаяние, пиши предложения возвышенные, совершенно спокойные, превратись в бестелесное создание, рассматривающее себя телесного и текущие события с огромного расстояния. Не берусь утверждать, что этот рецепт можно использовать всегда, но тогда он помогал…»
К возведению очередного памятника Иосифу Сталину
"Из забытой русской поэзии ХХ века"

На днях читал старый журнал «Континент» и в статье «Из забытой русской поэзии ХХ века» встретил имя, которого не знал.
Вильгельм Зоргенфрей – печатался в сборниках символистов, дружил с Блоком, был авторитетным переводчиком, издал единственную книжку стихов «Страстная суббота» (1922). Вот его стихотворение «Над Невой», 1920 года:
Поздней ночью над Невой
В полосе сторожевой
Взвыла злобная сирена,
Вспыхнул сноп ацетилена.
Снова тишь и снова мгла.
Вьюга площадь замела.
Крест вздымая над колонной,
Смотрит ангел окрыленный
На забытые дворцы,
На разбитые торцы.
Стужа крепнет. Ветер злится.
Подо льдом вода струится.
Надо льдом костры горят,
Караул идет в наряд.
Провода вверху гудят:
Славен город Петроград!
В нише темного дворца
Вырос призрак мертвеца,
И погибшая столица
В очи призраку глядится.
А над камнем, у костра,
Тень последнего Петра —
Взоры прячет, содрогаясь,
Горько плачет, отрекаясь.
Ноют жалобно гудки.
Ветер свищет вдоль реки.
Сумрак тает. Рассветает.
Пар встает от желтых льдин,
Желтый свет в окне мелькает.
Гражданина окликает
Гражданин:
— Что сегодня, гражданин,
На обед?
Прикреплялись, гражданин,
Или нет?
— Я сегодня, гражданин,
Плохо спал!
Душу я на керосин
Обменял.
От залива налетает резвый шквал,
Торопливо наметает снежный вал
Чтобы глуше еще было и темней,
Чтобы души не щемило у теней.
В этой статье в журнале «Континент» упоминаются Анна Радлова (второй ее муж покончил с собой, ожидая ареста, а она и ее первый муж были арестованы в 1945 году; умерла она в 1949-м, в лагере, от инсульта), Зоргенфрей (арестован и расстрелян в 1938 году), Сергей Нельдихен (арестован «превентивно», погиб в лагере около 1942 года, точных даты и места гибели неизвестно), Николай Олейников (расстрелян в 1937 году) и Сергей Заяицкий – единственный, кто умер «своей смертью», от болезни (туберкулез, 1930-й).
Последнее (уже довольно значительно время) я часто встречаю в Сети новости о том, что где-то на просторах необъятной России установили очередной памятник Иосифу Сталину. И не могу об этом не думать.
Точка. Тире. Точка.
«Век иной и жизнь другая», Юлия Эйдельман

Начну с того, что эту книгу я еще не дочитал – как раз в процессе. Но мне так нравится, что, как говорится, не могу молчать. Итак, Юлия Мадора-Эйдельман – дочь комсомольцев 1920-х, литсекретарь Ильи Эренбурга, педагог и вдова Натана Эйдельмана – и ее воспоминания.
Положа руку на сердце, нет ничего более интересного, чем воспоминания. Потому что, как правильно говорит Ирина Врубель-Голубкина, автор прекрасной книги «Разговоры в зеркале», нет ничего интереснее человеческой истории, а уж у Юлии Эйдельман история головокружительная в буквальном смысле слова. Всю жизнь, с раннего детства, она встречает на своем пути интереснейших людей (среди них – и Илья Эренбург, и Давид Бурлюк, и Борис Слуцкий, и еще много кто), и о каждом пишет – тактично, с любовью и, даже если порой ее взгляд на того или иного человека критичен, эта критика неизменно уважительна. Она пишет честно, что думает - то и фиксирует на бумаге, но ни единого раза не сводит счетов - важная и ценная деталь. Есть только один сорт людей, которые недостойны уважения этой женщины – подлецы и стукачи, которых, к сожалению, в ее жизни тоже было не мало. Но больше она, конечно, пишет о людях порядочных, и это не только обладатели известных фамилий. Один из самых запоминающихся эпизодов (наряду с забавными зарисовками о тех же Бурлюке или Глазунове) – про учительницу литературы, которая, в день выхода постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», вошла в класс и перед тем, как заявить, что стихи Анны Ахматовой чужды любому советскому человеку, целый урок читала ошеломленным детям эти прекрасные строки.
Юлия Эйдельман очень много пишет о людях – естественно, большая часть книги посвящена Натану Эйдельману и его друзьям. Но она так же подробно («вдумчиво» - именно это слово здесь будет уместно) пишет и о жизни, о быте, о собственных переживаниях, разочарованиях и любовях. Порой ее книга читается как захватывающий роман, порой – как откровенный дневник (тем более, что есть здесь и отрывки из дневников самой Юлии, и из дневников Натана Эйдельмана), но все это – живое и захватывающее свидетельство жизни целого поколения, это живая история страны. Но, какими бы ни были трагическими события, описываемые в книге (а в жизни человека, рожденного в СССР в 1930 году, таких событий было более чем достаточно, Юлия Эйдельман в первой главе в буквальном смысле перечисляет то, что случилось в 1930-м, и список этот далеко не полон), эти воспоминания наполнены интересом к жизни и к людям, желанием жить.
Короче говоря, замечательно чтение. Которое, к том же, начинается так: «В детстве хотелось научиться морзянке, манила загадочность ее знаков, они казались интереснее и значительнее слов. Тире. Точка. Тире. Напоминает эпитафию. Даты, между ними черта – и в ней уместилась жизнь…»
Берег там…
Шаши Мартынова, «ребенку Василию снится»
Под Новый год, когда лесник уезжает из своей сторожки в далекую командировку, кому-то приходится его заменять, чтобы не нарушился ход вещей. Испокон веков для этих целей выбирают ребенка – его выбирают тщательно, потому что спасение мира – дело крайне серьезное. Никто не знает, как в новогоднюю ночь ребенок спасает мир, и ребенок тоже молчит – так, говорит, ничего особенного, пирог ел, белок будил и кормил, то се… Взрослым не понять, но мир в результате оказывается спасенным. В этом году в сторожку лесника ездил Василий.
Ребенок Василий вообще – самый счастливый ребенок на свете. У него есть ручной бизон, ангел-хранитель (ну, почти), настоящий поезд (это такой поезд, который в пути), дом на дереве, личный мост, поле кукурузы, костры и целое детство, которое никогда не закончится, - мир, который ему подарила Шаши Мартынова. Сохранять в себе детство очень сложно, особенно когда ты вдруг становишься взрослым (толстые и взрослые пассажиры поезда, даже не настоящего, часто вдобавок еще и скучные, а детство скучным быть не может, иначе оно ненастоящее, как поезд). Шаши – человек серьезный: она редактор, переводчик, издатель, популяризатор чтения, у нее даже есть книжный магазин, но, наверное, главное, что у нее есть – то самое детство.
Ее «ребенку Василию снится» - это двадцать два сна, приснившихся ребенку Василию. Или не приснившихся, а случившихся в реальности, в детстве ведь сны – это не совсем сны. Двадцать два сна Василия – это сны из детства, воплощенные не только в слове, но и в живописи – с некоторых пор Шаши (в сутках которой совершенно точно больше часов, чем у других людей) рисует, так что «ребенку Василию снится» - это еще и двадцать два рисунка, которые тоже – детские сны (просто откройте книгу – она в буквальном смысле наполнена летом и тем ощущением, которое сложно вербализовать, но которое и обозначает детство – то самое, мое детство).
И вот еще что важно: «Василий теперь в своей личной шлюпке, гребет к берегу. Берег там, куда гребет Василий». И не наоборот.
У меня на кухне Уильям Берроуз...
Дню независимых книжных посвящается
Наш постоянный букжокей Евгений Коган разрешил "Голосу Омара" эксклюзивную публикацию своего стихотворения. Очень кстати.
У меня на кухне Уильям Берроуз
Поедает на завтрак пишущую машинку,
В которую превратился Франц Кафка.
На балконе Филипп К. Дик переходит с амфетаминов на травку.
В спальне Генри Миллер читает «Это я, Эдичка» –
Старый роман про негра на задворках помойки.
Но вернемся на кухню – там Чехов около мойки
Трет сестру. Сестра довольна вполне.
Дюма-отец и Дюма-сын маринуют мясо в вине.
Где-то рядом Пушкин А. С.
Читает «Онегина».
Вслух.
«Чертов бес,
Сукин сын», – восклицает про него Хармс.
В коридоре звонит телефон.
«Кого?» – «Вас».
К телефону подходит Чуковский, он будет
Говорить долго, прислонившись к дверному косяку,
На том конце провода Пастернак, его монолог вызывает у Корнея тоску.
Но Корней по природе своей – почти эстет.
Он говорит и слушает, слушает и ест…
В это время Маргарет Дюрас жарит на кухне омлет.
На кухне вообще больше всего народа
И накурено,
Лучше туда не соваться.
Высоцкий орет из репродуктора, его голос грозит сорваться.
Слышно в коридоре и даже в кабинете.
Там, при закрытых дверях, братья Вайнеры,
Сан Антонио и Рекс Стаут
Распивают по третьей бутылке, на этикетке – «стаут».
Им нравится пребывать в кабинетной тиши,
Особенно, когда на кухне такой тарарам.
Но за окном звенит последний трамвай – в гости едет поэт Мандельштам.
Он везет два кусочка колбаски,
Сыр, копченую рыбу, вареные яйца.
Ему пришла телеграмма от Джойса, в телеграмме – новые сказки
Для умных. Мандельштам спешит поделиться.
На кухне как раз готово мясо в вине,
Рекс Стаут, вздохнув, достает стаут – кажется, всем хватит вполне.
Анна Ахматова, Надежда Яковлевна и Франсуаза Саган мечут на стол,
Филипп К. Дик, накурившись, пытается скрыть улыбку и смотрит в пол.
Берроуз доел Кафку,
Сартра тошнит в клозете,
На столе блокадный хлеб, зато вдоволь другой снеди.
Скоро приедет старший брат Довлатова
И сам Довлатов
На мопеде.
Братья только что поменялись романами, наверное, будут читать по кругу.
В коридоре Милн обходит стороной Чуковского, кому-то протягивает руку.
В этой странной компании
Все так или иначе знакомы,
Все
Так или иначе
Рады
Друг другу.
Я наблюдаю за ними через окно – моя квартира занимает первый этаж.
Над ней – еще добрый десяток этажей, под ней – подземный гараж.
Я стою под окном, стараясь не спугнуть гостей.
Потом пойду подслушивать через замочную скважину и щели входных дверей.
Потом уйду и вернусь, когда дома уже никого не будет.
А пока – пусть болтают,
Думаю, от меня не убудет.

Человек, который придумал самолет
«Хрестоматия для поэтов-пистолетов», Василий Каменский

Василий Каменский родился в каюте парохода, шедшего по Каме (капитаном парохода был его дед по материнской линии, мать звали Евстолия). В самом начале века двадцатилетний Каменский начал писать для газеты «Пермский край», там же познакомился с марксистами и примерно в тогда же ненадолго стал артистом – два события, не связанные друг с другом, но определившие дальнейшее поведение будущего классика. Чуть позже он возглавил стачечный комитет уральских железнодорожных мастерских и за это даже отсидел в тюрьме. А в 1908 году в Санкт-Петербурге познакомился с Бурлюком, Хлебниковым и другими людьми, которые как раз тогда начинали менять русскую литературу. И завертелось – первый сборник Каменского, «Нагой среди одетых», вышел в 1914 году, а сам Каменский стал одним из трех (вместе с Бурлюком и Маяковским) футуристов. Дальше (до и после революции) он активно печатался, рисовал (в том числе, создавал «железобетонные поэмы» на грани слова и графики) участвовал в «ЛЕФе» написал пьесу «Степан Разин», болел, в конце тридцатых лишился обеих ног и умер в 1961 году, кода за окном, в который уж раз, воцарилась совсем другая эпоха, революция была забыта, Маяковский давно застрелился, Бурлюк доживал свои дни в Америке, и с футуризмом было более или менее покончено.
Примерно в 1921-1922 годах Каменский написал «Хрестоматию для поэтов-пистолетов» - поэму прямого действия, развенчивающую графоманов всех мастей.
Стиль рококо
Видать далеко
И что есть мочи
Напечатано:
«Голубые очи».
Ура. Ура. Букет. Конфет.
Вот как родились вы Поэт.
И главная интрижка
Что книжулька или книжка
Или просто фига-мига
В 7 страничек
Говорится:
«Моя книга».
Без кавычек
«Хрестоматия для поэтов-пистолетов» - виртуозная сатира, в которой обыгрываются самые заезженные рифмы и самые дурацкие образы, в которой бездарных поэтов-пистолетов обзывают последними словами, в которых Каменского бросает от реализма к звукоподражанию – он, например, имитирует звуки улицы. Или, предположим, пишет страшное:
Мой проект вас бы всех доконал:
Собрать Поэтов до последнего вздорного –
Вы прорыли бы дивный канал
От Белого моря до Черного…
В 1922 году поэма издана не была. Потребовалось 95 лет, чтобы она была напечатана на бумаге типографским способом – в уникальном питерском издательстве «Красный матрос» сатирическая поэма Василия Каменского – судя по всему, одно из важнейших произведений русского футуризма, – издана, как обычно, мизерным тиражом, но с подробными комментариями и серьезной вступительной статьей. В которой, в частности, написано, что скоро в Питере выйдет большая книга произведений Василия Каменского. Будем ждать.
А еще Каменский был одним из первых российских авиаторов (говорят, именно ему принадлежит слово «самолет»), но это – совсем другая история.
Жизни и судьбы
«Жизнь и судьба Василия Гроссмана», Семен Липкин / «Прощание», Анна Берзер

Есть несколько причин прочитать эту книгу, и я сейчас кратко попробую их сформулировать (хотя основная причина – личность самого Василия Гроссмана – и так ясна всем, кто умеет читать по-русски).
Причина первая – Семен Липкин. Блистательный российский поэт и переводчик, друг Эдуарда Багрицкого и знаток персидского языка, прошедший войну, обвиненный в прославлении сионизма (куда ж без этого), в 1979 году (вместе с женой Инной Лиснянской и Василием Аксеновым) вышедший из Союза писателей в знак протеста против исключения из него Виктора Ерофеева и Евгения Попова, участник «Метрополя», так вот Семен Липкин – человек, владеющий русским языком как мало кто во второй половине ХХ века. Читать его тексты – будь то воспоминания или ненавязчивое литературоведение – невероятное удовольствие. Липкин складывает слова в предложения так, как это делают поэты, - он подгоняет одно слово к другому, но не превращается в стилиста, а остается настоящим писателем, как бы пафосно это ни звучало. Его «Жизнь и судьба Василия Гроссмана» - это именно что воспоминания и ненавязчивое литературоведение. Липкин, долгие годы друживший с Гроссманом, тактично и, при этом, подробно рассказывает о своем друге – авторе великого романа «Жизнь и судьба», и о самом романе, и о том, что творилось вокруг этого романа и вокруг его автора, и, одновременно, Липкин пишет о литературе вообще, и о времени, и, конечно, о себе. И это – большая литература.
Причина первая – «Прощание» Анны Берзер, вторая часть книги. Анна Берзер – литературный критик и, как писала о ней Людмила Петрушевская, «редактор и друг» Василия Гроссмана (и, отмечу, еще доброго десятка определивших русскую литературу второй половины ХХ века писателей – Юрия Домбровского, Виктора Некрасова, Георгия Владимова, Владимира Войновича, Фазиля Искандера, Александра Солженицына и других) – волею судеб стала свидетельницей разгрома, учиненного над романом «Жизнь и судьба» в последние, в буквальном смысле, дни жизни Сталина. «Прощание» – очень подробные, наполненные документами и бесценными стенограммами, и крайне беспощадные воспоминания об этом чудовищном времени. «Скромная женщина из редакции, – писали об Анне Берзер в связи с этой книгой, – находившаяся на самом простреливаемом плацдарме времени, оказалась тем пушкинским летописцем, благодаря которому ничто не укроется “от суда людского”…»
И вот теперь, наконец, наступает время третьей причины. Книга, о которой идет речь, вышла в московском издательстве «Книга» в 1990 году тиражом 100 000 экземпляров. Сто тысяч экземпляров, по рубль тридцать каждый. Судя по тому, что последние годы происходит (и, судя по всему, будет и дальше происходить) в стране, эти сто тысяч экземпляров остались непрочитанными, как и многие другие книги, тоже изданные гигантскими, еще советскими, тиражами.
К ужасу своему приходится в очередной раз написать – да, вот еще одна не теряющая своей актуальности книга. Когда же это кончится…
Кроме всего прочего
«Доктор велел мадеру пить…», Павел Катаев
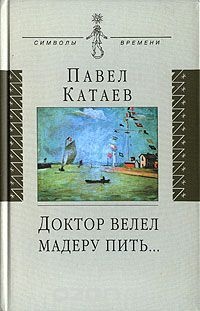
Я недавно прочитал книгу Павла Катаева «Доктор велел мадеру пить…» – воспоминания сына об отце, Валентине Катаеве. И мне, кроме всего прочего, очень там понравилась одна история. Дело было так…
Вот стихотворение «Картина Марке», которое Валентин Катаев написал в 1922 году:
Мелким морем моросил
Бриз и брызгал в шлюпки,
Вправо флаги относил,
Паруса и юбки.
И, ползя на рейд черпать
Пузоватый кузов,
Гнал по волнам черепах –
Черепа арбузов.
Картину Катаев увидел в Пушкинском музее. И так она ему понравилась, что он попросил своего знакомого художника сделать копию. Тот сделал, и эта копия висела у писателя в кабинете. Она вдохновила Катаева написать «Белеет парус одинокий». Более того, Катаев сделал картину эпиграфом книги – в первом, «госиздатовском», издании «после форзаца шла белая глянцевая страница с небольшой цветной репродукцией названной картины Марке». А в конце 1930-х Марке побывал в Москве, встретился с Катаевым, пришел к нему в гости и… увидел на стене свою картину. Художник был в шоке. Только потом заметил: облако немного другой формы. Катаев тогда сказал: «Если эту копию так трудно отличить от оригинала – подпишите ее». Марке согласился, а кисть и масленые краски принесли от Ильфов, живших в соседнем подъезде.
Да, и еще. Когда Валентину Катаеву был 15 лет, он написал стихотворение «К тебе, Христос», с такими строчками:
К чему стремимся мы смущенною душою,
Что ищем мы в житейской суете?
Ужель достигнем в мире мы покоя?..
Вот такая история, которая мне очень понравилась – ведь, по сути, именно для того, чтобы узнавать такие истории, мы и читаем книги, да? Ну, кроме всего прочего.
Простая история
«Про дворника Кузьмина»

Казалось бы, – всего каких-то пять документов уголовного дела №1105. Простая история, в которой, как в зеркале… Ну, и так далее.
История, значит, такая. Жил-был дворник, звали его Андрей Дмитриевич Кузьмин. 1876 года рождения, уроженец Рязанской губернии, Касимовского района, деревни Мимишкино. Беспартийный, несудимый, из рабочих. Жил в Питере на Кузнечном переулке, в доме 14-б, в квартире 71 – это была дворницкая, вход прямо в арке, в Питере много таких. У него была жена, которая находилась на его иждивении, детей у них было шестеро. 5 сентября 1941 года дворника Кузьмина арестовали по доносу, а 6 сентября заключили под стражу по статье 59-7 ч. 2 УК – «Пропаганда или агитация, направленная к возбуждению национальной или религиозной вражды или розни, а равно распространение или изготовление и хранение литературы того же характера». Арестовали его за два антисемитских высказывания – за две недели до этого товарищ Жданов заявил, что с профашистской агитацией против евреев нужно бороться изо всех сил, и ленинградская прокуратура взяла под козырек. Так что уже 10 сентября «тройка» Военного трибунала войск НКВД СССР Ленинградской области вынесло обвинительный приговор – пять лет лишения свободы с отбывание срока в исправительно-трудовых лагерях и с последующим поражением в правах, тоже на пять лет. Это – первая часть истории.
Вторая часть начинается 8 октября 1941 года. Из Ленинграда, который уже находится в кольце блокады, через Ладогу на барже отправлен этап – две с половиной тысячи человек: 800 женщин в одном отсеке, 200 немецких военнопленных в другом, в третьем – около двухсот политических и уголовники. Первую ночь (пишет в книге «Физтех, ГУЛАГ и обратно» В. Косарев) заключенные стояли в темноте и духоте. Утром им спустили доски, чтобы они сами себе сделали нары. Однако построенные нары не выдержали и рухнули, задавив тех, кто был снизу – так на барже появились первые трупы. К вечеру охрана открыла люки и начала расстреливать тех, кто пытался выбраться, - мертвые и раненые падали обратно в трюм. Потом люк закрыли, и уголовники устроили резню, отнимая одежду у политических и убивая их, а потом, сломав перегородку в женский отсек, начали насиловать находившихся там. Охрана никаких действий не предпринимала. На третьи сутки прибывший буксир начал было транспортировать баржу, но во время бомбежки бросил ее посреди Ладожского озера, где она находилась еще примерно трое суток. До Томска в результате добрались 1748 заключенных. Трупы погибших сначала выбрасывали в воду, а тех, кого не выбросили, захоронили в общей могиле, вернее, яме на берегу реки Сясь между деревнями Судемье и Подрябинье. Трупы с баржи доставали солдаты, приписанные к Сясьскому целлюлозно-бумажному комбинату – им выдавали противогазы, чтобы они могли выдержать запах, и спирт, чтобы они могли выдержать вообще. Часть трупов перед захоронением была сожжена. Никаких опознавательных знаков на месте захоронения оставлено не было, но каждую весну река вымывала из земли человеческие кости, а на запросы общественности Волховский исполком отвечал, что «патриотов среди захороненных там нет». Скорее всего, жизнь дворника Кузьмина закончилась именно в этой яме – ну, или в воде Ладоги. Во всяком случае, до Томска он не доехал. Кроме него, до Томска не доехали, например, племянник певицы Анастасии Вяльцевой Дмитрий Вяльцев, 1914 года рождения, и директор Ленинградской научно-исследовательской лаборатории материалов Александр Вальтер. Сейчас на месте захоронения стоит покосившийся деревянный крест.
Вот такая простая история, в которой, как в зеркале... Ну, и так далее.
Сделай погромче
"Eponymous", Саша Скворцов
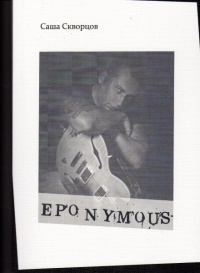
Сейчас стало модно заниматься осмыслением 1990-х – для кого-то диких, для кого-то благодатных. По сути, по нынешнему отношению к тому «смутному» времени можно почти с легкостью понять отношение к времени нынешнему, не менее смутному, но – в другом смысле. Российские девяностые легче всего оценивать с трех точек зрения – через бандитов (и в этом смысле много сделало искусство кино), через экономику (в этом я ничего не понимаю) и через музыку. Есть еще политика, но там сам черт ногу сломит – никто до сих пор не может понять, что же это было.
Так вот, про музыку – недавно были изданы несколько книг о музыке 1990-х, среди которых самые громкие – «Песни в пустоту» Александра Горбачева и Ильи Зинина и «Формейшен» Феликса Сандалова. При этом только что в маленьком питерском издательстве «ШSS» тиражом в 500 экземпляров вышла, возможно, лучшая на сегодняшний день книга о девяностых – в том числе и с точки зрения музыки.
Книжка называется Eponymous, написал ее Саша Скворцов – человек, ответственный за группу «Дурное влияние», возможно, лучшую группу российского пост-панка, и эта книжка одновременно похожа и не похожа на многие другие книжки с условно дружественной тематикой, похожа по-хорошему. Чем-то неуловимым она, например, похожа на «Больше Бена» Павла Тетерского и Сергея Сакина – книжку, которая в свое время (в самом начале 2000-х) была чуть ли не культовой, а так же слегка напоминает какие-то эпизоды из первых книг Ильи Стогоffа – потому что неустроенность жизни в девяностые и здесь, и там соседствует с жаждой приключений, с первой заграницей, с тем неуловимым состоянием, когда ты вдруг осознаешь, что повзрослел. Но Eponymous лучше и тактичнее. А еще она вызывает в памяти ассоциации с знаменитой книгой Ника Хорнби Hi-Fi и, к сожалению, значительно менее известной книгой Джо Мено «Сделай погромче» - потому что все эти книги про любовь к музыке и про саму музыку как состояние ума, и еще потому что и к этим книгам, как и к Eponymous, хочется составить саундтреки. Но Eponymous, конечно, роднее.
Впрочем, Скворцов пишет не только и не столько о музыке, не только и не столько о девяностых (и восьмидесятых, и двухтысячных). Его книжка, как бы банально это не звучало, - про взросление, которое пришлось на сложное, спорное, дикое и очень интересное время. Моя подруга, которая открыла для меня эту книгу (о таких книгах очень сложно, вернее, практически невозможно узнать без пресловутого сарафанного радио), написала на своей facebook-страничке очень точные слова: «Для меня это не столько история петербургской клубной сцены… сколько история про общий опыт поколения…» Все именно так, хотя здесь, конечно, очень много и про музыку тоже – про пост-панк, про Ленинградский рок-клуб и про рок-н-рольное время, которое ушло безвозвратно. Или все-таки не ушло.
К тому же, книжка просто хорошо написана. И еще, очень приятно, что Саша Скворцов, в отличие от многих других «героев рок-н-ролла» из твоей/моей юности, остался адекватным человеком. Сейчас это редкость.
Мышцы жизни
«Черный квадрат», Казимир Малевич

«Черный квадрат» – самое известное произведение Казимира Малевича, и, понятно, что книжку, составленную из статей и манифестов художника, иначе не назвать. Хотя именно о «Черном квадрате» в этом сборнике едва ли можно найти. Зато есть много чего другого – Малевич тут очень четко формулирует принципы нового искусства, призванного разрушить старое: «Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыдных венер, тогда только увидим чисто живописное произведение…»
Вообще, тексты Малевича (особенно манифесты) можно при желании воспринимать в отрыве, так сказать, от производства – в смысле, не воспринимать эти тексты именно как программные, а просто получать удовольствие от «футуристического» языка: «Честь футуристам, которые запретили писать женские окорока, писать портреты и гитары при лунном свете. Они сделали огромный шаг – бросили мясо и прославили машину. Но мясо и машина есть мышцы жизни. То и другое – тела, двигающие жизнь».
Малевич очень подробно и понятно объясняет, что такое супрематизм и с чем его едят, определяет цели и задачи нового искусства и анализирует причины его, искусства, актуальности. «Черный квадрат» - сборник очень серьезный (порой даже – слишком серьезных) искусствоведческих текстов, написанных человеком, который в буквальном смысле изменил искусство ХХ века.
И из-за этой нарочитой серьезности особенно неожиданно вдруг читать, скажем, вот такое:
«Прошли десятки тысяч лет, когда человек встал, поднялся и побежал, бежит, бежит и до сих пор; на помощь создает заводы, фабрики, готовит инженеров, изобретает машины, ибо руки человеческие не успевают вырабатывать продукт, ноги не успевают покрывать пространства, желудок не успевает переваривать пищу. А желанного блага нет и нет, мало того, все знамена в пути своем меняются, как верстовые столбы, на которых написаны и версты, и исчислено время достижения благого постоялого двора, а оказывается, что за постоялым двором вновь идут столбы, обещающие хорошие гостиницы.
Знамена меняются, как портянки, и толку нет, ноги потные, пальцы стерты, мозоли нарощены. Движение человеческое в надежде получить благо напоминает собою тех безумных людей, которые, увидя горизонт, бросились туда, ибо полагали найти край земли, позабыв, что они все стоят на горизонте и бежать никуда не нужно.
В другом смысле ищут мира благого в бешеной скачке лошадей, езде автомоторов и летательных машин, позабыв, что мир благой в них и, чтобы достигнуть его, не нужно эксплуатировать ни зверя, ни человека, ни машину, <не нужно> никуда ездить. «Мир как беспредметность». <Но> может быть, я сам, критикуя всех вождей, становлюсь сам незаметно вождем, предлагающим достигнуть блага в «мире как беспредметности», и опять также подниму людей и они побегут? Но вот как раз поднимать никого не хочу, ибо на моей скрижали полная пустошь, нет никакого пути, ни времени, ни обетования, скрывающихся за этой скрижалью, и <люди> могут быть покойны, что никто не получит ничего больше, чем другой, ни добром, ни злом, ни через автомобиль, ни через обладание пушкой, ни через бесконечные шептания молитвы, ибо взять с белой пустой скрижали нечего. Мчитесь на чем угодно, собирайте драгоценности, разводите для насилия газы удушливые, но знайте, что никакой ценности нет в мире благом и в нем ничего нельзя удушить и ничего ценного нет, и все то, что вы оценили, есть беспредметная бесценность. Вы хотите построить мир благой, добиться равенства, и уже в этом равенстве <видна> беспредметность весов, чашки весов равны. Вне движения этого беспредметного мира хотите достигнуть <мира благого>, но достигаете его через сознательное добро, <слово нрзб.> и в этом ваше бессилие, ибо хотите осознать то, чего нет, и возникает в силу этого образ, и полагаете, что близок ваш путь к действительности…»
Очень важная, очень полезная и, ко всему прочему, очень интересная книжка.
Самое сильное стихотворение
"Стихи 1941 года", Константин Симонов

Насколько я могу судить, главная ценность (я не про деньги) этой книжки заключается в том, что именно в ней впервые увидели свет стихи «Жди меня» («Жди меня, и я вернусь. / Только очень жди…») и «А. Суркову» («Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»). А я вот думаю про другое. Тоненькая книжечка заканчивается стихотворением «Великое слово» - обращением к друзьям и подругам с призывом не забыть «Год сорок первый – год больших утрат, / Не раз мы с горем были в нем знакомы. / Не все из нас придут домой назад, / Не всех ушедших вновь дождутся дома…», и дальше еще: «Победа! – в дальнем Мурманске гремит… / Победа! – степь колышет под Ростовом… / Победа! – вот что нас соединит, / Всю нашу жизнь одним расскажет словом…» Стихотворение 1941 года, к слову. Перед ним – то самое «Жди меня», знаменитое, вот с этими прекрасными строчками: «Как я выжил, будем знать / Только мы с тобой - / Просто ты умела ждать, / Как никто другой». А до него – про героизм, посвящения реальным героям войны, в том числе и «Сын артиллериста», про майора Деева, майора Петрова и его сына, который стал героем – ну, все знают.
Начинается же книжка текстом «Суровая годовщина»: «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас? / Ты должен слышать нас, мы это знаем: / Не мать, не сына – в этот грозный час / Тебя мы самым первым вспоминаем…» Там финал еще очень сильный: «Как наше счастье, мы увидим снова / Твою шинель солдатской простоты, / Твои родные, после битв суровых / Немного постаревшие черты». Дико интересно собственными глазам видеть и собственным мозгом понимать, как работает пропаганда – вот этот порядок, в котором расположены тексты в книжке, ему где-то учили, или это интуитивно так получалось? Еще интересно, конечно, это сам Константин Симонов так мудро стихи свои расположил, или это редакторы/цензоры? Ничего нового, конечно, но я все не могу устать поражаться, что пропаганда присутствовала буквально в каждом слове, в каждой букве, в каждом действии и жесте. Но самое поразительное для меня, все же, не это, а то, что с точки зрения слова именно первое стихотворение, самое идеологическое, про Сталина и вообще, оказывается самым сильным в книжке. «Пускай Информбюро включает в сводку, / Что нынче, лишних слов не говоря, / Свой штык врагу втыкая молча в глотку, / Мы отмечаем праздник Октября».
Не знаю, что еще сказать.
Коробка с красным померанцем
«Ангелы, люди, вещи в ореоле стихов и друзей», Роман Тименчик

«Дмитрий Кобяков, парижский сцепщик вагонов и масон (у которого Адамович находил “акварельную легкость письма и легкое волнение”, а Ходасевич считал “совсем безнадежным”), потом из Франции вернувшийся в СССР и влачивший скудное существование в Барнауле, расцветил ведуту Сестиере Санта Кроче красно-черно-зеленым, - возможно, ключ к символике личной палитры находится в его набросках для книги “Психология цвета”, лежащих в Отделе специальной документации Центра хранения Архивного фонда Алтайского края…» - и дальше идет стихотворение. Профессор Еврейского университета в Иерусалиме, филолог и знаток русской культуры начала ХХ века Роман Тименчик знает столько, что на каждой странице своей книги пытается донести до читателя очень много всего, как можно больше. Удивительным образом это не надоедает – возможно, потому что Тименчик пишет простым языком, не усложняя почем зря свои тексты, а, возможно, потому что он очень любит то, о чем пишет, и моментально заражает этой любовью читателя. Любовь к литературе – она, знаете ли, заразна.
Новая книга плодовитого Тименчика – сборник его статей, которые так или иначе посвящены «Серебряному веку» и всему тому, что происходило вокруг, но каждая из них сосредотачивается не на чем-то жизненно важном, а – так, на безделице: тут текст про Латвию в русском стихе, тут – метро в русском стихе, а тут вообще – «Коробка с красным померанцем», то есть вообще – про спички и спичечные коробки: «Вечно беспечна, как птичка, / Чуждая страсти девица, / Это, по-моему, спичка, / Пламя в которой таится…»
И, в общем, этот сборник на первый взгляд необязательных текстов обладает такой обаянием, что оторваться от него (а это, между прочим, более восьмисот подробно откомментированных страниц!) невозможно. То, что еще минуту назад казалось почти совершенно неважным (например, рассуждения о персонажах из комментариев к текстам Осипа Мандельштама), вдруг оказывается не просто забавной заметкой на полях, но, словно снежный ком, влечет за собой вал знаний, фактов, неожиданных выводов. Потому что, скажите, что может быть интереснее, например, путешествия Медного всадника по русским стихам и прозе начала ХХ века? «В дни грозовые слышится вновь / Знакомый раскатистый скок. / Взвел бровь, / Тяжкую бровь, / Злую бровь, / Державный ездок…» (это София Парнок). Или, например, «История одной мистификации» (а сколько их было!) – почти детектив про переписку Александра Блока с неким LeoLy, который то ли был, то ли не был. Ну, и так далее.
И вдруг, неожиданно, из этих «заметок на полях», из этих зарисовок, незначительных эпизодов и необязательных подробностей рождается удивительная, безумная, трагическая и вдохновенная жизнь, когда любое стихотворение, любой прозаический отрывок, любое слово могло перевернуть мир (и – да, переворачивало же!) – жизнь, которую нам не суждено прожить.
Но и это еще не все. Знать столько, сколько знает профессор Тименчик, невозможно. Но можно хотя бы на мгновение заглянуть ему через плечо и, скажем, прочитать отрывок из стихотворения Ольги Розановой, автора «Зеленой полосы», одной из главных картин русского авангарда:
Жиг
и гит
тела
визжит
тарантеллой
вера жрн рантье
антиквар
гитара
квартамас
фантом
Ну или вот, скажем, написанный в 1914 году одним из родоначальников одесской литературной школы Семеном Кесельманом текст:
Где спастись нам от скучной
зимы?
Мы пойдем в кино, там огни горят,
Там в иссиня-черном бархате тьмы
Вырезан белый квадрат.
На белом квадрате пройдут чередой
Призраки бледных людей.
Словно колеблемы тихой водой,
Проплывут города, как стая лебедей.
Над графиней, погибшей от сердечных ран,
Прослезятся тротуарные Пьеретты и Пьеро
И как зашипят они, когда на экран
Бросит тень Ваше гибкое, нежное перо!..
Нет, от скучной зимы нам не уйти –
И лишь от того станет легче тоска,
Что Вашими духами на обратном пути
Будет пахнуть моя рука.
В книге этот невероятно прекрасный текст можно найти в главе «Метро в русском стихе». Хотя, казалось бы, да?
Ну, и так далее.
"Иметь такую книгу - честь!"
«ЦДЛ», Лев Халиф

«Года три назад шел я по Ленинграду со знакомой барышней. Нес в руках тяжелый сверток. Рукопись Халифа “ЦДЛ” на фотобумаге, — писал Сергей Довлатов. — (С автором мы тогда не были знакомы. Знал, что москвич. А следовательно — нахал. Фамилия нескромная. Имя тоже не без претензии. Но об этом позже...) Захожу в телефонную будку — позвонить. Барышня ждет у галантерейной витрины. Вижу — к ней подходят двое. Один что-то говорит и даже слегка прикасается. Я выскочил, размахнулся и ударил ближайшего свертком по голове. Парень отлетел в сторону. <…> Так книга Халифа выдержала испытание на прочность. Свидетельствую — драться ею можно!»
Кроме того, Довлатов про эту книгу написал еще и четверостишие: «Верните книгу, Саша с Петей, / иметь такую книгу — честь! / Я прославлял ее в газете, / Теперь хочу ее прочесть». А самого автора называл «помесью тореадора с быком». Соревноваться с Довлатовым — занятие бессмысленное. Но я, все же, вдохну поглубже и тоже попробую об этой книге рассказать.
Для начала — два слова про самого Льва Халифа. Он родился в 1930-м, рано начал писать стихи, первый назывался «Суворов». В 1953-м оказался в Москве, спустя три года удостоился похвалы Назыма Хикмета. Примерно в это время написал одно из своих самых известных четверостиший, которое бдительные цензоры несколько раз вымарывали из его публикаций, зато его цитировали многие, в том числе без указания авторства. Таким образом это четверостишие стало фольклором. Например, его (слегка изменив) процитировал Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба». Стихотворение называется «Черепаха»: «Из чего твой панцирь, черепаха, / Я спросил и получил ответ: / Он из пережитого мной страха / И брони надёжней в мире нет». Потом, уже в 1970-е, Халиф демонстративно вышел из Союза писателей. Естественно, его перестали печатать. Он перебивался случайным заработками на ниве переводов, а потом уехал из страны. И в 1979-м в издательстве «Альманах» (Лос-Анджелес) вышла его книга «ЦДЛ» — мне кажется, одна из важнейших написанных на русском языке книг своего времени. Вот о ней-то собственно и речь.
В этой книге нет главного героя (вернее, главный герой есть — русская литература; говоря проще, в книге нет того главного героя, которого можно назвать по имени, повествование же ведется от лица автора), но если бы он был, то ЦДЛ — Центральный дом литераторов — был бы для него, по сути, тем же, чем был Кремль для главного героя книги Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»: «Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись, или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец и как попало — и ни разу не видел Кремля…» ЦДЛ из книги Халифа представляет собой место силы, средоточие тайн и слухов, своеобразный бермудский треугольник, в котором, как корабли, пропадают писатели и поэты, в котором решаются судьбы и рушатся жизни, в котором за бесконечными разговорами забывается главное. Правда, в отличие от ерофеевского Кремля, ЦДЛ у Халифа существует, и его даже можно достичь, вот только он все время оказывается не оазисом, а миражом. «Понимаешь, босяк, — говорил бывало Светлов, — деньги, как талант, — нету, так уж нету...»
Но ЦДЛ — это еще и омут памяти, который хранит воспоминания, одно страшнее другого. По сути, книга Халифа — это… не эпитафия даже, а надгробная речь, произнесенная над не закопанной еще могилой советской литературы. Халиф, словно колоду карт, тасует фамилии и судьбы — этого расстреляли, этого уничтожили, а тот выжил, но скурвился и, по словам придуманного по другому поводу, но такого реального Глеба Жеглова, «сам погиб для нас всех, паскуда», или как он там говорил. Но большинство, конечно, были уничтожены — они или сгинули в лагерях, или были расстреляны, или их «съели» свои, или, как, например, тишайшего 38-летнего Дмитрия Кедрина, убила, уничтожила, растоптала страшная окружающая действительность
У книги «ЦДЛ» нет линейного повествования. У нее много слоев. Вот мемуары, воспоминания о пережитом, о писателях и поэтах, о чиновниках от литературы и литераторах от органов госбезопасности. Вот сюрреалистические — как поток сознания, почти автоматическое письмо, — «дневниковые» записи. И еще что-то, и еще. Книга «ЦДЛ» — не история советской литературы, «которую мы потеряли». Книга «ЦДЛ» больше похожа на плач, на стон, который отнюдь не зовется песней. Отрывки из этой книги легко и приятно цитировать – Халиф рассыпает по страницам своего горестного повествования афоризмы, которые, как шутки хорошего лектора, дают читателю возможность хоть иногда перевести дыхание. «Спартак Куликов... Имя — восстание, фамилия — битва...» — наблюдательность, так ценимая уже упоминавшимся Сергеем Довлатовым. «Дрейфус умер, но дело его живет».
«ЦДЛ» — не учебник (хотя она наполнена фактической информацией круче любого учебника: вот про расстрелянного Бабеля, а вот про ленинградский круг «Малой Садовой»), не антология и не аналитический труд. Но, кажется, без этой книги очень сложно осознать что-то важное про советскую литературу. Чудовищно актуальная книга, как ни прискорбно.
О сколько нам открытий чудных…
Антология «Гнозиса»

Про журнал «Гнозис», выходивший с конца 1970-х в США и печатавший советских (на самом деле, не только советских, но мне интересны именно они) авторов (прозаиков, поэтов, философов и художников), условно говоря, религиозно-мистического характера (очень условно – с одной стороны, в такие рамки загнать каких-то авторов довольно сложно, а с другой, любого автора в эти рамки можно поместить так, чтобы он чувствовал себя вполне сносно), в русской «Википедии» статьи нет. Хотя это, конечно, очень важная штука для истории советской неподцензурной литературы. Но дело не в этом. А в том, что в 1982 году были изданы два тома «Антологии “Гнозиса”» – две толстенные книги (на самом деле, они только выглядят толстыми, там просто бумага такая, а на деле – страниц по 300), и сегодня речь о второй.
Второй том «Антологии “Гнозиса”» объединяет художественные произведения и картины тех, кто печатался в журнале. Там много текстов, которые сейчас смотрятся более чем наивно, и много имен, которые сейчас, к счастью, уже не требуют представления: там есть тексты Леонида Аронзона, Роальда Мандльштама, Ильи Бокштейна, Анри Волохонского, Юрия Мамлеева, Михаила Гробмана, Олега Охапкина, Елены Шварц, ранние (то есть редкие сейчас) тексты Станислава Красовицкого и «ребусы» Виктора Тупицына – это все понятно. И есть там два автора, которых я раньше никогда не читал, но именно из-за них (конечно, не только из-за них, но и из-за них тоже) я сейчас пишу этот текст – очень хочется, чтобы еще кто-то про них узнал.
Одного из них зовут Леонид Иоффе – он, в общем-то, довольно известный поэт, о нем писал Михаил Айзенберг, ну и так далее. Вот такой, например, у него есть текст:
Когда в уме соединяешь было – стало
и можно тронуться умом и лечь у глыб,
все происходит, как тогда, когда начало
происходило: куст горит, а мы – малы.
Так происходит с той поры, когда предстало,
предстало нам, что мы малы, а там – затон,
так происходит от всего, что было, стало,
произошло у той горы, потом и до.
Обрыв находится и рядом и поодаль.
Неровен час, хотя лучи еще светлы.
А мы завидуем растратчикам и мотам.
Мы всё глядим, а куст горит, а мы – малы.
Со вторым автором, о котором я хочу написать, сложнее. Его зовут Степан Дремин. В самой антологии, в конце, о нем написано: «Степану Дремину 30 лет. Московский поэт, сочетающий ностальгико-анакреотические темы с философской рефлексией, профетические ноты с мягкой интимностью, тонкое чувство стиля с романтической иронией. Первая публикация». То есть, без текста было бы понятнее, да? Однако я прочитал, что Степан Дремин – это псевдоним, а вот кто за ним скрывается – этого я не знаю. Стихи, между тем, замечательные. Вот такое, например:
…А что печальнее всего
когда такая непогода –
мне негде, ангел, ждать прихода,
ждать появленья твоего.
не веря отзыву и знаку,
замками щелкает Москва.
Но ради звездного родства,
моя сестра по Зодиаку,
благоволи не замечать
как это глупо, непристойно,
что нет во всей первопрестольной
для нас ни дома ни ключа,
что нужно в городе воспетом,
в наиславнейшем на Руси, –
прощаться наскоро в такси
у Ленинградского проспекта.
Я только голову склоню,
Бог дал – болтали до рассвета,
теперь – спасибо и за это.
«Ты позвонишь?» – «Я позвоню»…
Вывод из всего этого только один – это ж сколько еще открытий чудных нас ждет! Читать – не перечитать.
На обыкновенную тему
«Восстание топора», Альвилл Цеплис

«Вы думаете, Юрий взмахнет кулаками и, сразив своего
соперника, стремглав бросится в море? А Мара с растрепанными волосами,
стискивая руки (спасите, люди!) будет биться на прибрежных камнях? А
пришедший в себя итальянец будет хлопотать над этой лукавой женщиной?
Когда-то действительно существовали подобные люди. Теперь они вымерли. А
те, кто живы теперь, в подобные весны ходят в кино, где изредка
политредакторы (от наплыва чувств или от страха перед искусством) еще
пропускают киносамоубийц. Они стараются не забыть, как это делается.
У тополей Мара расстается с итальянцем. Ибо она заметила Юрия. Она быстро подходит и прижимается к нему.
Таково раннее весеннее утро…» - это отрывок из рассказа с
роскошным названием «На обыкновенную тему» латышского поэта и писателя
Альвилла Цеплиса. Я только что прочитал его маленькую книжку «Восстание
топора» («Государственное издательство», Москва – Ленинград, 1928 г.,
серия «Универсальная библиотека», №566), и это не дает мне покоя.
В книжке три идеально расположенных друг за другом рассказа. Последний – про любовный треугольник, в котором портовый работяга Юрий, портовая же грузчица Мара – красавица в красной косынке, и итальянец Педро, влюбленный в Мару. Мара заигрывает с иностранцем, Юрий страдает, портовый люд распространяет слухи, а потом – «красная свадьба: под красными знаменами моряки венчают Мару с Юрием», а итальянец поет им веселую песню, но в его голосе нет веселья: «Наступит время, и кто-нибудь напишет книгу под названием "Любовь и революция". В ней будет написано также о том, как итальянец Педро влюбился в революцию, любя красную косынку радостной грузчицы Мары. И Мара и революция казались ему одинаково прекрасными. Влюбился, не зная даже того, что революция выстрадала себя, что она вконец преображает мелкую личную жизнь и любовь».
Таков последний, третий рассказ. Второй, «Чернокожий», – про, собственно, чернокожего моряка Гуля, который когда-то где-то получил заряд революционной бодрости и значок с изображением Ленина в придачу и так проникся, что носил этого Ленина на груди на бамбуковом шнуре: «Маленький Гуль протянул руку в сторону порта и сказал: “Ленин”. Сквозь жесткие ресницы маленького Гуля высвечивала его большая радость. И наш пестрый кружок сомкнулся еще тесней». Потом, оказавшись в окружении советских моряков и рабочих, Гуль, взобравшись на груду нефтепроводных труб на чугунно-литейном заводе Ильича, произнес речь «о революции и гаванях». А потом его «со связанными руками высадили в одной из английских пристаней, где в скалистом берегу высечена тюрьма». И дальше: «…все мы, как один, думали о том, что на груди его спрятан на бамбуковом шнуре Ленин. И если английские тюремщики обнаружили его под потной рубахой, – из сердца Гуля вытравить Ленина им не удастся». Понятно, да?
Это – второй рассказик. А первый, «Восстание топора», – это уже кровь, пот и слезы. Например, в середине идет речь про голод, я так понимаю, 1920-х: «И в деревне не было хлеба. У деревни в глазах поблескивало безумство. И помина не осталось о голубых васильках. Зверье, дикари! Маша уж перестала возлагать надежды и на божью помощь. Когда человек глубже уходит в трясину несчастья, он живее схватывает житейскую правду. Духи бессильны помочь, было бы по тарелке просяной каши да горсть подсолнухов. Дети исхудали и походили на скелеты. А в один день отощавший Андрейка совершенно исчез со двора. Милиция нашла его тело изрубленным и посоленным рядом, в соседской хибарке. Маша стиснула зубы, но перетерпела и это. Приехал Клоков, с пустыми руками, голодный и такими животными глазами поглядывал на двоих оставшихся детей, что Машу охватывал ужас. Однако обошлось…» Ну, и заканчивается там все тоже очень плохо. Таков первый рассказ, а дальше, через Ленина на груди, к раздуванию мирового пожара. Очень круто.
Я сначала хотел написать про то, что – вот, мол, получил очередное подтверждение моим постоянным мыслям о том, что вся ранняя советская литература, кроме сюжетов и революции, еще и о языке, что каждый писатель каждым своим рассказом исследует новые возможности этого самого языка, и так дальше, и так дальше, как говорил Иосиф Бродский, но на свою беду полез читать про писателя Цеплиса и переводчика Свириса, и все получилось как обычно. Про писателя и поэта-футуриста Альвилла Цеплиса я прочитал, что, по одним данным, его расстреляли 28 мая 1938 года, а по другим, репрессированный в 1937-м, он умер в феврале 1943-го – видимо, в лагере. А переводчик книжки «Восстание топора» Петер Свирис (его настоящая фамилия – Блюмфельд), тоже в свое время популярный латышский поэт, переводчик, журналист, прошедший Гражданскую войну, был репрессирован в том же 1937-м и умер в 1943-м – насколько я понял, тоже в лагере. Вот такое восстание топора. Не знаю, что еще сказать.
Читаешь – и все становится понятно
«Черно-белое кино», Сергей Каледин

Я давно хотел написать про сборник автобиографической прозы «Черно-белое кино» Сергея Каледина, который когда-то прославился книгами «Стройбат» и «Смиренное кладбище». Когда я читал эту книгу, в буквальном смысле не мог оторваться. Потому что «Черно-белое кино» – это редкое по нынешним временам владение словом плюс чувство юмора и почти довлатовская наблюдательность. Не хочу больше ничего говорить – просто почитайте маленький кусочек, а потом бегите за книгой. И – нет, там не только про евреев, там вообще про все.
«Ёсик, поиграй с Монечкой. Изя, где его скрипка?» –
в принципе, совершенно самодостаточная, удивительно емкая фраза – ну, то есть,
читаешь ее, и все становится понятно, буквально картинка перед глазами встает.
«– Иуда! – вскричала Майя. – Ты где, Златоуст? Скажи
про Агнеску. Только без мата, здесь дети. – И со значением кивнула на меня.
Иуда Осипович, белобрысый, похожий на русского деда,
отстранился от носатого парубка, поднял
рюмку.
– Иуда Осипович – профэ-эссор физики, – сказала
Роха почтительно.
– Агнесса, дорогая, к сожалению, ничего не могу
тебе пожелать. Ибо Он, – Иуда Осипович ткнул пальцем в потолок, – обеспечил
тебя по полной программе при рождении. Всегда я завидовал Давиду…
– Агнесса – вдова, – пояснила Роха.
– …и поражался, как быстро он из донжуана
превратился в однолюба…
Роха, поморщившись, громко проворчала:
– Ох! Вэ из мир! Нет еврея, чтоб не изменял жене.
Только один прячет концы в воду, а другой не знает, куда его деть.
– …Завидую твоим кавалерам… А дефект у тебя
все-таки есть: когда-нибудь ты умрешь. И это будет беда. Для всех. Но это будет
нескоро. Ле Хаим!
Я выбрался на балкон отдышаться…»
Бумажный солдатик
"Фантазия страстей", Илья Бокштейн

Совершенно случайно у меня в руках оказалась книга Ильи Бокштейна «Фантазия страстей», изданная в Иерусалиме в 2010 году и сейчас уже, кажется, ставшая библиографической редкостью – ну, насколько я могу судить.
«Потусторонний Бокштейн, похожий на тролля» (так о нем как-то написал Андрей Вознесенский) – поэт, у которого при жизни вышла всего одна книга, хотя журнальных публикаций и участий в сборниках (естественно, эмигрантских) было много. В 1961 году 24-летний Бокштейн выступил в Москве, на площади Маяковского, с двухчасовой речью «Сорок четыре года кровавого пути к коммунизму», через две недели повторил свою речь. Но арестовали его только через тридцать минут после начала очередного выступления, результат – пять лет в мордовском Дубровлаге (там, в частности, в разное время содержались Юлий Даниэль, жена Нестора Махно Агафья Кузьменко и, понятное дело, еще куча людей). После выхода из лагеря Бокштейн и написал свои первые стихи, в 1975-м уехал в Израиль, где жил отшельником (во всяком случае, так о нем пишут). По словам знавших его, обладал феноменальной памятью и тратил все деньги на книги. «Ни чем, кроме сочинительства, не занимался», - сказал он в одном интервью. Считал себя авангардистом. Насколько я понял, его огромный архив считается утерянным. Умер в 1999 году. Говорят, именно ему Булат Окуджава посвятил «Бумажного солдатика».
***
Молчание
Говорит ручей с рекою
Говорит звезда с луной
Говорит земля с тоскою
А тоска – сама с собой.
***
Искусство – это тайна исчезать,
И становиться всем,
Чем пожелаешь,
Чтоб самый зрячий
И слепой тебя могли
За зеркало принять.
А был ли Павлик?
«Товарищ Павлик», Катриона Келли

Первый из двух томов официальных документов расследования убийства Павла и Федора Морозовых составляют в основном около пятисот писем от пионеров и школьников, требующих смертного приговора убийцам… Буквально каждая глава книги Катрионы Келли «Товарищ Павлик. Взлет и падение советского мальчика-героя» обрушивает на читателя сотни деталей, подробностей, эпизодов нашей недавней истории, превращая книгу в настоящий психологический триллер. Во всяком случае, воспринимается книга как добротный триллер – не оторваться.
Тщательное и дотошное исследование Катрионы Келли, как ясно из названия, посвящено истории взлета и падения Павлика Морозова – пионера-героя, который донес на своего отца-кулака, за что был жестоко убит контрреволюционно настроенными односельчанами – во всяком случае, именно так на протяжении десятилетий внушали советским детям. Но, по прошествии более семидесяти лет со дня трагедии (убийство Павлика Морозова и его младшего брата произошло в 1932 году), количество вопросов превысило количество ответов, и первый среди них – а был ли мальчик? Изучив огромное количество документов, Келли дает ответ – да, скорее всего был, однако он был не совсем тем, в кого его превратила государственная пропагандистская машина. Кроме того, судя по всему, и убийство было не совсем таким, как описано в книгах о пионере-герое, и обстоятельства трагедии были иными, и вообще, пионеров в деревне Герасимовка, в которой родился Павлик, в те времена еще не было, зато было, например, суровое недовольство варварской коллективизацией, проводимой советской властью: «Происходили и более рядовые случаи политического протеста. Например, в марте 1931 года на тавдинской лесопилке обнаружили подрывную листовку, происхождение которой власти приписали одному из ее бывших работников: “Доводим до сведения, что мы сожгем сено которое награбили Вы у нас – жиды, чтож Вы хотите дальше строить завод или сотаску дома и т.д. ну мы Вам настроим могилу, чтобы Вы не могли повернуться дальше: 1) Первым же сожгем контору, или взорвем. Жидам пощады не дадим. Мы Вас всех не боимся, вырежем до одного”. А в ноябре 1931 года информатор обнаружил антисоветскую надпись в мужской уборной заводоуправления Тавдинского лесопильного завода: “Вставай, Ильич, детка, нет руководителей для выполнения пятилетки!”, и еще: “Вставай, Ильич, детка, с нашей руководительницей-партией заеблась пятилетка!”…» Вообще, одна из главных задач этой книги, насколько можно судить, - это исследование контекста трагедии в деревне Герасимовка и последовавшего за этим культа. Потому что контекст очень важен для понимания и самой произошедшей истории, и мифа, рожденного в воспаленном воображении государственной пропагандистской машины.
И вот тут-то оказывается, что Келли исследует не жизнь и смерть Павла Морозова, кем бы он ни был (хотя как раз тому, кем был он и окружающие его люди, в книге посвящено много увлекательных страниц), а ту самую пропагандистскую машину. Потому что история Павлика Морозова – это именно история пропаганды, история кропотливого создания мифа, жития советского святого (Келли убедительно проводит параллели между делами Морозова и Бейлиса, вспоминает расстрел царской семьи, культовую в нацистской Германии повесть «Юный гитлеровец Квекс», участие в деле Максима Горького, внимание Сталина, «Тимура и его команду» Аркадия Гайдара, юных героев-антифашистов времен Великой Отечественной войны и еще черта в ступе) и, в то же время, история едва ли не языческого кровавого действа – сохранились свидетельства того, что, когда тела убитых мальчишек принесли в деревню, их матери были брошены, в том числе, и такие слова: «Татьяна, мы наделали мяса, иди, ешь его…» Да, это очень, очень, очень страшная книга.
И, кроме всего прочего, труд Катрионы Келли полон невероятных подробностей долгого существования мифа о Павлике. Например, вот: среди школьников деревни Герасимовка, где родился Павлик Морозов, существовала традиция отвинчивать шарики со штанг на ограде могилы братьев Морозовых и бросать в полости штанг записки с просьбами об удаче на экзаменах и так далее... «Товарищ Павлик», несомненно, одна из лучших книг, прочитанных мною за последние годы.
Кофе с Нелл Харпер Ли
«Узнать пересмешника», Марья Миллс

Пишут, что Харпер Ли перестала давать интервью в 1964 год. Пишут, что биографии писательницы, которые выходили после, основывались на слухах, домыслах, беседах с окружающими. Пишут, что в 2001 году журналистка Марья Миллс («Чикаго Трибьюн»), как и многие до нее, попытала счастье… и неожиданно удача повернулась к ней лицом – она была допущена в дом Алисы и Нелл Ли, и даже подружилась с ними, и прожила рядом несколько месяцев, ведя бесконечные разговоры с автором великого американского романа «Убить пересмешника» и ее строгой, но справедливой сестрой. Из этих нескольких месяцев и родилась книга «Узнать пересмешника», и вот тут возникает проблема, которую нужно для себя решить перед тем, как браться читать эту книгу. Потому что «Узнать пересмешника» – не биография Харпер Ли, и это нужно знать, чтобы избавиться от разочаровывающего эффекта обманутых ожиданий.
«Узнать пересмешника» – типичная нон-фикшн книга американского журналиста, в которой путь к журналистской цели едва ли менее важен, чем сама цель. Марья Миллс, получившая доступ «к телу» Харпер Ли, очень подробно пишет о себе, своей болезни и своих переживаниях, о съеденных вместе с Ли бургерах и выпитых чашка кофе, о просмотре телевизионных программ и путешествиях на автомобиле. Журналистка встречается с друзьями семейства Ли и с теми, кто помнит, как начинался роман и как развивалась слава романистки, но – не всегда дает им слово. Миллс часто упоминает про многочасовые интервью с самими сестрами Ли, но – почти не приводит в книге эти интервью. Порой создается впечатление, что книга «Узнать пересмешника» – необходимое вступление, предисловие к биографии Харпер Ли, что сама биография окажется вторым томом.
И только потом понимаешь, что «Узнать пересмешника» даже не пытается притворяться биографией писательницы. Для Марьи Миллс месяцы, проведенные с легендой американской литературы, дают возможность что-то проанализировать и понять в собственной жизни, в своем мировосприятии, отрефлексировать юношеские переживания первого знакомства с классикой американской романистики.
Кроме того, «Узнать пересмешника» – не портрет Харпер Ли, но портрет мира, ее окружающего. И Миллс не обманывает своих читателей – уже в предисловии она пишет: «Эта книга – моя попытка описать то время, которое я провела с сестрами Ли…» Все честно.
Но самое интересное в «Узнать пересмешника» – не это. Самое интересное – рассказ о том, как Харпер Ли, написав один из главных романов ХХ века, всю жизнь пыталась спрятаться от известности (Миллс не дает прямого ответа, почему писательница полвека не давала интервью, но ее книга – в том числе и об этом).
И самый трогательный и, пожалуй, самый пронзительный эпизод книги совместный с глуховатой Харпер Ли просмотр фильма «Капоте»:
«Я остановила кассету и продолжила свой громкий пересказ, повернувшись прямо к Нелл.
– Вы сказали Трумену: “Ты скучаешь по Алабаме?” А он ответил: “Ни капли”. Тогда вы сказали: “Ты лжешь”. А он сказал: “Я не лгу”.
Это было довольно странное чувство, пересказывать сидевшей со мной в комнате Харпер Ли, что сказала Харпер Ли в машине, и я могу только воображать, что чувствовала она сама…»
Оркестр-переполох
«Жирафовидный истукан», Валентин Парнах

Очень сложно представить, что, например, джаз появился в Советской России не сам по себе, естественным путем, а был принесен конкретным человеком. Между тем, все случилось именно так – 1 октября 1922 года в Институте театрального искусства состоялась лекция-концерт, на которой лектор рассказывал о странной эксцентричной негритянской музыке, показывал экзотические, доселе невиданные здесь инструменты и даже, под аккомпанемент пианиста и барабанщика, показывал непривычные телодвижения, которые называл танцем. Имя этого лектора – Валентин Парнах, и именно он был первым, кто рассказал революционно настроенным массам о джазе. Более того, в кинотеатре на Малой Дмитровке «Первый в РСФСР эксцентричный оркестр джаз-банд Валентина Парнаха» пытался исполнять джазовые композиции (за роялем сидел будущий автор сценариев «Два бойца», «Коммунист», «Убийство на улице Данте», «В огне брода нет», «Начало», «Монолог», «Ленин в Париже», то есть будущий классик советской кинодраматургии Евгений Габрилович). И еще – судя по всему, Парнах был первым, кто вообще написал слово «джаз» на русском языке (это было в 1922 году, в издаваемом Ильей Эренбургом журнале «Вещь»). Но и это еще не все – Парнах был братом поэтессы Софии Парнок, учился в Сорбонне, заведовал музыкальной и хореографической частью в Театре Мейерхольда и публиковался в журнале мейерхольдовской студии «Любовь к трем апельсинам», преподавал и ставил хореографию, выступал на сцене, переводил дадаистов в целом и Тристана Тцару в частности, а так же Макса Эрнста, Жана Кокто и Федерико Гарсиа Лорку, долго жил заграницей, где писал статьи о советских поэтах и стихи, и был прототипом Парнока из «Египетской марки» Осипа Мандельштама. И все это – один человек…
В современной России его почти не издавали. Небольшой сборник «Жирафовидный истукан», пятнадцать лет назад вышедший небольшим тиражом в издательстве «Гилея», – самое представительное на сегодняшний день собрание его стихов, переводов и статей (среди литературоведческих текстов – интереснейшие эссе о Есенине, Пастернаке, Маяковском и других), в том числе статьи о джазе. Удивительным образом этот человек сегодня мало известен, хотя «наследил» он, если задуматься, – будь здоров. Очень надеюсь, что его полное собрание сочинений когда-нибудь будет издано – история советской (не идеологически, а хронологически) литературы без него не может считаться полной.
И вот вам его написанное в Париже в 1919 году стихотворение «Оркестр-переполох» - мне кажется, это идеальное воплощение джаза в стихах.
Дрожь банджо, саксофонов банды.
Корчи. Карамба! Дребезжа,
Цимбалят жадные джаз-банды
Фоножар.
Взвары язвительной известки,
Переменный электрический ток.
Озноб. Отскакивания хлестки.
Негр захватил и поволок
Неведомых молекул бучи,
Нахлобучил
На саксофон свой котелок.
Он превосходно исковеркал
Неслыханный чуб фейерверка.
Освобождение от иг!
Причудливый, весёлый негр
Изверг вдруг судороги игр,
Подрагивания новых нег!
Все врозь!
Минута – музыка вся настежь.
Внезапно лопание шин.
Грохнулись оземь части
Звенящих плоскостей машин.
И вдруг – насквозь
Автомобильный рожок
Вытянутый стальной язык. Вой.
Узкий укус. Среди храпа
Я с размозжённой головой.
Жести ожог.
Захлопнулся клапан.
Чертовски странная была история…
«Белая гусыня», Пол Гэллико
«Чертовски странная была история. Трагическая по-своему. Хотя для нас и счастливая…» — говорит шестидесятипятилетний капитан третьего ранга в отставке Кейт Брил-Ауденер в офицерском клубе на Брук-стрит. И потом рассказывает о том, как в 1940 году во время Дюнкерской операции его подразделение спас странный мужчина на утлой лодке и кружащая над полем боя белая гусыня. Но это — в конце маленькой, написанной в 1941 году книги, а сначала писатель Пол Гэллико старомодным, медленным и очень спокойным языком разворачивает перед читателем историю Филипа Рейэдера — большого горбатого мужчины, который отшельником живет на заброшенном маяке, рисует картины и ухаживает за перелетными птицами. Однажды к нему приходит девочка по имени Фрит и приносит подранка — белую гусыню с поврежденным крылом. Девочка очень боится страшного отшельника, но желание помочь раненой птице перебарывает страх. А страшный отшельник, как и положено герою умной сказки, оказывается не страшным, а очень одиноким человеком с огромным добрым сердцем, которое ему некому предложить. Вот только «Белая гусыня» — не сказка, так что однажды окружающий Филипа и Фрит мир рушится в грохот мировой войны, и далекие зарева окрашивают горизонт в цвет крови…
Эта маленькая и очень красивая книга, то ли основанная на реальных событиях, то ли удивительным образом придуманная, обладает непостижимым обаянием — она настолько проста и так сильно отличается от общепринятых сложносочиненных историй, что в ее существование очень сложно поверить. Как сложно поверить и в воздушную графику Романа Рудницкого, служащую ей иллюстрациями. Но и книга, и легкие, словно туман, картинки существуют — почитайте.
Трудно быть пересмешником
"Пойди поставь сторожа", Харпер Ли
Об этом написано много разных слов, но я, чтобы как-то начать, все же повторюсь: да (и вот тут начинаются спойлеры), Аттикус оказался сторонником расовой сегрегации, а Глазастик так и не вышла замуж – теперь ей двадцать шесть, и на две недели она приезжает из Нью-Йорка в родной Мейкомб, где и узнает то, что ей (и нам вместе с ней) предстоит узнать. Во всей этой истории самое главное – каким непостижимым образом редактору Тэй Хохлов, которой попалась рукопись начинающей писательницы Харпер Ли, удалось разглядеть в ней будущий великий роман «Убить пересмешника»? (Потому что, отмечу в скобках, «Пойди поставь сторожа» – не новый роман Харпер Ли, а ее первая рукопись, которая не была опубликована, но была до неузнаваемости переработана, чтобы в результате превратиться в «Убить пересмешника» – как ни крути, единственный роман автора. Собственно, эффект обманутых ожиданий, даже после прочтения всех рецензий, возникает – а он не может не возникнуть – именно потому, что ты подсознательно ждешь новый великий роман. Ждешь – и не получаешь.) Сейчас Харпер Ли почти девяносто, и о том, как ее уломали опубликовать ту, первую рукопись, когда-нибудь напишут документальную повесть, грустную и поучительную. А пока – да, конечно, мы все будем читать «Пойди поставь сторожа», как иначе. И пусть вас не пугают спойлеры, которые есть в начале этого маленького текста: эмоциональные абзацы про сегрегацию, политику и про то, как менялся американский Юг, хоть порой и до обидного напоминают то, что происходит в современной России, написаны с таким юношеским наивным максимализмом, что не воспринимаются без улыбки. Самое интересное в этой книге, как мне кажется, – то, что политики как раз не касается, а касается, напротив, простых мелочей, из которых, по словам совсем другого писателя (Даниэля Пеннака) и складывается то, что мы называем жизнью.
Он мало похож на здешних…
«Собрание стихов», Вольф Эрлих

Однажды я уже писал сюда про поэта Вольфа Эрлиха, но теперь, когда вышла его книжка, не грех написать еще раз. Итак…
«У Вольфа Эрлиха тихий голос, робкие жесты, на губах – готовая улыбка. Он худ и черен. Носит длинные серые брюки, черные грубые ботинки. Немножко хвастается знакомством с Есениным. Был имажинистом. Из-за этого пришлось уйти из университета. Но славы не заработал. Пока издал одну книжку – «Волчье солнце». Так старые романтики называли луну.
Кто-то сказал: Эрлих из Симбирска.
Пожалуй, верно. Он мало похож на здешних…» - так в первой тетради «Записок для себя» вспоминает Эрлиха Иннокентий Басалаев.
Вольф Эрлих действительно родился в Симбирске, в 1902 году, в семье провизора. «Он опоздал родиться, - писал о нем Николай Тихонов. – Если бы он был в годы гражданской войны уже взрослым человеком, а не маленьким, худеньким подростком, то, как знать, приняв участие в революционных битвах, он, возможно, имел бы другую биографию. <…> Отец хотел, чтобы сын пошел по его пути и стал доктором, и Вольф Эрлих сначала действительно поступил на медицинский факультет Казанского университета, но потом склонность к литературе перевесила, и он спустя самое короткое время перешел на историко-филологический факультет и в следующем, 1921 году перевелся в Петроград, на второй курс университета».
Еще будучи гимназистом он активно печатался в журнале «Юность». И в Петрограде сразу окунулся в бурные воды левой поэзии, став активным участником Воинствующего ордена имажинистов. Он участвовал в совместных выступлениях имажинистов, много писал. Сергей Есенин подарил Эрлиху свою первую книгу, «Радуница», снабдив ее дарственной надписью: «Милому Вове и поэту Эрлиху с любовью очень большой. С. Есенин». И свое предсмертное стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания» Есенин передал именно Эрлиху. Позже, в 1930-м, Эрлих выпустит книгу воспоминаний о Сергее Есенине «Право на песнь». Книга вызовет спорную реакцию. Так, «Ленинградская правда» напечатает на нее разгромную рецензию. При этом книга удостоится похвалы Николая Бухарина, а Борис Пастернак в письме Николаю Тихонову отзовется о ней восторженно: «Книжка о Есенине написана прекрасно. Большой мир раскрыт так, что не замечаешь, как это сделано, и прямо в него вступаешь и остаешься…»
С 1926-го Вольф Эрлих активно издавался, причем писал и для детей, и для взрослых. В начале 1930-х печатался в «Звезде», «Красной ночи», «Литературном современнике», участвовал в коллективных сборниках ленинградских поэтов, издавал собственные книги. А в 1935-м Эрлих отправился на Дальний Восток, чтобы работать там над сценарием «Волочаевских дней» - в 1937 году на киностудии «Ленфильм» картину поставили братья Васильевы, а на экраны фильмы вышел 20 января 1938 года. Но Эрлих до премьеры не дожил – в конце лета 1937 года он был арестован в Ереване и переправлен в Ленинград, где ему было предъявлено обвинение в принадлежности к троцкистской террористической организации. 19 ноября 1937 года Вольф Эрлих был приговорен к расстрелу, через пять дней приговор привели в исполнение.
С тех пор его очень мало издавали – только его воспоминания о Есенине переиздают, целиком и отрывками, стихи же оказались как будто забытыми. «Собрание стихов», только что вышедшее в издательстве «Водолей», призвано исправить это.
В том, старом тексте про Эрлиха я уже приводил его стихи. Здесь же я хочу поместить его поэму (он назвал ее рассказом) «Необычайные свидания друзей» - почитайте.
Необычайные свидания друзей
Рассказ
1
Тогда с вокзала вышел некто,
Обыденной, в те дни, породы.
А от вокзала шли проспекты,
Похожие на огороды.
Он увидал – торцы, капусту ль? –
Вдоль Невского. Он взял корзину.
Как под водою, было пусто,
Прозрачно. Он взвалил на спину
Мешок, кому-то крикнул: – Коля!
Пришел второй, и вот уж двое –
Красноармейцы, дети, что ли –
Они пошли. Над мостовою
Горел рассвет, и мостовая
Казалась сельской и зеленой.
Плыла в крапиве Моховая,
Лопух шумел на Миллионной.
Шли потихоньку. И дорога
Все зеленела. Пели птицы.
Заря румянила немного
Изъеденные тифом лица,
Шинели, сапоги худые,
Мешки из старого брезента,
Худые шеи – или выи? –
Красноармейцы, иль студенты –
Шли потихоньку. Пели птицы.
Казалось, фронтом шла дорога.
Сказал один: Хоть бы напиться.
Другой сказал: - Тошнит немного.
Сказал один: - Хоть бы напиться.
Другой сказал: - Ну, это – просто.
Шли потихоньку. Пели птицы.
Пришли к Сампсоньевскому мосту.
*
Тогда за Малою Невою
Лежали кладбища заводов.
Над Выборгскою стороною
Сиял как бы великий отдых.
Он кажущимся был, мы знаем.
Но без коптинки корпус даже
Завода мог уснуть случаем
И левитановским пейзажем.
Он как бы вымер, этот город.
Входила степь. Жирели травы.
И только, распахнувши ворот,
Дышали кое-как заставы.
Да голуби на каждом доме!
Да перистость на горизонте!
Замок и надпись на райкоме:
«Закрыт. Товарищи на фронте».
Да мать над карточкою сына…
Стоял дворец, лицом к закату.
Владыка нефти и бензина
Его построил здесь когда-то.
Они вошли. Огромных сорок
Пустело комнат. Паутина…
Шли кабинеты – иль конторы?
Дубовые столы, картины.
Шкап с медною, замочной дыркой
(Порядок точный и примерный!).
Камин в углу – похож на кирку,
Пустой. На нем – модель цистерны.
А синее покрыто небо
Все перистыми облаками –
Взгляни в окно! Здесь только мебель
Слегка потрогана штыками.
Да пылью дует, как из гроба.
Мимо буфетной и диванной
Они прошли. Уселись оба.
Решили – поселиться в ванной.
*
День разгорелся. И пожаром
Стояло солнце. Было лето.
Пустой трамвай, качаясь, даром
Привез их к университету.
Они вошли. Их встретил сторож,
Профессор ли? – в сюртучной паре.
Они нашли, еще не скоро,
Студенческую канцелярию.
Холуй в мундире, в бакенбардах,
Обрел вдруг почему-то смелость:
- А вы когда-нибудь за партой
Сидели? – Очень есть хотелось.
Язык во рту как бы в отваре
Соленом был. И стыд до боли.
Один, уже вспотевший, шарил,
В шинели путаясь, револьвер.
Она вошла: - Вы что, ребята? –
Пропела вдруг (совсем как птица!). –
Тиф? – Нет. – Из армии? – Из пятой,
Командированы учиться.
Она, смеясь, сняла кожанку,
Потрогала на них шинели.
Сказал один: – Как будто жарко.
Другой: – Четыре дня не ели.
Сказал один: – Хоть бы напиться.
Она сказала: – Это – просто.
…Шли потихоньку. Пели птицы.
Пришли к Сампсоньевскому мосту.
2
Стал воздух нестерпимо синим
И в парках проступила ретушь.
Ржавела падаль. Паутина
Плыла. Сияло бабье лето.
Прозрачно зори холодели.
И холодком, еще петушьим,
Друзья вставали – мылись, пели,
Водой холодной терли уши,
Носы, плескались неизменно,
Шипя, и знали – розовея,
Вдруг из-за ширмы глянет Лена
И промурлычет: – Мойте шеи.
Ходили вместе на работу.
Учились вместе. Ели вместе.
Есть нечего – кури в охоту.
И время шло без происшествий
Без видимых, по крайней мере.
И горевать старались редко,
Хотя у Лены брат расстрелян,
В Чите, семеновской разведкой.
А Николай, в тужурке ватной
И в ватном стеганом жилете
Дрожа, переболел возвратным,
Так на ходу и не заметив.
Вот только появились крысы.
Куда не прячь еду, а ловко
Запрятывали – на карнизы,
Подвешивали на веревку, -
А утром встанут – неизменно:
Сухарь, пакет с морковным чаем
Находятся – в туфле у Лены,
Иль в сапоге у Николая.
Но стала портиться погода.
Дожди. По воскресеньям Лена
Вставала рано. Грела воду,
И кафельные мыла стены.
Все вымоет, вздохнет и сядет.
Иль снова вскочит, греет воду,
Иль шьет, куда-то в угол глядя.
Поет. Так начинался отдых.
Поставит чай. Накормит пламя
Щепой трухлявой, старой книжкой.
Уставится в огонь глазами
И смотрит, как танцует крышка.
Занятный, между прочим, танец,
По крайней мере, для поэта:
Пар тоненькую песню тянет,
А крышка барыней, под этот
Тончайший свист, сначала – млея
Сопит и отражает пламя,
Румяная, потом вспотеет
И вдруг – пошла плясать боками!
А Лена, жестом неизменным,
Нагнется, крышку приподымет.
И станут вдруг глаза у Лены
Оранжевыми, золотыми.
*
Что приписать об этой тройке
По совести? Смешными были
Немножко. Доблестно и стойко –
Фронтовики! – трудились, жили.
Смеялись, встречу вспоминая.
Но Лена, насмеявшись вволю,
Вдруг отняла у Николая
И в тумбу заперла револьвер.
Ну, что еще? Кричали галки.
Ледок позванивал осенний.
Влюбились. Повздыхали жалко.
Не обошлось без объяснений.
Летели листья оголтело.
Был по-осеннему блаженный,
Прозрачный день. И солнце грело,
Сказал один: – Ты знаешь, Лена…
И вдруг побагровели уши
Так жалостно, недоуменно.
И замолчал. Но, встрепенувшись,
Другой сказал: – Ты знаешь, Лена…
И оба покраснели. Грело
Скупое солнце. И, мгновенно
Все запылав, она пропела
Мужским баском: – Ты знаешь, Лена…
3
Пришел ноябрь. Ломать заборы
Друзья ходили. Дымовые
Вздохнули трубы. И на город,
Мертвея, бельма меловые
Зима уставила. И трое
Смеялись, что расчет был тонким:
Отказывалось паровое,
Но можно греться у колонки.
Так грели воду. Грелись сами,
Следя, как в топке угли гасли.
Учились. Жарили утрами
Блины на конопляном масле.
Решали ссоры самосудом.
И каждому тут было дело:
Картошку чистить, мыть посуду,
Вздыхать, что Лена хорошела,
Но потихоньку, без охоты
Себе признаться даже смело,
Что, мол, влюблен. Сдавать зачеты.
Зубрить. А Лена хорошела
Действительно. Зима покрыла
Белейшим снегом тротуары.
Закрыла дыры, швы зарыла.
На Невском появились пары,
Налетчики, купцы (и даже
Грязца картофельных пирожных).
И первые крупинки сажи
С заводов! Стук, еще порожних,
Грузовиков. Ларьки и рынки.
И лавки (и притоны даже).
И хлеба первые крупинки
В столовых! (Кошельки и кражи.)
Страх поражения у слабых.
Мечта в торговцах. И нелепый,
Мерзейший шик. И в перьях бабы.
И все-таки – тепло и слепо
Ложился снег. Большой и чистый,
Порхал и плыл, сгущался в заметь.
Из силы выбились чекисты,
Следя запавшими глазами
За городом. Росли налеты.
Жил Невский, плача и торгуя.
И кой-кому казалось – счеты
И впрямь отложены с буржуем.
Зачитывались вслух газеты.
Ходил шпион походкой волчьей.
И в заговоры шли поэты,
И в людоедство шло Поволжье.
И думалось тогда прилежно.
Зима одна была надменной
И розовой, и даже нежной,
В тот день, когда убили Лену.
*
Снег, как особенная милость,
Сиял. А снегу было вдосталь
В ту зиму. Как это случилось?
Как все тогда случалось – просто.
В обычный, синий час рассвета,
У Чернышева, на Фонтанке,
Ее нашли уже раздетой –
Без валенок и без кожанки.
Она была – с большой косою,
С веселым сердцем, с птичьим горлом,
И розовою, и такою,
Что у ребят дыханье сперло.
Она тогда все больше пела.
(Она всегда была веселой!)
Где это горло, где это тело?
Мятущийся и теплый голос?
Она тогда все больше шила.
Где тот наперсток? Где иголка?
Где пуля, что ее убила?
Как умирала комсомолка?
Закат ржавел над катафалком
И трубы плакали, и оба,
Дрожа и спотыкаясь жалко,
Товарищи пошли у гроба.
Владело воронье пейзажем.
Зима была почти военной
И мстительной и грозной даже
В тот день, как хоронили Лену.
Знамена, как закат над взморьем,
Пылали яростно и грубо.
Но пением смягчали горе,
И – бархатные – пели трубы.
*
Шли облака. Катились звезды.
Фронты кончались. Шли закаты.
Был розовым январский воздух.
Что мне прибавить о ребятах?
Закат ржавел над катафалком
Уже пустым. Морозно стало.
Дрожа и спотыкаясь жалко,
Товарищи пошли к вокзалу.
Так было холодно, так пусто,
Что вдруг один смешно и грозно
Завыл, и скверной брани сгусток
Метнулся в воздухе морозном.
Прожектор просиял и канул.
И плохо было человеку:
Он выл, хватая снег руками,
Глазами прижимаясь к снегу.
Пусть грубовато, даже хмуро
И горестно, но непреклонно
Я славлю ночи диктатуры,
Железную походку ЧОН’а,
И день, что был так зол и розов,
И этот снег, большой и чистый,
И ярость горькую матросов,
И доблесть громкую чекистов,
Вокзал, что был берлогой волчьей
В те дни, распахнутый и голый,
Друзей, что отбыли в Поволжье
С командировками на голод.
Эпилог
Был день. С вокзала вышел некто,
Обычной в наши дни породы.
А от вокзала шли проспекты
Зеленые, как огороды.
Над площадью тепло и страстно
Ромашка спорила с бензином.
Как под водою, было ясно,
Прозрачно. Возле магазина
Он встал, кому-то крикнул: - Коля! –
Пришел второй, и вот уж двое –
Поэты, инженеры, что ли? –
Они пошли. Над мостовою
Горел закат. И мостовая
Асфальтом шла, травой зеленой.
Плыла в гудроне Моховая
И сквер шумел на Миллионной.
Шли потихоньку, и дорога
Все зеленела. Пели птицы.
Заря румянила немного
Скуластые, крытые лица,
Пальто и шляпы пуховые,
Скрипучую, большую обувь,
Большой портфель, очки большие
И ордена в петлицах. Оба –
Шли потихоньку. Пели птицы.
Казалось, морем шла дорога.
Сказал один: – Хоть бы влюбиться!
Другой спросил: – Грустишь немного?
Сказал один: – Хоть бы влюбиться!
Другой сказал: – Ну, это – простою
Шли потихоньку. Пели птицы.
Пришли к Сампсоньевскому мосту.
Тогда – по звуку выстрела умели отличать винтовку от нагана…
Михаил Фроман, «Две повести»

«С 1923 наппельбаумские сборища стали посещать два поэта, только что переехавшие в Петроград из Ташкента, - Павел Лукницкий и Михаил Фроман... – описывал в своих воспоминаниях появление Михаила Фромана в Ленинграде писатель Николай Чуковский. - В квартиру Наппельбаумов Лукницкого привела пламенная любовь к Гумилеву, которого он никогда не видел. А Фромана привела сюда не менее пламенная любовь к Ходасевичу. И оба они опоздали. Гумилева уже не было в живых, а Ходасевич находился в Германии. <…> Любовь Фромана к Ходасевичу была не столь энергична, но зато, попав в дом Наппельбаумов, он воспылал иною, более жаркой любовью и примерно через год женился на Иде Моисеевне Наппельбаум. Своей женитьбой Михаил Александрович Фроман как бы разрубил всю цепь неудачных любовей, и все стало на место, - все перестали любить кого не нужно и полюбили кого нужно. Начались браки...».
Михаил Александрович Фракман (Фроман – его псевдоним) родился 5 апреля 1891 года в Ташкенте. Юность он провел в Германии – учился в высшем техническом училище в Дармштадте, но в начале 1920-х вернулся в Россию, в Ленинград. Начав с детских стихов и продолжив серьезной лирикой, Фроман довольно быстро стал яркой фигурой литературного Ленинграда тех лет. «Он знает, когда и что надо сказать. Главное – умеет молчать, когда его не спрашивают. О нем говорят: “культурный поэт”», - писал в «Записках для себя» Иннокентий Басалаев. В 1930-е Фроман много переводил – писатель, знаток и редактор переводов Гейне, Александр Дейч называл переводы Фромана наилучшими. А в 1930-м поэт и переводчик Фроман издал два своих прозаических текста – две повести. И оказалось, что он – удивительный, точный в формулировках, остроумный, наблюдательный и очень тонкий прозаик.
Я, пожалуй, приведу здесь отрывок из его повести «Конец Чичикова», просто чтобы не писать лишних слов:
«Бронепоезд уверенно и тяжело подошел к станции. Бронирован был, собственно, только паровоз. Остальная часть поезда состояла из обыкновенной теплушки для команды и снарядов и трех платформ. По краям платформ возвышались сложенные друг на друга мешки, сквозь которые глядели стволы пулеметов. В середине стояли трехдюймовки.
Когда поезд стал, из станционного здания вышли на перрон комиссар участка, Уточка с помощником и два красноармейца.
Навстречу им, легко выпрыгнув из теплушки, шел матрос, комендант бронепоезда. Пулеметные ленты, перекинутые через плечи крест-на-крест, почти закрывали парусиновую рубаху. Открытыми оставались загорелая шея и клин безволосой груди. За поясом черных штанов торчала ручка нагана. Матрос спокойно подошел к группе людей, снял бескозырку, вытер крепко ладонью сверху вниз, расплющивая мягкий широкий нос, все лицо, бронзовое и ничем непримечательное, и просто, чуть сиплым голосом сказал:
- Вот что, братишки, без канители! Через десять минут – путевку в Николаевск! А не то, - он посмотрел через головы людей на здания за станцией, - все это к черту!
Он снова с силой провел рукой по лицу и надел шапку.
- Товарищ, вы понимаете, что вы делаете? – начал, подергивая узкими красными губами, комиссар.
- Брось, братишка! – прервал матрос. – Разговаривать не о чем. Где начальник участка? Давай сюда начальника! – повысил он голос.
- Я комиссар…
- Ах, комиссар, - протянул матрос, щуря глаза и чуть откидывая назад голову, - а мне начальника участка! – вдруг заорал он. – Зови начальника!
Комиссар посмотрел в глаза матросу и понял, что спорить уже бесполезно.
- Хорошо. Сейчас придет начальник. Пойдем, товарищи.
Он повернулся и пошел к станции. За ним, молча, двинулись остальные.
Матрос остался один. Он подозрительно оглядел пустой раскаленный перрон и легонько свистнул. На свист, перелезая через мешки, с платформ соскочили шесть матросов с винтовками в руках.
С двух сторон, по трое, они стали возле коменданта, лицом к черному, прохладному прямоугольнику раскрытых дверей здания.
Но дядя Вася вышел из-за угла здания. Шел он медленно, дымя папироской, с шапкой в руке. На блестящей под солнцем лысине мерно покачивался, приседая хвостом, Чичиков.
Матросы с недоумением и любопытством смотрели на идущего.
Дядя Вася, не спеша, дошел до матросов и остановился перед комендантом. Чичиков, сидевший спокойно, пока дядя Вася шел, теперь, прыгая по небольшой площадке лысины, осторожно разглядывал матросов. Наконец, он чирикнул и принялся поклевывать лысину. Матросы, позабыв, зачем они приехали, не отрываясь, смотрели на воробья. И когда воробей, вдруг присмирев, оставил на лысине след, - матросы не выдержали и загрохотали. Комендант хмыкнул, снял шапку и провел рукой по лицу, безжалостно прижимая нос. Чичиков взглянул на коротко стриженую круглую голову коменданта, вспорхнул и сел на нее. Матросы гремели, сверкая белыми зубами, приседали, ухали. Комендант хохотал тоже, но стоял прямо с напряженно неподвижной головой.
Дядя Вася вынул из кармана платок, вытер лысину и хехекнул.
Один из матросов, догадавшись, содрал с головы шапку и, выставляя вперед копну путанных волос, смеясь, крикнул:
- А ну, ко мне!
Воробей чирикнул и перелетел к нему. Но сейчас же, ему видимо не понравились цеплявшиеся за коготки волосы, - вернулся на голову коменданта.
- Не любит волосатых! Ха-ха-ха, - ревели в детском восторге матросы.
Польщенный комендант уже не боялся спугнуть воробья и хохотал громче всех.
Дядя Вася смотрел на матросов и улыбался, как улыбается зрелый человек, глядя на смеющегося ребенка.
- Вот это так воробей! – простонал, стирая огромным кулаком слезы, один из матросов.
- Это что же, - воробей начальник участка? – посмотрел, гогоча, на дядю Васю комендант. – У него, что ли, путевку просить?
- А отчего бы и не у него? Он все может! – Дядя Вася не ожидал такой быстрой удачи. – Он все может, - с удовольствием повторил он. – Молодец, Чичиков!
- Чичиков! – снова загрохотали матросы. – Чичиков! Чичиков! Чичиков! – ревели шесть глоток.
Договорились у дяди Васи за столом. Матросы оставляют у дяди Васи на хранение соль, получают новые мешки и едут обратно драться.
Договор был закреплен двумя бутылками мутного, рыжего самогона. Выпит был самогон за революцию, за Чичикова, за матросов, за хорошего человека – дядю Васю…»
Тонкая и умная проза Фромана с тех пор, с 1930 года, переиздавалась лишь один раз – в начале 2000-х крошечным тиражом был издан томик избранных произведений Фромана, в том числе и две эти повести. И очень хочется, чтобы эти тексты все-таки попали в сферу внимания читающей публики.
А Михаил Фроман прожил недолгую жизнь – 21 июня 1940 года он умер после неудачной операции на желчном пузыре. По воспоминаниям Иды Наппельбаум, на панихиду в гостиной Дома писателей собралось около трехсот человек. Его похоронили на Волковом лютеранском кладбище. «У могилы Николай Браун прочел одно из последних стихотворений Фромана “Дуб”. Над могилой действительно нависала зелень огромного дуба. В больнице, умирая, понимая, что происходит, он в отчаянии шептал: “Но я еще своего главного не написал!”…» Ему было 49 лет.
Да, а вынесенная в заголовок фраза – первое предложение повести «Конец Чичикова».
Возвращаюсь к литературе...
«История Клуба-81», Борис Иванов

В 1981 году в Ленинграде, по согласованию с КГБ (иначе в те годы было невозможно), был основан «Клуб-81», объединивший ленинградских литераторов, которые активно печатались в там- и самиздате. В Клуб вошли около семидесяти человек, в том числе Виктор Кривулин, Елена Шварц, Олег Охапкин, Наль Подольский, Аркадий Драгомощенко, Сергей Стратановский и другие – цвет ленинградской неподцензурной прозы и поэзии. Кроме того, «Клуб-81» включал секции критики и перевода, а так же музыкальную секцию (куда одно время входили Борис Гребенщиков и Сергей Курехин), театральную студию Эрика Горошевского. Одним из инициаторов создания клуба был Борис Иванов – писатель и издатель самиздатовского журнала «Часы», очень важного для ленинградской неподцензурной литературы. Книга воспоминаний Бориса Иванова (выпущенная тиражом 700 экземпляров) – очень подробный, изобилующий документами и свидетельствами очевидцев и очень грустный рассказ о жизни и смерти «Клуба-81».
Документальное повествование поначалу читается как добротный триллер – как еще назвать взаимоотношения с «органами», игру в кошки-мышки, попытки убедить в необходимости свободы тех, кто призван эту свободу ограничивать или, при случае, попросту уничтожать? Интересно, что «неофициалы» (именно так называют себя неофициальные литераторы – инициаторы «Клуба-81») в стремлении найти общий язык с властями переходят на язык официоза – бюрократическо-силовая машина иначе не понимает. При этом, как точно подмечает автор, официальные лица смотрят на неофициалов как на тех, «на кого уголовные дела уже заведены».
Книга вообще наполнена афоризмами: «Когда с советским человеком поговорит человек из Большого дома, в его поведении еще некоторое время угадываются следы легкого сотрясения мозга». Или забавными байками: при подготовке первого отчетно-предвыборного собрания клуба (1983) в правление поступило заявление от Олега Охапкина – он просил освободить его от обязанностей члена клуба за «полнейшую неспособность к сотрудничеству с кем бы то ни было, неколлегиальность мышления, религиозный склад ума…» Или остроумными наблюдениями: «В Лавке писателей для членов Союза есть помещение, где они могут заниматься чтением, а главное – каждый имеет ящичек, в который персонал лавки вкладывает книги, заказанные его хозяином. Роман Пикуля «Фаворит» писатели воруют друг у друга. На Лиговке покупатели взяли штурмом прилавок книжного магазина – до магазина контейнер с романом сопровождали народ и милиция…» И так далее.
Но это не главное. Главное (и очень актуальное) в книге – это попытка анализа того, насколько далеко можно зайти при сотрудничестве с враждебной властью. Где граница, за которой диалог превращается в заискивание? Когда наступает момент невозможности компромисса? И существует ли он, этот момент?
И это, конечно, очень грустная книжка: в борьбе неофициалов с государственной машиной побеждает последняя. И дело даже не в том, что сегодняшние мы знаем, к чему привела та самая борьба за демократию. Просто «Клуб-81» заканчивает свое существование в 1988 году, переродившись в общественно-политическую организацию, предвестие «Ленинградского народного фронта» – страна трещит по швам, многотысячные митинги демократических сил проходят под стенами, в которых заседают те, кто не собирается отдавать власть, а в помещения «Клуба-81» случается пожар (подозревают, в том числе, общество «Память»), не до стихов…
Но последняя фраза книги все равно не о политике. Запись из дневника Бориса Иванова от 21 ноября 1988 года: «Возвращаюсь к литературе».
На стене полно теней от деревьев (Многоточье)
«Сто стихотворений. 1961—1970», Леонид Аронзон
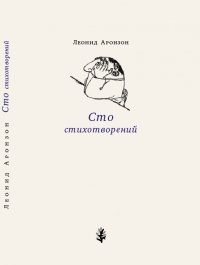
Леонида Аронзона — поэта, в середине 1960-х принадлежавшего к кругу «Малой Садовой», а в 1970-м погибшего при странных обстоятельствах в возрасте тридцати одного года, — при жизни практически не печатали. Да и после смерти его не печатали довольно долго – в 1979 году составленный Еленой Шварц сборник Аронзона вышел приложением к самиздатовскому журналу «Часы» (спустя годы сборник был переиздан сначала в Иерусалиме, потом в Санкт-Петербурге), в 1990-м вышла составленная Владимиром Эрлем книга «Стихотворения», а потом, в 2006-м, «Издательство Ивана Лимбаха» сделало его двухтомник, почти сразу ставший библиографической редкостью, - на сегодняшний день это самое полное собрание стихов поэта. И вот, наконец, выходит очередная его книга — издательство «Барбарис», которое выпускает книги редко, но метко, начинает издание серии, посвященной поэту, и первая книга в серии называется «Сто стихотворений. 1961—1970». Если посмотреть на это событие с точки зрения не повседневности с ее проблемами и заботами, а с точки зрения культуры вообще, то выход этой книги – одно из главных событий Года литературы, что бы ни значило это странное бюрократическое понятие. Представить себе ленинградскую культуру в частности и российскую (советскую неподцензурную) в целом без текстов Аронзона невозможно. И будет очень обидно, если книга «Сто стихотворений» окажется незамеченной, как уже неоднократно случалось с не менее важными для понимания русской литературы второй половины ХХ века книгами.
***
Вымершим миром, немым отпечатком
тучи стынут на вогнутом небе,
слово — как тупость, и ветер из кадки
плещет ливень в оглохшую невидаль.
Памяти нет, ни мечты и не времени,
выпали мысли, остались глаза,
сплошной можжевельник сжимается в темень,
сосны и тени по жутким лесам.
Нет ни тебя, ни его, и в корзине
листьев <и> сучьев, свалившись на дно,
светит луна — ни отнять, ни унизить,
ни потерять, ни понять не дано.
***
На стене полно теней
от деревьев (Многоточье)
Я проснулся среди ночи:
жизнь дана, что делать с ней?
В рай допущенный заочно,
я летал в него во сне,
но проснулся среди ночи:
жизнь дана, что делать с ней?
Хоть и ночи все длинней,
сутки те же, не короче.
Я проснулся среди ночи:
жизнь дана, что делать с ней?
Жизнь дана, что делать с ней?
Я проснулся среди ночи.
О жена моя, воочью
ты прекрасна, как во сне!
***
Несчастно как-то в Петербурге.
Посмотришь в небо — где оно?
Лишь лета нежилой каркас
гостит в пустом моем лорнете.
Полулежу. Полулечу.
Кто там полулетит навстречу?
Друг другу в приоткрытый рот,
кивком раскланявшись, влетаем.
Нет, даже ангела пером
нельзя писать в такую пору:
«Деревья заперты на ключ,
но листьев, листьев шум откуда?»
***
В двух шагах за тобою рассвет.
Ты стоишь вдоль прекрасного сада.
Я смотрю — но прекрасного нет,
только тихо и радостно рядом.
Только осень разбросила сеть,
ловит души для райской альковни.
Дай нам Бог в этот миг умереть,
и, дай Бог, ничего не запомнив.
***
Как хорошо в покинутых местах!
Покинутых людьми, но не богами.
И дождь идет, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами.
И дождь идет, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами.
Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!
Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!
Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идем за нами.
Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идем за нами.
Кто наградил нас, друг, такими снами?
Или себя мы наградили сами?
Кто наградил нас, друг, такими снами?
Или себя мы наградили сами?
Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта:
ни тяготы в душе, ни пороха в нагане.
Ни самого нагана. Видит Бог,
чтоб застрелиться тут не надо ничего.
***
Приближаются ночью друг к другу мосты
И садов и церквей блекнет лучшее золото,
сквозь пейзажи в постель ты идешь, это ты
к моей жизни, как бабочка, насмерть приколота.
Но я еще найду единственный размер…
«Колёр локаль», Сергей Чудаков

Про Сергея Чудакова не слишком много известно. Вернее, наоборот, – известно слишком много, но все это – «по слухам», «по словам», сплошные домыслы. Даже с его смертью ничего непонятно – долгие годы говорили о его насильственной смерти, а еще ходили слухи о том, что он замерз в подъезде в 1973 году, Бродский тогда написал стихотворение «На смерть друга», а теперь считается, что он умер на одной московской улице от сердечного приступа в октябре 1997-го. С его жизнью дела обстоят не лучше – просто авантюрный роман, а не жизнь поэта.
Первая публикация его стихов случилась в 1956 году в «Синтаксисе». В 1978 году в опубликованном романе Олега Михайлова «Час разлуки» были напечатаны стихи Чудакова – как стихи одного из романных персонажей. В 1980-м его тексты появились в сборнике «У Голубой лагуны» (США), а потом, в 1990-е, выходили уже в российских сборниках. О поэте писал Константин Кузьминский, Евгений Рейн и Всеволод Некрасов. Наиболее полный сборник его стихов (основанный на машинописном сборнике Чудакова из архива филолога Дмитрия Ляликова) вышел в середине 2000-х. Книга называется «Колёр локаль», и вот несколько текстов из нее – почитайте.
***
О как мы легко одеваем рванье
И фрак выпрямляющий спину
О как мы легко принимаем вранье
За липу чернуху лепнину
Я двери борделя и двери тюрьмы
Ударом ботинка открою
О как различаем предателя мы
И как он нам нужен порою
Остались мы с носом остались вдвоем
Как дети к ладошке ладошка
Безвыходность климат в котором живем
И смерть составная матрешка
Билеты в читальню ключи от квартир
Монеты и презервативы
У нас удивительно маленький мир
Детали его некрасивы
Заманят заплатят приставят к стене
Мочитесь и жалуйтесь богу
О брат мой попробуй увидеть во мне
Убийцу и труп понемногу
***
Но я еще найду единственный размер
прямой как шпага и такой счастливый
что почернеет мраморный Гомер
от зависти простой и справедливой
У мальчика в глазах зажгу пучки огня
поэтам всем с вином устрою ужин
и даже женщина что бросила меня
на время прекратит сношенья с мужем.
***
Чем питается ссыльный. Чем Бог пошлет
перелетную птицу стреляет влет
и в болотную рыбу летит динамит
когда чувствует он аппетит.
Что мечтается ссыльному. Знает черт
он приехал фланером на антикурорт
и последние деньги тратит на флирт
с местной дамой по имени спирт.
***
Пушкина играли на рояле
Пушкина убили на дуэли
Попросив тарелочку морошки
Он скончался возле книжной полки
В ледяной воде из мерзлых комьев
Похоронен Пушкин незабвенный
Нас ведь тоже с пулями знакомят
Вешаемся мы вскрываем вены
Попадаем часто под машины
С лестниц нас швыряют в пьяном виде
Мы живем — возней своей мышиной
Небольшого Пушкина обидев
Небольшой чугунный знаменитый
В одиноком от мороза сквере
Он стоит (дублер и заменитель)
Горько сожалея о потере
Юности и званья камер-юнкер
Славы песни девок в Кишиневе
Гончаровой в белой нижней юбке
Смерти с настоящей тишиною.
P.S. Удивительное совпадение - в рамках книжной ярмарки №on/fiction в пятницу, 27 ноября, на презентации альманаха «Acta samizdatica / Записки о самиздате» будет прочитана недавно обнаруженная в архиве ФСБ поэма Сергея Чудакова. Приходите!
Последний адрес
Санкт-Петербург, Малая Конюшенная ул., 4/2
Да простят меня редакторы «Голоса Омара», но мой сегодняшний эфир посвящен не книге, а нескольким людям, связанным общим несчастьем. Наверняка многие из вас знают про прекрасную акцию «Последний адрес» (если не знаете — пожалуйста, почитайте тут). Так вот, 22 ноября в 14:00 сразу семь табличек «Последнего адреса» появятся на доме 4/2 по Малой Конюшенной улице, что в Питере. В этом доме находится музей Михаила Зощенко (кстати, прекрасный!), а вообще-то это — знаменитый писательский дом, в котором жили или бывали лучшие из лучших ленинградских (и не только) писателей 1920-1930-х: сейчас на лестнице есть экспозиция — можно в подробностях прочитать о том, кто жил в этом доме, а над некоторыми квартирами даже висят надписи. А еще там есть так называемый «подоконник Зощенко» — на нем великий писатель, сходивший с ума от ожидания ареста, просиживал часы и дни, глядя во двор и высматривая там автомобиль НКВД. Этот дом обязателен для посещения всеми гостями Санкт-Петербурга, которые любят читать.
Но сейчас не об этом. А о том, что 22 ноября на доме появятся семь табличек, посвященных семерым литераторам, которых забирали из этого дома и которые больше не вернулись ни в этот, ни в какой-то другой дом. И мой сегодняшний эфир посвящен этим людям. Это — их тексты или упоминания о них (когда текстов не найти).
***
Валентин Стенич, поэт, переводчик (расстрелян 21 сентября 1938 года):
Набережная ночью, до войны (Д. Г. Лоуренс, перевод Валентина Стенича)
Брошены всеми -
Дождь ночной моросит незримо,
Неотвязно к лицу припадая губами.
Река, ползущая мимо
Огней, расписана полосами
До середины боков могучих -
Зверь, залегший в ночи дремучей.
Под мостом
Громады трамваев
С гулом несутся, и каждая мчит свой отблеск с собой,
А там вдалеке, в пространстве пустом,
Что безмолвием ночь ограждает,
Блестка за блесткой плывет над подцвеченной светом водой.
У Чаринг Кросса, на самой дороге,
Здесь, под мостом, бездомные спят,
Сжатые в ряд, со стеною вместо подушки;
Цепочкой прерывистой - ноги.
И бросает пришелец неуверенный взгляд
На краю этой голой человечьей конюшни.
Голову скрыв, засыпает
Всякий зверь; оттого вот
И они тряпьем и руками накрыли свой сон.
И только, когда трамваи
Пролетают, гудя, как овод,
И белым лучом полоснет по низкой куче вагон,
Два голых лица видны,
Спящих и неприкрытых,
Два сгустка белесых, задетых жизнью чужой,
Тусклая пена волны
На куче, приливом намытой,
Травы, поросшие в иле бледной, без тени, звездой…
***
Николай Олейников, поэт, редактор журнала "Чиж" (расстрелян 24 ноября 1937 года):
О нулях
Приятен вид тетради клетчатой:
В ней нуль могучий помещён,
А рядом нолик искалеченный
Стоит, как маленький лимон.
О вы, нули мои и нолики,
Я вас любил, я вас люблю!
Скорей лечитесь, меланхолики,
Прикосновением к нулю!
Нули — целебные кружочки,
Они врачи и фельдшера,
Без них больной кричит от почки,
А с ними он кричит «ура».
Когда умру, то не кладите,
Не покупайте мне венок,
А лучше нолик положите
На мой печальный бугорок.
***
Борис Корнилов, поэт (расстрелян 20 февраля 1938 года):
Песня о встречном
Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?
Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.
И радость поет, не скончая,
И песня навстречу идет,
И люди смеются, встречая,
И встречное солнце встает.
Горячее и бравое,
Бодрит меня.
Страна встает со славою
На встречу дня.
Бригада нас встретит работой,
И ты улыбнешься друзьям,
С которыми труд и забота,
И встречный, и жизнь — пополам.
За Нарвскою заставою,
В громах, в огнях,
Страна встает со славою
На встречу дня.
***
Юлий Берзин, писатель (расстрелян 11 июня 1942 года):
Из воспоминаний Георгия Жженова
Мой сокамерник по восьмимесячному сидению в "Крестах". Соавтор по коллективному творчеству "Детских считалочек 1938 года".
Раз, два, три, четыре, пять —
Мы сидели на квартире,
Вдруг послышался звонок,
И приходит к нам стрелок.
С ним агент и управдом,
Перерыли все вверх дном.
Перерыли все подушки,
Под кроватью все игрушки,
А потом они ушли
И... папашу увели.
Раз, два, три, четыре, пять —
Через день пришли опять.
Перерыв квартиру нашу,
Увели с собой мамашу!
Завтра явятся за мной.
Щуплый, с чахлой рыжей бороденкой (так путно и не выросшей на тюремных харчах), похожий на доброго гнома, Юлик Берзин - барометр камеры, всегда показывавший "ясно-солнечно". Неиссякаемый кладезь хохм и анекдотов - улыбчивый Юлик, с библейской печалинкой, навечно застрявшей в глубине светлых глаз...
***
Ян Калнынь, главный редактор детского радиовещания Радиокомитета (расстрелян 18 января 1938 года):
Из дневника Даниила Хармса
Воскресенье, 19 февраля
Ночью были страшные мысли о
Во сне видел Кепку, но будто она белая. Утром, пока я еще спал, пришел Введенский.
Жаловался ему на бессилие. Ходил в горком. Брауна и Калныня не видел.
Анкету не заверил. Встретил Шварца. Заходил к нему и пил чай. Потом долго гулял
с ним по улице…
***
Георгий Венус, писатель (в 1938 году во время следствия умер в тюрьме):
Сыну (отрывок)
Не я — твой вожатый! — Заря на валу.
Не я пред тобою сниму
заставы!
Да будет бежать пред тобой тропа.
Да будет петь — телеграфный провод!
...Весенний ветер в траву упал, —
Да будет в траве он звенеть снова!
Пусть посох верный не я возьму,
Чтоб вновь тягаться с весенним бегом!..
Смотрю, ломая глазами тьму,
Как вздулась
сила под талым снегом.
И, бросив годы в
поток воды,
Волной ровняю твои
победы, —
И моет ливень мои следы,
Чтоб ты за мною не шел следом.
***
Павел Медведев, профессор, литературовед (расстрелян 17 июля 1938 года):
Из статьи Ю. и Д. Медведевых «Творческое наследие П. Н. Медведева в свете диалога с М. М. Бахтиным»
Для Медведева, возвратившегося в Петроград весной 1922 года, этому периоду предшествовал очень важный момент, связанный с его приглашением в труппу Передвижного театра Гайдебурова и Скарской — одного из самых самобытных явлений петербургской культуры (по словам Медведева, «явления единственного в художественной культуре современности»). Медведев деятельно участвует в самой гуще театральной жизни, становится редактором «Записок Передвижного театра», которые, с его приходом, превращаются в еженедельное в основном литературно-критическое издание. На Палестре Передвижного театра П. Н. Медведев читает курс психологии художественного творчества и цикл докладов о Достоевском, публикует в «Записках…» многочисленные статьи. Подобно тому, как в 1918—1919 годах в Витебске Медведев собирал круг «Общества свободной эстетики», Витебского народного университета и предполагавшегося к открытию Института гуманитарных наук и искусств, так и вокруг «Записок Передвижного театра» ему удаётся собрать круг интереснейших людей своего времени, занимавшихся проблемами теории творчества, по этики, текстологии. За полтора года его работы в журнале в нём приняли участие: В. Жирмунский, Б. Томашевский, Б. Казанский, А. Пиотровский, И. Груздев, Э. Голлербах, Э. Радлов, Д. Выгодский, М. Тубянский, В. Волошинов, Н. Клюев, К. Вагинов и др. Не все разделяли идеологию и эстетику Передвижного театра, но на страницах журнала их объединяла философская, научная и редакторская устремлённость П. Н. Медведева, его артистизм…
«Наступают удивительные времена…»
Ян Сатуновский, «Стихи и проза к стихам»
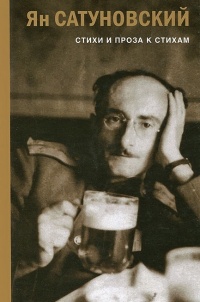
Вчера, опаздывая на работу,
я встретил женщину, ползавшую по льду́,
и поднял ее, а потом подумал: – Ду-
рак, а вдруг она враг народа?
Вдруг! – а вдруг наоборот?
Вдруг она друг? Или, как сказать, обыватель?
Обыкновенная старуха на вате,
шут ее разберет.
(1939)
Это – первое стихотворение Яна Сатуновского, которое я прочитал сколько-то там лет назад (стихотворение, хочу особо обратить внимание, 1939 года!). И – все, мой мир изменился до неузнаваемости. Я открыл для себя неизведанный до того какой-то другой мир, в котором слова складывались в предложения, вроде бы, привычно, а вроде – и каким-то другим, особенным образом. Я не мог поверить в то, что это существовало, особенно – в те страшные годы.
Сатуновский родился в Екатеринославе (Днепропетровск), учился в Москве, потом вернулся на родину, где закончил университет по специальности физическая химия, и там же вел юмористический раздел в вечерней газете. После войны (которую прошел) переселился в Электросталь, где работал инженером. Познакомился с лианозовцами. Публиковал детские стихи. Кажется, при жизни Сатуновского его взрослые стихи в СССР так и не были напечатаны – он умер в 1982-м, а первая маленькая книжка его взрослых стихов вышла через десять лет. Она называлась «Хочу ли я посмертной славы».
На презентации книжки Сатуновского «Стихи и проза к стихам» – самого полного на сегодняшний день свода текстов поэта – рассказывали, как его стихи как-то показали Илье Эренбургу. Тому стихи понравились, но он сказал: "Вы же понимаете, что ваши тексты смогут оценить только я и Шкловский. Наступают удивительные времена..."
А вот – стихи:
***
Один сказал:
– Не больше и не меньше,
как начался раздел Польши.
Второй
страстно захохотал;
а третий головою помотал.
Четвертый,
за, за, заикаясь, преподнес:
– Раздел. Красотку. И в постель унес.
Так мы учились говорить о смерти.
(1940)
***
Мама, мама,
когда мы будем дома?
Когда мы увидим
наш дорогой плебейский двор
и услышим
соседей наших разговор:
– Боже, мы так боялись,
мы так бежали,
а вы?
– А мы жили в Андижане,
а вы?
– А мы были в Сибири,
а вы?
– А нас убил.
Мама,
так хочется уже быть дома,
чтоб все, что было, прошло,
и чтоб все было хорошо
(1942)
***
Как
я устал!
Устало сердце
кровью
умывать глаза.
Глаза –
глазеть
на путаницу этих улиц,
лиц
и сцен.
Устала
кровь
толкаться с шумом
в тесных жилах
вверх и вниз,
и вот –
уснула кровь.
(1945)
***
Однажды ко мне пристала корова.
Я был тогда прикомандирован
к дивизии. Рано утром, тишком, нишком,
добираюсь до передового пункта, и слышу:
кто-то за мной идет
и дышит, как больной:
оборачиваюсь – корова;
рябая, двурогая; особых примет – нет.
(май 1946)
***
О, как ты сдерживаешься,
чтобы не закричать,
не взвыть,
не выдать себя –
ничем –
посреди топота
спешащих жить, –
поскальзывающихся,
встающих,
оскаливающихся,
жующих,
сталкивающихся –
лоб в лоб
–
толп,
толп!
(1946)
***
Отстал
в пути,
устал, мне не дойти;
на плечи снег напа́дал,
ни охнуть, ни вздохнуть;
ни засветить лампаду,
ни этот
сон
стряхнуть.
(1959)
***
Вот уже
в шестьдесят четвертом году
я иду
по снежной Остоженке.
Вот уже
в шестьдесят четвертом году
я стою
у стоянки автобуса.
И чего я
таюсь?
И чего я
жду
вот уже в шестьдесят четвертом году?
(1964)
Я могу цитировать его бесконечно, но пора остановиться. Единственное – вот есть стихотворение, которым я, пожалуй, закончу эту крошечную подборку:
Хочу ли я посмертной славы?
Ха,
а какой же мне еще хотеть!
Люблю ли я доступные забавы?
Скорее нет, но может быть, навряд.
Брожу ли я вдоль улиц шумных?
Брожу,
почему не побродить?
Сижу ль меж юношей безумных?
Сижу,
но предпочитаю не сидеть.
Дальше – топь…
«Дети равновесия. Об Алисе, СашБаше и др.», Святослав Задерий
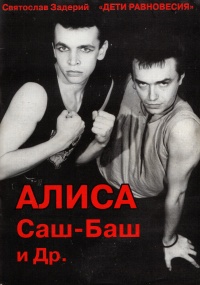
Сегодня я хочу сказать два слова о настолько редкой книжке, что я даже и не знаю, где ее можно найти. Хотя вот мне повезло – на одной из книжных ярмарок Non/fiction я наткнулся на нее у продавца музыкальной литературы на третьем этаже – там, где обычно продают винил. Так что, возможно, и вам повезет.
Святослав Задерий – важная фигура в истории того, что условно называют «русским роком»: он начинал играть еще в середине 1970-х, участвовал в том числе в группе «Хрустальный шар», а в 1983-м собрал группу «Алиса» (Константин Кинчев пришел в группу годом позже). В 1986-м Задерий покинул «Алису» и создал группу «Нате!», более чем успешно выступал с ней, пока, в самом конце 1980-х, группа не распалась. Потом было несколько возрождений «Нате!», не таких успешных, не очень частые выступления, записи не очень заметных альбомов. В 2009-м у Задерия случился первый инсульт, а 6 мая 2011-го умер – 23 мая должен был состояться благотворительный концерт в помощь музыканту, но… не успели.
Ну вот, а в 1999 году Задерий выпустил маленькую книжечку, о которой, собственно, и речь. И она хороша по многим причинам, прежде всего – как живой документ удивительного времени. А еще в ней, кроме занятных историй про Александра Башлачева, того же Константина Кинчева и, например, про самое начало группы «Калинов мост», есть места, удивительным образом перекликающиеся со сценариями Петра Луцика и Алексея Саморядова. И это – отдельное удовольствие.
Я говорю: дядя Коля, давайте, мы пойдем. Он нам
ласково отвечает: идите, идите, ребята. Завели нас в вагончик, там сидят пять
человек. Парни достаточно интеллектуального вида — по крайней мере, не лютые уголовники, скажем. Эрик —
здоровый, двухметровый прибалт, кулаки — как две пивные кружки. О! — говорят, —
вот, Нурик привел людей. Кто такие? Мы отвечаем — мол, музыканты, путешествуем…
Ну-ну, говорят, сейчас посмотрим, какие вы музыканты… А что, отвечаем, какие уж
есть. Саш-Баш сел за стол, я — возле двери на корточки. Смотрю — тот, что возле
Саш-Баша сидел, достал ножик и стал им ногти чистить. А тот, что возле меня
был, тоже вынул ножик и стал играть им — втыкать в пол: Пык! — чик. Чик! — пык.
И так приговаривая при этом: "Кто выберется… кто не выберется". Кто
выживет… а кто не выживет. Все едино…" Я смотрю — в принципе, люди — то
они хорошие, видно по ним, все равно внутренний огонь есть. Лица — то у них
нормальные. Я говорю: ребята, че паритесь, давайте, мы вам песни споем. И все
сразу разберем. Ну, мы гитарки с Сашкой расчехлили — он три песенки, я три
песенки… Попели. Те люди умные, понятливые, говорят: ну, так с этого и надо
было начинать… у нас тут как раз супчик поспел… Накормили нас супчиком — век не
забуду, со всеми специями. Говорят: еще гони. Мы еще по песне. Они косяки
достали — а какой там у них план — ежику понятно: со спичечной головки четверо
человек могут улететь, и так надолго подумать обо многом. И тут один человек
останавливает: все, все, все! Хватит музыки, все — на планы! Время пришло! Я
говорю: ребятки, может, и нас возьмете, мы там тоже что-нибудь попробуем
потереть сбоку… Они нам: у-у-у, нет, все в разные стороны… Я не понимаю — что
такое? К Эрику подхожу, а Саш-Баш в это время разговаривает с другим человеком.
Эрик мне объясняет: у нас тут такая система — у каждого свой пятак, мы
расходимся, и где кто трет — никто не знает. Слышу — Саш-Баш говорит с человеком,
тот ему предлагает: хотите, я вам покажу дорогу? Вон, идите туда, — а там то ли
электрическая лампочка вдалеке, то ли звезда, в темноте не поймешь ничего.
Человек этот предупреждает: там сначала будет собака, но вы ее не бойтесь.
Потом будет по щиколотку, потом — по колено. Но вы идите дальше, там дальше еще
электрические провода, но мы их обычно переступаем.
Собаки, электрические провода… Эрик отказывается
нас вести кто вас привел сюда, говорит, тот вас пусть и туда ведет. А Нурик
вообще никакой. Но пошли мы за ним. Эта электрическая лампочка, оказалась
подвешена над какой-то не то свинофермой, не то еще какой фермой. Идем мимо — и
тут через забор прыгает собака, повисает на поводке с диким лаем: ав-ав-ав! Мы
остановились… Саш-Баш говорит: слушай, давай вернемся, я брошу курить — вообще,
навсегда. Нет, раз уж пошли — надо идти. Собака висит на заборе, воет… Мы пошли
дальше. Вдруг трава вокруг нас начинает как бы оживать — с таким шипением:
ш-ш-ш… Оказывается, там лежали старые электрические провода, скрученные, они
тут никому не нужны, но если касаешься одного конца — оживает все поле.
Совершенно фантастическое зрелище при Луне…
Дальше — топь…
...как хочется гулять
"Азбука", Гавриил Лубнин

Для начала, я считаю, что Гавриил Лубнин – выдающийся поэт, который со своими рифмованными строчками находится примерно там, где находились Даниил Хармс и, позже, Олег Григорьев – два человека, с которыми нам посчастливилось жить в одном веке (и которым, судя по тому, как закончились их жизни, не посчастливилось жить в одном веке с нами).
Лубнин – человек, который, как мне кажется, обладает абсолютным чувством слова. То есть, он подбирает слова так, что заменить одно слово другим очень сложно, даже, наверное, практически невозможно (пишу «практически», чтобы обезопасить себя). Его строчки моментально узнаваемы, и это только кажется, что Лубнину легко подражать – на самом деле, может получиться похоже, но не получится так, как у него – то самое чувство слова, которым обладают единицы (Хармс, Григорьев…). Раз примерно в два года в Сети всплывают подборки его примитивистских рисунков с забавными подписями (вот это вот – «Ну и что, что вьюга, мы же любим друг друга», или человек на костылях смотрит в окно, и написано: «Блядь, как хочется гулять»), и все в очередной раз восторгаются. Еще кто-то знает, что Лубнин поет (дело в том, что он много лет не выступает, только иногда споет пару песен на открытии очередной своей маленькой выставки), а поет он очень круто – у него дико красивый низкий голос, очень красивые мелодии, он виртуозно владеет гитарой, а еще у него пронзительные тексты песен, совсем не похожие на его смешные стишки. Хотя, конечно, похожие, и дело не только во владении словом. Лубнин – примитивист в лучшем смысле этого слова:
А лицо – яйцо, в складках овал,
Кто
б срезал горб – я б станцевал,
Ключ-долото, дыры в зубах,
В детском
пальто, с палкой в руках…
Много лет назад бабу любил,
Нечем
показать – рыбу ловил,
Не хватай меня, смерти рука,
Голого старика…
Если говорить про его песни – я на самом деле не знаю, с чем это можно сравнить. Я просто очень его люблю – и песни, и стихи, и картинки эти, сколько бы их ни было. А тут еще очередная его книжка (кажется, четвертая) – «Азбука». И это на самом деле «Азбука» - там на правой странице рисунки, посвященные разным (всем) буквам алфавита, а на левой – стихи:
В: В теплой ванне / человек моется. / В принципе / не о чем беспокоиться.
Е: Живет на свете / ехидна. / Спрячется в норке, / и ее не видно.
М: С аппетитом и смело / моль шубу ела. / Особенно нравится / шерсти ком, / там, под воротником.
П: Дети, ни в коем разе / не ходите в противогазе./ Если нету утечки газа, / не надо противогаза.
Ь: Ноль один, ноль два, / ноль три, ноль четыре, / плакатик висит / у меня в квартире. / Если у бабушки / больно внутри, / я набираю ноль три.
Ну, и так далее.
Люди, с которыми нам повезло жить в одном веке – Хармс, Григорьев, теперь вот Лубнин. Обидно, что многие не знают.
Вы не знаете Холина…
«Избранное. Стихи, поэмы», Игорь Холин
Очень сложно переоценить влияние «Лианозовской школы» на все, что происходило в России с искусством во второй половине ХХ века — вероятно, это главное, что появилось/проявилось во «втором русском авангарде». После смерти Игоря Холина, одного из лианозовцев, первого среди равных, Павел Пепперштейн писал, что Холин «был мастером совершенно прямого взгляда на вещи» («Зеркало», №9-10, 1999 г.), и вот этот совершенно прямой взгляд — наверное, и есть лучшая характеристика того, что делали лианозовцы. Они — поэты и художники — очистили свое творчество от лжи и лизоблюдства, от фальши, от всего наносного и искусственного, в том числе и от искусственной красивости, оставив голую, неприкрытую жизнь. В том же тексте Пепперштейн писал: «В своих стихах он, первый в русской поэзии, стал называть говно говном, мочу мочой, хуй хуем — и делал это без всякого к тому отношения, без психологизма, без юмора, без желания рассмешить или шокировать. Он называл эти вещи так просто потому, что так они называются». Очень странно после лианозовцев и после Холина в частности врать – впрочем, многим все равно удается.
Вот несколько текстов Холина — почитайте:
Кто-то выбросил рогожу.
Кто-то выплеснул помои.
На заборе чья-то рожа,
надпись мелом: "Это Зоя".
Двое спорят у сарая,
а один уж лезет в драку.
Выходной. Начало мая.
Скучно жителям барака.
***
Познакомились у Таганского метро.
Ночевал у неё дома.
Он - бухгалтер похоронного бюро,
она - медсестра родильного дома.
***
Обозвала его заразой,
и он, как зверь, за эту фразу
подбил ей сразу оба глаза.
Она простила, но не сразу.
***
Жил за городом на даче.
Покупал билет. Кассирша не дала сдачи.
Ругался на весь вокзал.
На последнюю электричку опоздал.
В гостинице без паспорта не пустили в номер,
Ночевал на улице, простудился и помер.
***
Мороз сегодня крепкий!
Поеживаясь зябко,
Один — который в кепке —
Сказал другому в шапке.
А тот в ответ на это:
А ты что ж думал, лето?
***
Вы не знаете Холина
И не советую знать
Это такая сука
Это такая блядь
Голова —
Пустой котелок
Стихи —
Рвотный порошок
Вместо ног
Ходули
В задницу ему воткнули
Сам не куёт
Не косит
Жрать за троих просит
Как только наша земля
Этого гада носит
«Между тем вокруг все больше зданий, похожих на спичечные коробки, — этих осовремененных бараков. На человека наступает — активное, универсальное, массовое. Надо быть сильным и особенным, таким, каким был Игорь Холин, чтобы сохранить свою личность среди всей этой российской смуты и вакханалии старого и нового. Такова реальность. И мой друг Игорь Сергеевич Холин — великий певец всего этого…» — Генрих Сапгир («Арион», №3, 1999 г.).
Абсурд как способ восприятия мира
«Валтасар. Автобиография», Славомир Мрожек

В справочных материалах пишут, что Славомир Мрожек родился в семье почтальона, и мне почему-то кажется, что одно это предложение могло бы стать прекрасным началом какого-нибудь абсурдистского текста. Мальчиком он был на побегушках в какой-то газете, а потом стал писать статьи и рисовать, чтобы в конце 1950-х вплотную заняться драматургией и в результате стать одним из главных представителей театра абсурда (или театра парадокса) в мире, оставаясь при этом плоть от плоти польским автором, независимо от страны проживания (Мрожек уехал из Польши в революционном 1968-м, а потом много ездил по миру).
С театром абсурда (или парадокса) все сложно – небольшое количество авторов из разных стран, перемолов наследие сюрреалистов, дадаистов и прочих экспериментаторов, независимо друг от друга изобрели своеобразный, ни на что не похожий драматургический стиль, навсегда изменивший и драматургию в частности, и отношение к слову в целом. Это было едва ли не последнее литературное течение, которое обладало таким мощным влиянием. При этом авторы, которых принято причислять к театру абсурда (или парадокса), были категорически разными – их, в общем-то, лишь условно можно объединить в одно литературное течение. Мрожек, которого принято относить к драматургам-абсурдистам, тоже очень сильно отличается от остальных. Абсурдисты справедливо утверждали, что люди никогда не смогут понять друг друга – они живут на разных скоростях, говорят на разных языках, и, что называется, вместе им не сойтись. И Мрожек, в текстах которого всегда было (в отличие от остальных абсурдистов) много политики, сатиры и вообще злободневности, каждой своей пьесой или рассказом подтверждал это.
Однако главное отличие Мрожека от остальных абсурдистов – не злободневность, а… возможно, это называется нежностью. Какими бы злыми не были его тексты, а они часто бывали злыми, они все равно оставались пропитанными этой самой нежностью, порой очень сильно скрытой, почти незаметной, и все равно так или иначе проступающей.
В 2006 году 76-летний Мрожек написал книгу «Валтасар. Автобиография». Он уместил длинную жизнь в маленькую книжечку, и именно из нее становится понятным, что абсурдизм – это не литературный стиль, а способ мировосприятия. Вероятно, единственно возможный.
“Ян Кендзор перебрался в Боженчин еще до Первой мировой войны. Приехал он вместе с женой из Жешувского воеводства, где закончил молочно-промышленное училище. Сохранилось письмо от тети Янины, единственной из дочерей Яна Кендзора, которая дожила до преклонных лет. Она написала мне уже после моего возвращения в Краков, в 1997 году. Почти столетняя тетушка (вскоре она умерла) так описывает своих отца и мать: «Они познакомились в поезде. Она, простая деревенская девушка, читала книжку. Заинтригованный, он заговорил с ней, и они поженились»…”
Еще один
«Маршал сто пятого дня. Часть I. Построение фаланги», Константин Большаков

Судьба сына аптекаря и, к сожалению, полузабытого ныне писателя и поэта первой половины ХХ века Константина Большакова достойна отдельной книги. Его первая книга стихов вышла, когда он еще был гимназистом – он напечатал ее сам. Когда он был студентом, он дружил с Гончаровой и Ларионовым – они оформляли его второй сборник стихов, а недавно в Сети появилась фотография, на которой Гончарова раскрашивает лицо Большакова. К слову, из продажи второй сборник Большакова (поэт к тому моменту увлекся лучизмом) изъяли, якобы за непристойность обложки. Дальше – Большаков прошел фронта Первой мировой (и оставил прекрасные стихи об этих страшных годах), принял революцию, в Гражданскую воевал в частях Красной армии, даже был военным комендантом Севастополя, а в начале 1920-х бросил стихи и переключился на прозу – ее активно издавали, прозаика ценили, и, в общем, все это закончилось именно так, как и должно было закончиться в те годы – Большакова арестовали в сентябре 1936-го, а спустя полтора года расстреляли вместе с, например, Борисом Пильняком и другими поэтами и писателями. Человеку, который ответственен за все эти расстрелы, аресты и так далее, в современной России принято ставить памятники – это говорит о многом, но я сейчас не об этом.
Последние годы жизни Большаков работал над большим произведением – романной трилогией «Маршал сто пятого дня». Первая часть трилогии – «Построение фаланги» - вышла в 1936 году. Это – история писателя, который (кажется, безуспешно) пишет роман о Наполеоне и его ссылке на остров св. Елены, об отце этого писателя, который привил сыну любовь к игре в солдатики, о голоде в годы военного коммунизма, о всплеске революционной литературной жизни, о людях, окружающих писателя (у каждого – своя непростая судьба), и о Наполеоне и людях, которые окружали его в ссылке. А так же и о детстве и о том, что каждому увлеченному солдатиками и историей мальчику когда-то приходится взрослеть.
«Проходит несколько лет. Прочитаны Майн Рид, Эмар и Жюль Верн. Надоело в мечтах бродить по прериям. Смешно считать себя бледнолицым братом краснокожих, когда дома заставляют есть котлеты, а на ночь чистить зубы и мыть ноги. Бежать в Америку бессмысленно, да и Америки уже нет. Бизоны сохранились только в Иелостонском парке. Иелостонский парк вроде нашего Зоологического сада. Во всем этом на всю жизнь убедили иллюстрированные открытки и картинки в журналах, а Фенимор Купер, оказывается, писал сто лет назад…»
Сюжетные линии романа так переплетены, что понять, кто же тут главный герой – писатель ли, чья биография во многом похожа на биографию самого Большакова, Наполеон ли или еще какая историческая фигура не слишком далекого прошлого, - невозможно. Наверное, правду бы открыл сам автор, закончив трилогию. Но сделать ему этого не довелось – неопубликованная рукопись второй части сгинула где-то на Лубянке, а к третью Большаков, кажется, так и не успел начать.
Как будто кто-то наверху так шутит…
«Даниэль и все все все», Ирина Уварова
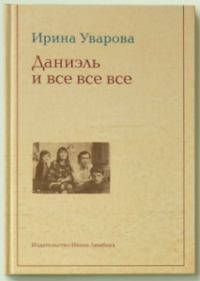
В очень хороших воспоминаниях Ирины Уваровой «Даниэль и все все все», в которых она пишет об удивительных людях, с которыми ее свела судьба, и, прежде всего, о ее муже Юлии Даниэле, а так же о тяжелых временах, которые не выбирают (и которые, к несчастью, кажется, возвращаются), меня сильнее всего зацепили два эпизода. Первый – про то, как Уварова пришла в театр «Ромэн» делать костюмы, зашла в то помещение, где хранят старые одежды, и подумал (а она, надо заметить, когда-то начинала работать с Александром Тышлером) – вот бы найти тут костюмы, сделанные по эскизам Тышлера! Но не нашла – ткани рассыпаются, да и не хранили тогда особо ничего, как, впрочем, и сейчас. Костюмы Тышлера… А второй эпизод – это уже про то, как, после дела Синявского и Даниэля началась повальная эмиграция, а на интеллигентских кухнях разгорелись споры про то, кто прав, а кто предатель – те, кто уехал, или те, кто остался. И тогда Даниэль закричал на всех – мы не имеем права осуждать! Они будут жить там за нас, а мы будем жить здесь за них! Очень сейчас не хватает таких Даниэлей.
Ну и еще – никак не могу успокоиться по поводу того, как «давно минувшее» на самом деле оказывается близко. Жена Даниэля работала с Тышлером, а сын Даниэля от первого брака пару лет назад в питерском «Мемориале» говорил хорошие слова о книге про художника Евгения Ухналева, которую сделал я. Все очень близко и очень похоже. Как будто кто-то там наверху специально так шутит. Или не шутит.
Как раньше
"Степные боги", Андрей Геласимов

Мое знакомство с прозой Геласимова началось с «Рахили» – лучшей, по моему мнению, книги писателя, потом уж было все остальное, а потом – ожидание «Степных богов», про которых говорили в прямом смысле несколько лет. В Сети даже был (есть) сборник – несколько рассказов под общим названием «Степные боги». Очень хорошо, что я в свое время их не прочитал, – как чувствовал. Потому что в книге они расположены после романа «Степные Боги», называются «Разгуляевка», и читать это все нужно именно в таком порядке, рассказы – как необходимые и, не побоюсь этого слова, блестящие дополнения к основному тексту романа. Не грех вспомнить о нем сейчас, когда многие (ну, хорошо, некоторые) обсуждают новую книгу Геласимова.
Так вот, «Степные боги» очень отличаются от «раннего» Геласимова. Прежде всего – по языку. Если предыдущие его произведения я для себя теперь определяю как «городские», то это – деревенская, степная проза. В его романе гуляет ветер, а каждая страница пропитана анархией, но не в смысле политики, а в смысле образа жизни. Просто герои романа иначе не умеют. А все вместе это – история мальчика Петьки, «выблядка», который растит волчонка, дружит с больным Валеркой, мечтает погибнуть на войне с японцами, бегает на станцию, чтобы наблюдать за поездами, и, грубо говоря, взрослеет. И еще история японского военнопленного, который, будучи врачом, собирает в степ всякие травки, чтобы лечить и русских, и японцев, пишет историю своего рода и пытается понять, почему работающие на шахте пленные умирают, а цветы, которые растут рядом, выглядят не так, как должны выглядеть.
«Степные боги» – книга о детстве и о войне, написанная так, как писали раньше. Конечно, отдельно отмечать хороший русский язык, когда читаешь книгу известного автора, довольно-таки глупо. Но приходится, потому что общий уровень современной российской прозы, так вышло, оставляет желать лучшего. Так вот, «Степные боги» - не стилизация, здесь все по-настоящему. Тем и ценно.
И, к тому же, это, действительно, очень интересно.
Человеческие воспоминания
"Обернувшись", Елена Игнатова

Про поэтессу (можно же употреблять такое слово?) Елену Игнатову есть статья в «Википедии», но про ее книжку «Обернувшись», вышедшую несколько лет назад в «Геликоне», там – ни слова. Ужасно обидно, что об этой книжке мало кто знает. Потому что это очень хорошо написанные и какие-то... очень человеческие воспоминания – о Венедикте Ерофееве, Сергее Довлатове, Илье Авербахе и вообще культурной жизни Ленинграда 70-80-х годов.
Ну, например, вот такие:
О Венедикте Ерофееве:
«Мою руку он положил себе на лицо, на глаза, и когда я заговорила о «поживем», молча провел моей ладонью по губам и подбородку, по свежему шраму. Но однако сам заговорил о будущем и о том, что все сбывается – и «Вальпургиеву ночь» поставили в московском театре, и Вайда хочет снять фильм по «Москве-Петушкам»… Я не помню всего, о чем он рассказывал, но все у него складывалось замечательно, почти фантастически. «Правда, поздно, конечно. Но еще год-полтора можно бы потянуть…» - это уже Венедикт повторял почти уверенно, и я поверила ему, как верила всегда. Так оно и случилось – еще год жизни ему был отпущен. А вот «поздно»… Дело не в том, что официальное признание и слава на родине пришли незадолго до смерти, и не стоит обвинять журналистов и именитых почитателей в том, что они появились так поздно. Хорошо, что Венедикт застал и это время. Он сожалел о другом. Из последнего интервью журналу «Континент»:
- Ощущаете ли вы себя великим писателем?
- Очень даже ощущаю. Я ощущаю себя литератором, который должен сесть за стол. А все, что было сделано до этого, - более или менее мудозвонство…»
О Евгении Евтушенко:
«Передо мной стоял очень высокий бледный человек со спортивной выправкой и короткой стрижкой. Голову он склонил немного набок, и это придавало ему, при жесткой собранности тела, какой-то оттенок жалобности. Но главным было лицо – сухое, с запавшими блеклыми глазами, напоминавшее лица старух-плакальщиц. Евтушенко протянул руку и сказал: «Евгений Александрович», - глядя остолбенело и мимо. «Она – твоя поклонница, Женя», - сообщил за меня Р. «Спасибо», - ответил тот с печальной улыбкой. «Она поэтесса, из Ленинграда, ну помнишь, я тебе говорил?» - торопился Р. Еще одна долгая скорбная улыбка, теперь адресованная, безусловно, мне. «А курить здесь можно?» - спросила я, прерывая эту странную сцену, и Евтушенко мгновенно вынул пачку «Филипп Морис», словно был готов к этому маленькому удару. «Берите две», - тихо сказал он. Я в растерянности вытянула две сигареты, он аккуратно вернул пачку в карман и с пристальной печалью поглядел на Р., словно спрашивая: «Что еще мне велит гражданский долг сделать для нее?»…»
О Сергее Довлатове:
«После отъезда Лены дом замер, Сергей выглядел растерянным и подавленным. Мы репетировали с ним предстоящий поход в ОВИР.
- Итак, вы получили вызов от Исайи Улевского. Кто он такой?
- Не знаю, - честно отвечала я.
- Как не знаете? Ваш дядя, родной брат матери! Как давно и каким образом вы о нем узнали?
- Месяц назад. Из вызова.
- Неверно. В шестьдесят первом году он прислал письмо. И потом не раз присылал письма и подарки.
- А если они потребуют их показать?
- Что показать? Что они могут потребовать? Он присылал мацу, вы ее съели. А письма порвали, боялись хранить.
Бело решено, что это я собираюсь воссоединиться с дядей.
- Внимание! – говорил Сергей. – Начинается самое интересно! Как он попал в Израиль?
Действительно, как? Не огородами же… Легенда, которую он предложил, меня смутила: как я выдам в ОВИРе такую залепуху, они же не полные идиоты? «Во-первых, это не факт, - возражал Сергей, - во-вторых, всем понятно, что у большинства нет никакой родни, что все это липа. Но играем по правилам – вы говорите, а они слушают. Да, что вы, в самом деле, они на днях цыганский табор выпустили по еврейским вызовам!» Великодушие Сергея было столь велико, что он поделился с нами легендой и биографией моего мифического израильского дяди.
- Семья вашего деда жила в Жамках. В местечке Жамки.
- А где оно?
- Не углубляйтесь. Теперь, как звали ваших деда и бабку?.. Нет, это не годится, их звали Сарра и Авраам.
Я жалобно пискнула. «Не хотите Сарру и Авраама? Ладно, тогда Иаков и Рахиль. И сын их Исайя, - заключил он. – Итак, Жамки, 1914-й год. Немецкие войска вошли в местечко. Паника, тевтонские каски, крики: «Шнеллер – яйки, млеко, сало!» А сала-то и нету! Что очень нехорошо и даже опасно… - Сергей сокрушенно покачал головой. – Дед Яков видит: надо спасать семью. Они бегут из Жамок – ночью, босиком, переходят линию фронта, бабушка Рахиль в темноте пересчитывает детей по головам. А утром видит, что Исайки нет! Пропал! И обратно нельзя. Представляете, что они пережили?» Я представила, как рассказываю все это в ОВИРе, и почувствовала, что садится голос.
- Как он пропал? И почему босиком? – хрипло спросила я.
- Не углубляйтесь. Отстал, заблудился, волк унес… Бежал, порезал ногу, к утру дополз до дома, а немы как раз собрались отступать. Пожалели мальчишку, посадили на подводу. В общем, когда казаки и ваш дед ворвались в местечко, его там не было, ушел с тевтонами. Дальнейшее, надеюсь, понятно – революция, коллективизация, семья уверена, что Исайка погиб, а он в Польше. В тридцатых годах перебрался в Палестину, потом нашел вас, - торжественно закончил Сергей…»
И там еще интересного. Будет обидно, если вы об той книге ничего не узнаете.
Весь этот джаз
"Сергей Курёхин. Безумная механика русского рока", Александр Кушнир
«Ответственность Курехина – это его личная ответственность, – говорил мне в 1997, кажется, году режиссер Сергей Дебижев. – Он каким-то ему одному известным способом мог влиять на умы огромного количества людей, и он отлично понимал, что делал. Как только люди слышат слово национал-большевизм, все сразу же представляют себе брызжущего слюной молодчика с топором в руках и со свастикой на рукаве. Но это - карикатурное проявление. Та область, в которой находился Курехин, не была национал-большевизмом или фашизмом. Курехин общался с философами, которые анализировали нетрадиционные подходы в политике, общался с действенным крылом радикалов типа Лимонова, что прибавляло ему энергии, знания, понимания. Это совершенно не значило, что он был сориентирован так же, как они. Он не занимался конкретной политической деятельностью. Тогда было два пути. Или слияние с хилыми, вялыми и отвратительными демократами, или попытка перейти в совершенно другую область. Путь в эту другую область лежал через коридор, в котором сидели национал-большевики. И Курехин естественно через них прошел…» Дело, конечно, не в национал-большевизме. Мне кажется, эти слова про коридор очень важные – Курехина все время стремило куда-то в совершенно другую область, всю его сознательную жизнь – в музыке, в политике, вообще.
Он был совершенно потрясающим музыкантом, с невероятной (и для своего времени, и вообще) эрудицией. В книжке All That Jazz Лео Фейгин приводит цитаты из письма Сергея Курехина, написанного в середине 1980 года ему, Фейгину, в Лондон. В этом письме Курехин рассказывает о том, какую музыку предпочитает: «Что касается пластинок, которые я хотел бы иметь, то ассортимент настолько широк, что я даже боюсь писать. Я просто вкратце скажу, какую музыку я предпочитаю. Во-первых, агрессивную экспрессивную, со сложной структурой. Из черных Frank Lowe, David Murray, Braxton, Air, Chico Freeman, Oliver Lake, Hamphill, Blythe (кроме CBS), (больше всего люблю саксофонистов). Но больше всего мне нравятся Evan Parker, Rudiger Carl, Bailey, Bennick, Brotzmann. Помузыке: FMP, Incus, Ictus, In, Navigation, Black Saint, Moers Music. Несколько лет не могу найти “Montreux-Berlin” Braxton’а. Очень хотелось бы послушать то, что выпускает Parachute (Chadbourne, Kaiser, Zorn, Kuntz)… В общем, бессмысленно писать, т. к. это сотая часть того, что приносит нам так много радости…» В начале 1980-х, да? И при этом – отказ играть с Kronos Quartet: «То ли он не хотел и не мог заставить себя упорно работать в кабинетной тиши – не его это было дело, - то ли просто почувствовал, что сочинить и записать нотами серьезный струнный квартет, который в то же время отвечал бы его эстетическим принципам, просто не получается, но на затею эту он плюнул…» (Это уже из книжки Александра Кана.) И так во всем.
Я видел Курехина два раза. Вернее, не так – я видел Курехина много раз (сложно жить в Питере и не видеть Курехина), но на концертах был только два раза – на знаменитом «Гляжу в озера синие», который был приурочен к премьере фильма Сергея Соловьева «Три сестры», и камерном «Три шага в бреду». В существование последнего я долго не мог поверить – нигде не встречал о нем никаких указаний. Много кого спрашивал, в том числе Сергея Летова – нет, никто не помнил. А потом Саша Кушнир назвал мне точную дату этого концерта и поставил видео: кто-то снял весь концерт. У меня сердце почти остановилось – там, в начале, камера направлена на вход и снимает всех, кто заходит в зал. Я подумал – Господи, а вдруг я попал в кадр, это бы было чудо. Чуда не случилось, в кадр я не попал, но на полтора часа переместился в собственное прошлое, на двадцать два года назад.
Я почему так длинно пишу? Потому что Курехин для меня – это такой очень важный кусок жизни, без которого, наверное, все было бы иначе. «Я думаю, он прекрасно понимал и свою публику, и ответственность перед ней, – сказал мне тогда Дебижев. – Как только народу дают порцию того, с чем не может справиться его мозг, этот мозг начинает как-то шевелиться».
Почитайте книжку Саши Кушнира "Безумная механика русского рока" – мне кажется, ближе всех к пониманию феномена Курехина подошел именно он. Хотя, конечно, разгадать эту штуку невозможно.
С точки зрения воздуха, край земли всюду…
"Горизонты", Тимур Новиков, Иосиф Бродский
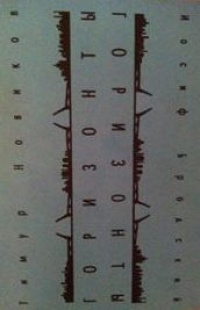
"Двадцать километров Невы в черте города, разделяющиеся в самом центре на двадцать пять больших и малых рукавов, обеспечивают городу такое водяное зеркало, что нарциссизм становится неизбежным…" – так написал в эссе "Путеводитель по переименованному городу" Иосиф Бродский, и эти его слова цитирует искусствовед Андрей Хлобыстин в предисловии к очень странной и, как оказалось, очень редкой книге "Горизонты".
"Горизонты" – тоненькая и очень важная для интересующихся поздней ленинградской культурой книжка. В ней художник Тимур Новиков (основатель петербургской Новой Академии изящных искусств и один из тех, кто определял художественную жизнь Ленинграда конца 1970-х и 1980-х годов) сформулировал важные постулаты своего видения живописи. "Современное искусство все чаще (мягко сказано) стремится к непонятности, - писал он в тексте "Объяснение художника Тимура Новикова" в 1989 году. - Сформировался образ "непонятого гения", зритель давно не задает художникам никаких вопросов, спасаясь от тотального непонимания единственным способом - умным лицом. Критика спасается от художников индульгенциями у "пап" - Гваттари, Бодрияра, Барта, Дерриды и многих других, придумавших для них такие слова, что действие их на читателя сравнимо с воздействием головы Медузы. Мои работы просты – они не загружены информацией, - отдых - вот, что я стараюсь дать зрителю…" И дальше, более конкретно: "Цветовая плоскость обозначает пространство определенного качества - земля, вода, воздух, космос. Наличие определяющего знака придает это качество пространству, причем, цвет освобожден от определяющих функций, что дает художнику неограниченную колористическую свободу. Например, помещение на зеленом фоне знака "корабль" позволяет прочитывать нам его как "море", знак "ель" превращает это же пространство в лес, "солнце" - в небо. Расположение знака на плоскости и его размер определяет объем изображенного пространства. Например, перемещая знак "ель" из верхней части картины в нижнюю, сохраняя при этом размеры знака, мы существенно увеличиваем объем изображенного пространства. Располагая линию горизонта посредине картины, мы направляем внимание зрителя вперед. Поднимая линию горизонта вверх, мы направляем внимание зрителя вниз. Опуская линию горизонта к нижней части картины, мы поднимаем глаза зрителя к небу…" Ну, и так далее. (Этот текст был написан в 1989 году для персональной выставки Новикова в Финляндии.)
А теперь – вот что:
Горизонт
на бугре
не
проронит о бегстве ни слова.
И
порой на заре –
ни
клочка от былого.
Предъявляя
транзит,
только
вечер вчерашний
торопливо
скользит
над
скворешней, над пашней.
Это – отрывок из стихотворения Иосифа Бродского, написанного в 1964 году. И оно здесь (и в книге "Горизонты") не случайно. Дело в том, что 17 сентября 1993 года в Амстердаме, после открытия выставки "Ретроспектива", состоялась (не первая) встреча поэта Иосифа Бродского и художника Тимура Новикова, которая в некоторых источниках носит название "Человек есть то, что он видит". И в этой беседе два определяющих для ленинградской культуры (здесь я пишу именно о ленинградской культуре, культура страны или мира – штука более сложная и для меня не очень постижимая) человека обнаружили удивительное взаимопонимание. Вот, например, небольшой отрывок этой беседы:
Иосиф Бродский: <…> Ваш город, стоящий на краю воды, как Нарцисс, устремлен в самосозерцание. Вы, внимательно вглядывающийся в него, не могли не заметить все те прекрасные архитектурные формы, которые наполняют его горизонт. Все значительные творцы, жившие в этом городе - от Ломоносова и Баратынского и до Мандельштама и Ахматовой - всегда неминуемо обращались к классицизму. Город заставляет заботиться о форме. И даже житель нашего с Вами родного Литейного проспекта не был обделен творениями Кваренги и Росси. Но формы, которые я вижу в этой работе, напоминают мне другое сооружение на нашей улице - дом по известному адресу: Литейный, 4, здание в стиле позднего конструктивизма 30-х годов.
Тимур Новиков: Ваше наблюдение удивительно верно. Дело в том, что я родился на Литейном проспекте в доме 60, где живу и ныне. Рядом с моим домом целых два сооружения Кваренги. Возле Вашего дома на углу Литейного и Пестеля - Спасо-Преображенский собор Василия Стасова, шедевр русского классицизма. Но с начала 70-х годов до 1987 года я жил на углу Литейного и улицы Воинова, как раз напротив здания на Литейном, 4. И все годы, пока я жил рядом с этим зданием, я был художником-модернистом. В этом доме жил также известный поэт Леонид Аронзон. Я до сих пор помню день его похорон в нашем дворе.
Иосиф Бродский: Я помню этот двор. И это большое конструктивистское здание, громада, нависающая над ним гигантским айсбергом. Казалось, оно вот-вот надвинется всей массой и поглотит этот маленький изящный дворик, кажется, он был украшен сталинскими вазами с фигурами и гирляндами цветов.
Тимур Новиков: Да, да, это мой двор, я прожил в нем до 1987 года, и в нем была сосредоточена почти вся авангардистская жизнь Ленинграда 80-х годов. Как только я уехал из этого дома и вернулся обратно в дом, где до меня жил Салтыков-Щедрин, а затем Победоносцев, я как очнулся: во мне возродилась любовь к классике и уважение к традиции. Я вернулся в дом, стоящий у комплекса Мариинской больницы Джакомо Кваренги.
Иосиф Бродский: Дом Салтыкова-Щедрина? Знаю этот дом - напротив "Букиниста". Но в том же доме, насколько помню, Ленин принял решение издавать газету "Искра"?
Тимур Новиков: Да, это было как раз в той части дома, где теперь живу я…
Иосиф Бродский и Тимур Новиков, при всех поверхностных различиях их творческих устремлений, образов жизни и при всей разнице того, как они воспринимали окружающий мир и как окружающий мир воспринимал их, вдруг оказались тесно связанными, близкими и понятными друг другу. "С точки зрения воздуха, край земли всюду…" – иногда кажется, что Тимур Новиков рисовал именно эту строчку Иосифа Бродского. Мне очень нравятся такие сближения.
Или, как писал Бродский в 1984 году в стихотворении "В горах" (и этот отрывок тоже есть в книжке "Горизонты"):
Снятой комнаты квадрат.
Покрывало из холста.
Геометрия утрат,
как безумие, проста.
А завтра будет веселей?
"Сталинский нос", Евгений Ельчин

Я поздно прочитал "Сталинский нос". Более того, я не читал отзывов о нем (только слышал о том, что вот, мол, вышла такая книга), не присутствовал на дискуссии и ни с кем про эту книгу не разговаривал. Я только все собирался ее прочитать, но руки не доходили. И вот, наконец, прочитал.
Я совершенно не помню момент, когда узнал про Сталина – как-то не запомнился мне тот день. Но я точно знаю, что каждую минуту своей сознательной жизни, начиная с этого момента, я знал, что Сталин – абсолютное, бесспорное зло. Потом, став старше, я стал много читать – на дворе как раз был конец 1980-х, и на всех нас вылился бурный поток запрещенной ранее литературы и запрещенных ранее знаний. Целыми томами я заглатывал Солженицына, Шаламова, Гинзбург, я читал напечатанную в "Огоньке" публицистику, я жадно впитывал то, о чем еще буквально год назад не говорили в открытую. И с каждой прочитанной книгой, с каждым разговором я убеждался в том, что – да, Сталин есть абсолютное, бесспорное зло.
И вдруг, спустя годы, что-то изменилось в воздухе. 8 мая 2015 года, за день до празднования 70-летия Победы, мы с женой гуляли по центру города-героя Москва и вдруг почувствовали себя словно в капкане – со всех сторон на нас взирал усатый монстр. Он смотрел с плакатов и тарелок, следил с календарей и магнитов на холодильник, самодовольно ухмылялся с футболок, его бюстики отбрасывали на нас свои поганые тени… Его было так много, что в какой-то момент показалось – машина времени существует, и мы перенеслись в те годы, о которых с таким ужасом читали. Но нет, конечно, нет. Пока нет.
Я не знаю, как говорить с детьми о Сталине. Я не психолог и не детский писатель. И я точно знаю, что одной книжки, какой бы талантливой она ни была (а "Сталинский нос" – это талантливая книжка), не хватит, что нужно обязательно что-то рассказывать, причем именно дома, потому что на школу надежд мало. Но я точно знаю, что "Сталинский нос" – это очень важная книга, которая появилась в России в очень нужное время.
Растем все шире и свободней!
Идем все дальше и смелей!
Живем мы весело сегодня,
А завтра будет веселей!
Дремлешь, Джим?
"Темнота зеркал" (или любая другая его книга стихов), Евгений Рейн

Я не знаю, почему, будучи в Питере, снял с полки старую, 1990 года издания, книжку Евгения Рейна. У старых книжек есть такая особенность – в какой-то момент они вдруг выплывают откуда-то, то ли из подсознания, то ли некий всемирный разум подсовывает их тебе, всегда в правильный момент. Нельзя отказывать всемирному разуму, ну, или намекам подсознания – я подошел к книжной полке в поисках того, что буду читать, и понял, что на меня смотрит книжка Евгения Рейна, о котором я не буду ничего писать – вы и так все знаете. Просто несколько текстов, мимо которых сложно пройти.
Вот текст, который называется «Нежносмо» и который посвящен Александру Штейнбергу:
"Утомленное солнце нежносмо...
нежносмо...
нежносмо...
...Нежно с морем прощалось..."
Режь на сто антрекотов
Мою плоть –
никогда
Не забыть, как пластинка
Заплеталась, вращалась...
Нету тех оборотов –
Ничего. Не беда.
Мы ушли так далеко,
мы ушли так далеко
От холодного моря,
От девятого "А".
Но прислушайся – снова
Нас везут в Териоки,
И от этой тревоги
вкруг идет голова.
Без тоски, без печали
на куски размечали
Нашу жизнь, и границы
Выставляли столбы.
То, что было вначале
без тоски, без печали...
Ничего, доберемся,
Это без похвальбы.
И холодное море, пионерские пляжи,
Пионерские пляжи,
крик сигнальной трубы...
Сколько лжи,
сколько блажи,
Все вернется, и даже,
даже наши пропажи,
Даже наши труды.
И когда нежно с морем
утомленное
солнце
С морем нежным откроет
нам
заветный секрет,
И когда нам помашут
териокские сосны,
Мы поймем и увидим,
и увидим, что нет.
Больше не было солнца,
больше не было моря –
Все осталось как было
только там –
навсегда.
Териокские сосны
нам кивнут возле мола,
И погаснет картина –
ничего, не беда.
Утомленное солнце...
нежносмо... выйдет снова,
Мы узнаем друг друга на линейке в саду.
Будет снова красиво,
будет снова сурово...
Утомленное солнце в сорок пятом году.
Или вот еще, называется «Праздник», очень страшное:
Я помню этот мрак бессонный
Среди осенней темноты.
День искренний, а не казенный
С утра переходил на «ты».
Простым четырехстопным ямбом
Мне невозможно описать,
Каким четырехсложным бантом
Мне шею украшала мать.
Мы выходили в сорок пятом, –
Отец под Нарвою убит,
Мне был сегодня старшим братом
Нарком, полковник, инвалид.
Толпа теснилась на Фонтанке
В бумажных розах кумача
И важно пропускала танки,
Что возвращались, грохоча.
Медь обрывалась духовая,
Ликуя, празднуя, кружа,
Литейный, дальше Моховая, –
К Дворцовой площади спеша,
Я слышал вой за два квартала,
Там, заглушая мегафон,
Непобедимо и картаво
Мы пели с четырех сторон.
И вот передние колонны
Срывались в правильный квадрат,
Четыре года обороны
Не утомили Ленинград.
Над ним могучая квадрига
Почти что падала в обком,
Ни одного, поверьте, мига
Мы не жалели ни о ком.
Ни о расстрелянных на месте,
Ни о распятых на кресте,
И не было достойней чести
Примкнуть к великой правоте.
До крыши украшая Зимний,
Портрет охватывал дворец,
И ленинградский сумрак синий
Рассеивался наконец.
И мы глядели очи в очи,
И отзывались на призыв,
Но, проклиная и пророча,
Я чувствую, еще он жив.
И желтые зрачки сквозь время
Скупили миллионы душ.
Зачем же врать – я шел со всеми,
Безумен, счастлив, неуклюж.
И тут же, со стены шершавой,
Где слабый облупился слой,
На нас слетал орел двуглавый
Пятиконечною звездой.
И еще буквально несколько строчек – последних строчек стихотворения «Джим», из-за которого, возможно, и посмотрела на меня с полки маленькая книжка поэта Евгения Рейна:
Год за годом приходили гости,
год за годом говорили гости,
пили пиво, чай, молоко и водку,
повторяли смешные словечки:
"он уехал", "она уехала", "они уезжают",
"кабаков", "сапгир", "савицкий",
"бродский",
"джексон поллак", "веве набоков", "лимонов"
и опять - "уехали", "уезжают", "уедут"...
Вот и стало на веранде не так тесно,
но всегда приходит коровница Клава
и приносит молоко в ведерке,
и шумит, гремит проклятый ящик.
Дремлешь, Джим? Твое, собака, право.
Вот и я под телевизор засыпаю,
видно, наши сны куда милее
всей этой возни и суматохи.
Не дошли еще мы до кончины века,
уважаемая моя собака.
Почему же нас обратно тянет
в нашу молодость, где мы гремели цепью?
Это было недавно…
"Древняя религия", Дэвид Мэмет
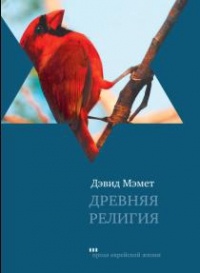
Про Лео Франка известно очень многое. Он был хорошим мальчиком-очкариком из интеллигентной еврейской семьи. Родился 17 апреля 1884 года в Техасе, а потом с родителями переехал в Нью-Йорк. В 1906-м получил диплом инженера Корнелльского университета, в 1910-м женился (предки его жены вроде бы были основателями первой синагоги в Атланте), переехал в Атланту, стал управляющим Национальной карандашной фабрики, играл в теннис, председательствовал в еврейской организации "Бней-Брит". А в 1913-м был обвинен в изнасиловании и убийстве тринадцатилетней сотрудницы фабрики, без улик и доказательств (показания полицейских и работников фабрики изобиловали противоречиями, так что единственным прямым доказательством стали показания свидетеля, который, скорее всего, и был настоящим убийцей) признан виновным и приговорен к смертной казни, которую заменили на пожизненное заключение.
Маленькая повесть Пулитцеровского лауреата, драматурга, одного из лучших американских сценаристов ("Почтальон всегда звонит дважды", "Неприкасаемые", "Плутовство", "Спартанец" и так далее) и неординарного режиссера ("Испанский узник", "Грабеж", "Спартанец" и так далее) Дэвида Мэмета имеет в своей основе именно историю Лео Франка. Но, когда вы возьмете в руки эту книжку (а мне бы очень хотелось, чтобы это произошло), вы должны понимать, что перед вами – не расследование событий столетней давности и даже не реконструкция их. Маленькая повесть "Древняя религия" – это психологическая драма про самого Франка и про то, что происходило у него в голове, пока он присутствовал на суде и потом, недолго, в камере. Так что назвать эту книгу документальной никак нельзя, хотя по сути, - да, она основана на реальных событиях. Просто эти события являются здесь как бы отправной точкой повествования, не больше, но и не меньше.
Что происходит в голове человека, понимающего всю безысходность ситуации, в которую попал? О чем он думает, какие картинки проносятся перед его глазами? Что он пытается проанализировать, что он пытается вспомнить и о чем он мечтает забыть? Книга не зря носит название "Древняя религия": в мыслях Франк – герой Мэмета – обращается к вере своих предков, но эта вера не дает ему ни успокоения, ни надежды. Наоборот, попытка ее осознания затягивает его – и, следом за ним, читателя, – в воронку случайных мыслей, болезненных грез и воспоминаний о том, что было и чего, возможно, не было.
И что это значит, что он отдал своего единственного сына? Если у него был сын, значит что, была жена? И разве это не идолопоклонство? Где жена? Нет. Простите.
Тут вот, в чем разница: Авраам не убивал своего сына. А их Бог сделал это. И разница в том, что у них: "Господь так возлюбил мир", а нам не говорят: "Господь возлюбил мир", нам велят любить Бога.
А про то, чтобы любить мир, нам не говорят. Может, как раз любовь к миру и ведет к убийству, в то время как любовь к Богу…
Абракадарба, – подумал он. Говорю и выдумываю на ходу.
Это ведь не отвратило несчастий. И в "Отверженных", в этом их "письме счастья" мы читаем: "Милый Боженька, спаси меня от…"
"Но если я хочу обрести мудрость, я должен перерасти ненависть", – сказал один голос. А другой ответил: – "Почему?"
Не преждевременно ли говорить нам: "Любите врагов ваших?" Кому это удается?
Говоря о книге, чье повествование отталкивается от реальных событий, можно не бояться выдать финал – дело не в нем. Даже наоборот, лишние знания даруют извращенное удовольствие: ты знаешь, что случится с героем, а он своей судьбы еще не знает. Впрочем, это будет продолжаться не слишком долго. Реальная история, на которой основана книга Мэмета, закончилась очень быстро и очень страшно: в ночь на 15 августа 1915 года около тридцати человек, назвавших себя рыцарями Мэри Фэган (по имени убитой девочки), ворвались в тюремную больницу, похитили Лео Франка и линчевали его в двух милях к востоку от города Мариетта, где была убита тринадцатилетняя Мэри. По общепринятой версии, в число этих тридцати человек входили высокопоставленные граждане Джорджии, в том числе глава Комитета ассамблеи штата по делам тюрем, судья и бывший губернатор. А из фотографии повешенного Лео Франка сделали открытку, которая одно время пользовалась большой популярностью. Считается, что эти события, во-первых, совпали по времени с возрождением "Ку-Клукс-Клана", а во-вторых, спровоцировали массовый отъезд евреев из Джорджии.
Это было всего сто лет назад.

На пути поддержки Советов
"Свежая вода из колодца"

Вообще-то, "Свежая вода из колодца" – это название рассказа Андрея Платонова, есть даже его сборник с таким названием. Но сегодня – речь о другой книжке, правда, названной так же. Это тоже сборник, только коллективный – под одной обложкой собраны почти три десятка советских писателей с рассказами послереволюционной, довоенной и военной поры (в аннотации написано, что "в сборник вошли лучшие рассказы писателей 20-30-х годов о рабочем человеке, о становлении характера нового типа, о советском характере" – не верьте, все не совсем так). Причем, наряду с советскими классиками, типа Шолохова, Горького, Серафимовича, Всеволода Иванова, Фадеева, Пришвина, Паустовского, Полевого и Новикова-Прибоя, есть и совсем забытые сегодня авторы.
Книжка эта попала в мои руки случайно. Шли мы как-то вечером в районе Таганки. Моя жена Лена отстала – оказалось, кто-то выбросил книги, как пройти мимо. И, в общем, одну мы все-таки спасли – как не забрать, когда это сборник рассказов, названный «Свежая вода из колодца», по названию рассказа Платонова. Мы открыли содержание и поняли, что книга остается с нами. Там было очень много чего – например, рассказ Михаила Чумандрина, известного в тридцатые годы ленинградского автора, погибшего на войне. Или, например, текст некого А. Пучкова: «Биографических данных о писателе не найдено. Рассказ «Артель» печатается по изд.: Рассказы голых людей: Сборник. – М., 1930». Или, например, А. Неверов, вот что про него написано: «После Октябрьской революции Неверов стал на путь поддержки Советов» - явно какая-то история за всем этим.
Или, например, всем с детства известный бородатый сказочник Бажов – вы вообще знали, что «Медной горы Хозяйка» и «Каменный цветок» были написаны, соответственно, в 1936-м и 1937-м, а сам выпускник духовной семинарии Павел Бажов добровольцем ушел в Красную армию в 1918-м? Ну, и так далее.
Сборник, в общем, роскошный, практически необходимый в хорошей библиотеке (естественно, если вы интересуетесь ранней советской литературой, а как ей не интересоваться, когда она такая прекрасная?), хоть и неровный. Блистательные тексты Горького и Шолохова (послушайте, многие из вас наверняка не перечитывали этих авторов со времен ненавистной школы, а общая и совершенно объяснимая нелюбовь ко всему советскому, к сожалению, автоматически распространяется в том числе и на официальную, "подцензурную" советскую литературу, но – не поленитесь, перечитайте хотя бы те же "Донские рассказы" Шолохова – это большая литература, такого уже давно не делают!), предсказуемо прекрасный Платонов, как всегда интересный Пришвин и совершенно зря позабытый Бажов соседствуют в книге с не лучшими рассказами прекрасных и любимых лично мной Серафимовича и Всеволода Иванова. А проходные тексты неизвестных ныне писателей – с текстами какой-то совершенно нереальной силы: скажем, один из самых сильных рассказов сборника называется "Я хочу жить" и принадлежит перу Александра Неверова, умершего в возрасте 37 лет в 1923 году. Это был, между прочим, дико популярный в двадцатые годы писатель – его собрание сочинений с 1926 по 1930 годы переиздавалось пять раз, его портрет рисовал Борис Кустодиев.
Самое же главное в текстах этого сборника – ощущение той новой свободы, новой любви и новой веры, которая владела принявшими революцию писателями. И вот тут есть одна важная штука, которую я хочу, воспользовавшись случаем, проговорить. Мне кажется, что мы, читающие и думающие, не должны подходить к тем же ранним советским текстам (поскольку речь идет о них) с позиции нас сегодняшних. Для тех писателей, искренне поверивших в свершившееся, все происходило впервые – они были первопроходцами в новой литературе и вообще новой жизни. И то, что случилось потом, стало в том числе и их общей бедой, перемоловшей многих из них физически или морально. А мы, сегодняшние, знающие про репрессии и ГУЛАГ, про расстрелы и "тройки", читавшие "Крутой маршрут" и воспоминания Надежды Мандельштам, должны совершить над собой усилие и читать "те" книги, простите за высокопарность, с открытым сердцем. Ну, или не читать их вовсе.
Мне кажется, правильным будет – читать.
Абсолютный художественный слух
"Парабеллум", Лев Повзнер

Лев Повзнер родился в 1939 году, рисовать начал где-то в конце 1960-х. Дружил в Владимиром Яковлевым и представителями «Лианозовской школы», причем как с художниками, так и с поэтами. Сейчас его работы находятся в Третьяковке, в Московском музее современного искусства, в музеях разных стран и частных коллекциях. Сам Повзнер живет в Москве и продолжает писать свои удивительные работы, от которых невозможно оторваться. А три года назад Лев Александрович вдруг начал писать стихи.
«Как это со мной случилось? Ну, бывает же, что художники пишут стихи, и бывает, что поэты рисуют. И они не теряют своей идентичности. А моя идентичность сразу раскололась пополам, вся идентичность предыдущей пятидесятилетней биографии художника раздвоилась. И теперь я уже не могу предпочесть что-то одно…» – рассказывал он нам, сидя на своей маленькой кухне. А потом начал читать стихи – артистично, эмоционально, не похоже ни на кого.
– Поцелуйчики мои, где вы, дорогие?
Вы рассыпались по жизни, как пшено, как рис,
Как манная крупа и даже как мука.
Много было вас, родные.
А пощечинки мои, где вы, дорогие?
Нет, не те, что получал; те, что сам кому-то слал.
Было меньше вас, родные.
Сколько быть могло вас? Три? Нет, конечно.
Тридцать три? Ближе к истине, конечно.
А ударчики мои, где вы, дорогие?
(Не считая тех, что в зале)
Что на улице, в подъезде. Вы, как птички, вылетали.
Много было вас, родные. Вы и ручку мне ломали.
Вы мне правую ломали. Не сержусь на вас, родные.
А ударчики ногой? Все же меньше. Все
же реже.
Вы к экзотике поближе, чем ударчики рукой.
А ударчик головой? Был один – туда поближе.
Был один, давно. И что же?
Хорошо, что хоть один.
– А укусы? Ты забыл? Ведь же были и
укусы.
– Были разные укусы. Были в разные эпохи.
Были детские укусы. Были взрослые укусы.
Ведь они не так уж плохи,
Каждый – сын своей эпохи.

(Картина Льва Повзнера)
Стихи Повзнера не похожи ни на какие другие стихи (точно так же, как и его манера чтения не похожа ни на чью другую). Каким-то непостижимым образом этот немолодой начинающий (для поэзии три года – срок?) поэт, впитав в себя все слышанное и читанное ранее (кажется, ничто в литературе не существует без контекста, а Повзнер очень много читает и очень много слышал – он дружил с Всеволодом Некрасовым, с Игорем Холиным и другими великими), три года не останавливаясь пишет удивительные тексты с необыкновенным рифмами и смыслами. Вдруг оказалось, что у поэта Повзнера есть тонкое и очень точное чувство слова, вернее – звука, звуков. Возможно, это называется слух.
Вот, например, стихотворение, посвященное его другу Владимиру Яковлеву – невероятному художнику, который рисовал портреты цветов:
Уймитесь волненья по поводу мненья.
И страсти по поводу власти.
Я страшен. В руке томагавк
В виде кисти синтетик.
Погибни эстетик во мне.
Пробудись, шизофреник.
Я знаю, ты где-то во тьме.
Иди, шизофреник, ко мне.
Когда голова опускается в
ребра,
А глаз уплывает, как вобла;
Когда ты выходишь из тела вовне
И смотришь на ДЕЛО извне.
А дело обычно идет из
средины
И движется к краю картины;
И выйти стремится за край.
Из центра, спиралью, не чувствуя край.
И цвет отвратительно чуден;
И люди идут головою вперед.
Вот Яков идет в тень бараков.
Он мне говорил: мне бы девочку, я б натворил.
Он мне говорил: на втором этаже
Лежат Мама с Папой.
Он выкашлял сына.
Его поселил на втором этаже
Рядом с Папой.
Он делал цветы – неглиже.
И вот, на втором этаже
Я иду вдоль бараков.
И Яков – встречает уже.
«Эмоционально я переживаю свои стихи в двух случаях – или когда я их читаю самому себе, или когда я их читаю кому-нибудь, – говорит Повзнер. – Выступление – это максимум того, что я могу извлечь в виде эмоциональной компенсации за стихи. В живописи ты сделал хорошую вещь – и испытываешь счастье. В стихах не то…» Да простят меня придумавшие буквенную радиостанцию «Голос Омара», но я снова пишу про «несуществующую» книжку. Вернее, эта книжка есть – Лев Повзнер издал ее сам, и теперь дарит своим друзьями и знакомым. Но не рассказать вам об этом поэте невозможно, поэтому – да, формально мой сегодняшний эфир посвящен книге «Парабеллум» (с ударением на «у»). И еще тому, что, дай Бог, очень скоро мы сделаем поэтический вечер Льва Повзнера, второй в его жизни, – следите за нашими объявлениями.
Гагара в муках родила
Яйцо детей своих.
А перед этим долго
Ела рыбу лет своих.
Родив яйцо, она черты лица
Оборотила на гагарина-самца,
Отца детей своих.
Гагарин был в поту.
В поту лица он ел свой хлеб.
Он съесть хотел яйцо детей своих,
Хоть знал, что это грех.
Гагара это поняла
И руки и черты лица
Простерла на пути гагарина-самца,
Желая отвратить набег.
Гагарин съел яйцо и тем пресек
Свой род и род детей своих.
Вы ропщете. Но разве сами
Вы не кусали детей чужих-своих?
Вы не искали шелк у них
На голове под волосами?
В коварном лепете речей своих
Не прокляты пред небесами
На склоне лет своих
Вы сами?
Любовь и все такое…
«Вверх по лестнице, ведущей вниз», Бел Кауфман

Вы читали «Вверх по лестнице, ведущей вниз»? Как-то так получилось, что эта книжка, важная для Америки, в свое время дико популярная у нас и вообще известная едва ли не всем, прошла мимо меня. Я – да, что-то слышал о ней, но не больше. А потом, на еврейской конференции «Лимуд», мне довелось быть свидетелем скайп-беседы с ее автором Бел Кауфман, внучкой Шолом-Алейхема. Ей на тот момент было 102 года.
Сейчас расскажу, как это было. Значит, Бел была в Америке, ее изображение вывели на большой экран. С этого экрана улыбалась красивая кокетливая женщина, которая говорила на роскошном русском языке. «Как вам удалось сохранить русский язык?» – «Вы знаете, с тех пор, как я уехала из России, в возрасте 12 лет [90 лет назад], я читаю русскую классику. Обожаю русскую классику – Пушкин, Лермонтов, Чехов. Есть еще один писатель, которого я очень люблю, но вы вряд ли его знаете, – это Набоков. Вы читали Набокова? Правда, в России читают Набокова, по-русски? Он писал и по-английски, и по-русски». И кокетливая улыбка. «А кого вы цените из американских авторов?» – «Я не читаю современных авторов – их очень много. Сейчас каждый может пальцем нажимать на клавиши и печатать свои тексты, которые потом будут видны везде. Но мне не нравится читать с экрана, мне нравятся книги, мне нравится переворачивать листья… [Кажется, это была единственная ее ошибка – «листья». И эта ошибка тоже была красивой.] У меня старомодный вкус. Но есть одна американская писательница, которую я очень ценю. Ее зовут… Бел Кауфман. Люблю ее книгу "Любовь и все такое…" – очень хорошо написана…» И кокетливая улыбка.
Она говорила, что ее самая известная книга «Вверх по лестнице, ведущей вниз» родилась из одной фразы, записанной ею в дневник - troubles in american schools, «проблемы в американских школах». И дальше формулировала две очень важные штуки. Первая: «Я писала о серьезных вещах, а люди читали и смеялись. Удивительно. Но это правильно – говорить о серьезных вещах, но чтобы люди смеялись. Так делал Шолом-Алейхем». Так делал ее великий дед. И вторая штука: «Берегите свои мысли, не забывайте их. Возможно, одна из них превратится в книжку [Бел Кауфман говорит именно так – «книжка», не «книга»], или в пьесу, или в картину, я не знаю. Ваши мысли – это очень ценно, не забывайте их».
За ее спиной – полки с книгами. У самой Бел большие очки, очень седые красиво убранные волосы, с левой стороны лица вьется локон, на пальцах – большие кольца. «Я такая старая… Хотя нет, зачем я это сказала? Я не чувствую себя старой, я чувствую себя молодой! У меня до сих пор все свои зубы, и я хожу на своих ногах». – «Поделитесь секретом своего долголетия?» -–«Я училась, работала, влюблялась…» И кокетливая улыбка.
Она говорила, что желает всем дожить до ее возраста и понять, что это прекрасно – никуда не спешить и ничем не заниматься. «Мне не нужно ничего делать, и это прекрасно, поверьте. Попробуйте ничего не делать! Это замечательно».
Как было после этого не прочитать ее книгу, вернее, книжку. И если вы по какой-то причине ее не читали – не откладывайте.
Бел Кауфман умерла в Нью-Йорке 25 июля 2014 года.
Этот текст в слегка измененном виде был опубликован в «Газете.ру».
Да и люди здесь, как письма без ответа...
"Предграничье", Виктор Кривулин

Это было в 1994 году, 9 июля – я узнал, что поэт Виктор Кривулин в ресторане Дома актера на Невском празднует 50-летие, а я очень любил (и люблю) Виктора Кривулина. Я думал, это будет концерт, сборное выступление, творческий вечер, но, когда я туда пришел, там были накрытые столы, на которых стояло очень много "Зубровки" и каких-то закусок и за которыми восседали какие-то люди, и теперь я в дикой печали от того, что не запомнил их фамилий, потому что некоторые из этих людей читали стихи, и это были прекрасные стихи, а теперь многих из этих людей уже нет. Кривулин тоже читал стихи, и это был единственный раз, когда я его слышал: так часто бывает, думаешь – успеешь еще, но не успеваешь.
Кривулин, если говорить сухим языком "Википедии", современный российский поэт, видный деятель "второй культуры" и ленинградского андерграунда, мыслитель. Свои первые сборники стихов – естественно, машинописные, – он выпустил в самом начале 1970-х. В его доме собирались самые интересные люди своего времени. Кривулин был одним из нескольких центров неофициальной литературной (и не только литературной) жизни Ленинграда. Вот тут, к слову, можно посмотреть пронзительный, снятый в 1992 году, фильм "Чхая о Сайгоне" – как раз о той самой неофициальной культуре и жизни города.
А в тот памятный день 1994 года Кривулин подарил мне книжку «Предграничье»: «Жене – от автора в день его (автора) 50-летия с верой и надеждой. Виктор Кривулин. 9.07.94. Дом искусств»… Удивительно устроено в России издательское дело – тексты Кривулина до сих пор не собраны в отдельный том, да и просто его книжек сейчас, в общем-то, не купить.
Бренные
дома замученного цвета,
слева пустыри, бетон, задворки автобаз --
даже сладко-пасмурное лето
в человечности не уличает вас!
Да и люди здесь, как письма без ответа,
будто чем-то виноваты,
вечерами возвращаются с работы...
Вековечный транспорт, голос монотонный,
выкликающий поштучно, поименно
эти самые народные пенаты --
ОБОРОННАЯ, ЗЕНИТЧИКОВ, ПОРТНОВОЙ...
Край земли не за морем, не где-то --
вот он, край земли, у каждой остановки!
Выйти -- все равно что умереть,
в точку на листе миллиметровки,
в точку (не приблизить, но и не стереть) --
обратиться в точку; выйдя из трамвая,
в собственной тени бесследно исчезая.
Ничьи братья
"Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период), 1960-е"

В составленном (там написано – автор концепции) Борисом Ивановым томе "Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период), 1960-е", который я сейчас читаю, есть несколько шедевров, о которых должен знать каждый, кто читает книги.
Первый – это, конечно, "Летний день", вроде бы единственное большое прозаическое произведение Олега Григорьева. Это именно о нем вспоминал Андрей Битов, который, кажется, первым неожиданно, но, по сути, совершенно логично "сравнил" его с "Одним днем Ивана Денисовича": "…я могу датировать это 62-м годом (по выходу «Ивана Денисовича»), Олежка сообщил нам, что пишет роман. Писал он его долго, роман был очень большой. Наконец, дописал. Роман был на страниц шестьдесят и назывался «Один летний день». Это была повесть о трех- или четырехлетнем мальчике в летнем лагере. Это был шедевр, произведший на меня лично впечатление большее, чем «Один день... ». Это было прекрасно и страшно…" Не буду здесь продолжать начатое Битовым сравнение – отмечу лишь, что те, кому интересно, могут об этом почитать в тексте Олега Юрьева. Я о другом: уникальный, ни на что не похожий "Летний день" Григорьева, и это тоже очень точно подметил Юрьев, наверное, мог бы послужить своеобразным началом новой, какой-то другой российской литературы, мог бы повлиять на многое, что возникло бы после, если бы был в свое время напечатан, он мог бы стать, что называется, основополагающим, "градообразующим". Но этот "роман" – текст об одном дне ребенка, наполненном драками огромных насекомых, мыслями о смерти, важными наблюдениями и физиологическими подробностями, непохожий ни на что текст, уникальный и по сюжету, и по строению, и по языку, текст, начатый Григорьевым в шестнадцать или в семнадцать лет, – был опубликован лишь в самиздате (и, благодаря Алексею Хвостенко, в Париже, но без финала), а широкого распространения не получил до сих пор. И сколько их еще, таких текстов.
В томе "Петербургская проза (ленинградский период), 1960-е" следом за этим текстом идут тексты Рида Грачев. Грачев – удивительный писатель, поэт, переводчик, хоть и чуть-чуть издававшийся, но известный еще меньше, чем "взрослый" Григорьев (почти полное собрание его сочинений вышло недавно в "Звезде"). В "Википедии", в первых строчках его биографической статьи, написано: "Отца не знал. Мать и бабушка погибли в блокадном Ленинграде. Восемь лет провел в детском доме…" Думаю, именно об этих годах, годах его детства, Грачев в начале 1960-х и написал серию рассказов под названием "Дети без отцов". Это – жесткая, порой даже жестокая проза, в которой детская непосредственность сочетается с очень взрослым взглядом на жизнь. Это – про слишком рано повзрослевших детей, все равно остающихся детьми. Самый пронзительный рассказ цикла – "Ничей брат", словно бы "Дом, в котором…", только сжатый, без единого лишнего слова, без, что называется, сантиментов, как пружина. В упомянутой выше статье Юрьева говорится о "характерной для ленинградской прозы 60-х годов обуянности «детством» и «смещенной в детство психикой»". "Дети без отцов" – это тоже оттуда, а еще из блокады и послевоенных лет, пережитых писателем.
Дальше в "Петербургской прозе (ленинградский период), 1960-е" идет рассказ самого "автора концепции" Бориса Иванова – еще одного блистательного писателя (его представительный обязательный для чтения двухтомник выходил в издательстве "НЛО"). А впереди – еще два тома, посвященные 1970-м и 1980-м и тоже наполненные именами, о многих из которых хочется кричать на каждом углу. Буду кричать – другого выхода нет.
Последний шедевр русской литературы
""Лето в Бадене" и другие произведения". Леонид Цыпкин

Сначала – краткие биографические сведения. Леонид Борисович Цыпкин родился в Минске 20 марта 1926 года. Родители, племянники и сестра его отца погибли в Минском гетто, а брат и еще две сестры сгинули в ГУЛАГе. Леонид Борисович Цыпкин был патологоанатомом в Московской областной психиатрической больнице № 2 в поселке Мещерское, позже – старшим научным сотрудником отдела иммунологии и вирусологии опухолевых заболеваний Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР, подрабатывал прозектором в городской больнице, защитил докторскую диссертацию в 1969 году. В начале 1960-х он начал писать стихи, в начале 1970-х – прозу, но даже не думал печататься. В 1979-м, после эмиграции сына, Цыпкина уволили из института, потом восстановили в должности младшего научного сотрудника. В конце 1980-го Цыпкин закончил "Лето в Бадене" – (ныне) самое известное свое произведение, 7 января 1981-го получил первый отказ в эмиграции. 15 марта 1982 года Цыпкина снова уволили, а двумя днями ранее, 13 марта, началась публикация повести "Лето в Бадене" в "Новой газете" (Нью-Йорк). 20 марта 1982 года, в день своего рождения, Леонид Борисович Цыпкин умер, успев побыть издающимся писателем ровно неделю. Повесть "Лето в Бадене" была опубликована, переведена на немецкий и английский, в конце 1980-х в Лондоне ее прочла Сьюзен Сонтаг, которая назвала повесть "последним шедевром русской литературы". С начала 2000-х книга была переведена едва ли не на все европейские языки, в США выходила с послесловием Сонтаг. В России рассказы и повести Леонида Борисовича Цыпкина впервые вышли в 1999 году, потом несколько раз переиздавались. Последний раз "Лето в Бадене" было переиздано в "НЛО" два года назад, а до того там же вышел представительный том его повестей и рассказов. Такая история.
Теперь, собственно, то, что я хотел написать про эту книгу. Впервые я услышал о ней лет пять назад, когда моя живущая в Швеции сестра с восторгом начала рассказывать мне о текстах некоего Цыпкина, который в буквальном смысле "пишет про нас". Сестра как раз гостила в Питере, как и я, так что мы пошли в Дом книги и купили там последний экземпляр того самого представительного тома, изданного в "НЛО". Потом я прочитал эту книгу, и с тех пор мечтаю, чтобы ее прочитали все, кто еще этого не сделал.
Я несколько раз пытался объяснить, что же такое есть в текстах Цыпкина, из-за чего они мне кажутся совершенно необходимыми для чтения, и все время получается не то и не так. Сейчас тоже будет не то и не так, но по-другому я пока не научился. Мне легче привести пример из, скажем, собственной жизни, тем более, этот условный пример был уже проговорен и с сестрой, которая открыла мне писателя Цыпкина, и с другими, которым этого писателя пытался открыть уже я сам. Это не пример поведения и не случай из жизни. Это, скорее, пример чувств, ощущений, которые знакомы, уверен, почти всем интеллигентным мальчикам из хороших семей, и, наверное, девочкам тоже. Дело в том, что нас отлично воспитали, мы читали много умных книжек и точно знаем, что надо, например, вступиться, если обижают женщину. Но, честно говоря, лучше бы ей нужно было просто уступить место. Потому что очень не хочется, чтобы тебе дали по голове. И мама расстроится. И еще могут сломать очки. Потому что мы знаем, что все равно вступимся. Именно об этом чувстве и пишет писатель Леонид Цыпкин. И в его гениальном маленьком романе (или повести) про Достоевского «Лето в Бадене», и в других более или менее больших повестях, и в рассказах речь, по сути, идет о неуверенности интеллигентного человека. Однажды, поздно вечером, я провожал девушку, в метро, где-то далеко, шумели какие-то парни – может быть, футбольные фанаты, я не знаю. Сложно передать гамму чувств, которую я успешно научился скрывать. Тексты Цыпкина – они как раз об этом.
И тут важно написать, что, конечно, в текстах Цыпкина есть сюжеты, есть удивительный язык, похожий на поток сознания, но, естественно, не он, а выверенные, идеально подогнанные друг к другу слова, есть потрясающее знание предмета, есть необыкновенные наблюдения и выводы. Не надо думать, что проза Цыпкина – это сеанс психоанализа для неуверенных в себе интеллигентных задротов. Думаю, меньше всего Цыпкин думал о таком сеансе. Он просто писал, как пишется, не пытаясь показаться кем-то другим – большая, хочу заметить, редкость. И кто виноват, что у него получилось так, как больше ни у кого?
Худшее кощунство – это забвение...
«Живые картины», Полина Барскова
Книжку Полины Барсковой «Живые картины» я выпросил в Издательстве Ивана Лимбаха на Красноярской книжной ярмарке в октябре прошлого года. И тогда же прочитал – не мог оторваться до последней страницы. Потом, спустя месяц, перечитал еще раз, посоветовал всем своим друзьям и знакомым друзей. И примерно с тех пор пытался про эту книжку написать. Но так и не смог. Я читал многочисленные рецензии в надежде, что они помогут мне найти искомые слова. Но – сдался. Вернее – отступил. Зато нашел выход – попросил Полину ответить на несколько вопросов, которые мне кажутся важными.
«Живые картины» – это сборник небольших рассказов, так или иначе связанных с блокадой – темой, которая занимает тебя уже многие годы. Некоторые твои стихи про блокаду, а еще ты пишешь на эту тему эссе, исследуешь блокадные дневники и документы. Скажи, история твоих взаимоотношений с блокадой – это просто интерес интеллигентной еврейской девочки, рожденной в Ленинграде, или же она какая-то семейная, личная?
Насколько это личная для меня история – сложный вопрос. Моя семья в блокаде не была в Ленинграде, никаких семейных историй мне никто не рассказывал… Я выросла в ленинградском Парке Победы, но мне никто не сказал тогда, что он был отстроен на костях, на пепле, что там была одна из блокадных похоронных ям. Если я что-то и помню, то открытие памятника на площади Победы, это сочетание грандиозности, мрамора, позолоты и малюсенького жалкого кусочка хлеба. Мне было лет пять, и я ужасно ревела над сверкающей витриной с этим страшным хлебом. Потом, уже в Беркли, я занималась культурной жизнью Ленинграда 1920-1930-х, и меня как бы снесло по какой-то чудовищной горке вниз – то есть, исторически, вперед, – в 1940-е. Дело в том, что большинство моих героев сожрала блокада, вот, того же Хармса. Но также я думаю, что для меня это все-таки мои личные отношения с городом, отсутствие которого в моей жизни очень сильно. Когда изучаешь блокадные тексты, дневники и поэзию, поражаешься, насколько большую роль город играл в блокадной реальности, как он остро, постоянно воспринимался – они пишут о голоде и о городе, и для меня это тоже способ думать о городе вместе с ними.
А почему ты обратилась к прозе?
Я захотела рассказать истории и, в частности, истории чужой жизни, а в стихах сложнее вязать сюжет. Меня более всего занимают истории творчества – там, в моей книжечке, ведь не только блокадники, там, скажем, есть художник Пикассо или моя тетушка, тоже художник. Мне было интересно думать, как течет их время, как связаны их мысли, воспоминания. Только в прозе можно показывать связи, ткань протекания времени, поэзия же фрагментарна, отрывочна. Проза живет по совершенно иным законам, по-другому держит читателя. В каком-то смысле мне захотелось иных методов воздействия…
Наверное, тебя уже просили высказываться на эту тему, и все же – можешь в двух словах описать свое отношение к небезызвестному стихотворению Виталия Пуханова «В Ленинграде, на рассвете…», к книге Карины Добротворской «Блокадные девочки» и так далее? Есть ли в разговоре о блокаде запретные, кощунственные темы?
Первое – я считаю, что тексты о блокаде должны появляться, размножаться и быть разными! Как раз сейчас я еду на конференцию в Германию, где мы будем говорить, среди прочего, о блокадных фильмах Лозницы и голландки Гортер – они совершенно разные, но равно важные и резкие… О блокаде писали Пепперштейн, Завьялов, Вишневецкий, тот же Пуханов и многие другие, и мне бы хотелось, чтобы вокруг этих высказываний была открытая, разумная, просвещенная дискуссия. А что касается кощунства… Для меня худшее кощунство – это забвение, замалчивание, пренебрежение или, наоборот, покрывание лаком и позолотой.
Когда я читал «Живые картины», мне порой не хватало комментариев, каких-то пояснений: кто тот человек, о котором ты пишешь; где найти дневники Бианки и так далее. Или венчающая книгу пьеса – это реальная история или вымысел про живших когда-то людей? Отсутствие таких пояснений – это сознательный выбор?
Моя книжка – это все же историческая беллетристика, а не научная работа. Здесь оперирует воображение. Например, в той же пьесе – я использую реальные слова этих людей, но не только. Сама идея «сказки - документа» вызвана недостатком знания. При этом меня интересовала очень сложная тема – история блокадной любви. Что вообще остается от человеческих отношений – горе, стыд, раздражение? Моисей до конца, уже в безумии, заботится об Антонине [Моисей Ваксер и Антонина Изергина – персонажи пьесы Полины Барсковой и реальные работники Эрмитажа: Изергину увезли в эвакуацию в 1942 году, Ваксер погиб в первую блокадную зиму. – Прим. Е. К.]. Такое полезно знать… Я, кстати, перенесла действие в другое место Эрмитажа, из подвала в Рембрандтовский зал. В подвале, среди общей смерти, вряд ли они могли бы говорить о нежных чувствах…
Как ты считаешь, можно ли воспринимать твои "Живые картины" с листа, без подготовки? Сможет ли их понять человек, не читавший, например, Берггольц и «Блокадную книгу» и никогда не слышавший фамилии Гора?
Это вопрос о хорошем читателе, о котором мечтал Набоков, – о таком читателе, который будет искать, рыть знания… К слову, я сейчас потихоньку работаю над новой блокадной книжечкой, над очерками жизни блокадных поэтов. В ней я попытаюсь обратиться к людям, которые пока, возможно, не знают ни Гора, ни Шишову, ни Гнедич. Но которые готовы увидеть их странными, сложными, не сведенными к умилительным готовым формулам.
Первое пролетарское произведение
"Неделя", Юрий Либединский

"Неделя" была первой книгой ныне почти забытого классика советской литературы Юрия Либединского, которую я прочитал (замечу — по работе). В результате я прочитал еще несколько его книг и не намерен останавливаться. А, так как вы наверняка про эту книжку если и слышали, то давно и походя, то — вот.
Не будучи литературоведом, я приведу лишь несколько фактов, подтверждающих, что эту книжку стоит прочитать (благо, найти ее не так сложно — она много раз переиздавалась, хоть и давно).
Первый интересный факт — повесть была написана как бы в ответ на "При дверях" Бориса Пильняка. Вот как писал об этом сам Либединский: "Вот какой ты видишь революцию — мысленно говорил я Пильняку, — а она вот какая. Тебе уездный городишко в наши дни представляется кошмарным свинством, и ты это свинство принимаешь за революцию, а он — этот уездный городишко — овеян ветрами классовой борьбы, овеян всей мировой революцией, он сейчас насквозь героичен — вот они, эти герои современности…"
Второй интересный факт — работу над повестью, опубликованной в 1923 году, Либединский начал вообще в 1921-м. То есть эта книга — пример ранней революционной "пролетарской" литературы, прямое следствие политики Пролеткульта. В "Литературной энциклопедии", вышедшей в 1936 году, о ней писали (при чтении прошу учитывать год издания энциклопедии): "Повесть "Неделя" сразу выдвинула Л. [Либединского] в первые ряды пролетарской лит-ры. Повесть эта появилась в период кризиса пролетарской лит-ры, когда многие поэты "Кузницы" [литературное объединение, существовавшее в 1920-е, расколовшееся на две части в 1929-м и обеими частями влившееся в РАПП в 1930-м], не поняв сущности нэпа, оказались во власти упадочных настроений и когда в лит-ре преобладали клеветнические изображения революции (Пильняк, Эренбург и др.), косвенно поощряемые влиятельной в то время оппортунистической критикой Троцкого, Воронского и др. Это было первое, приковавшее к себе внимание пролетарское худ. произведение, означавшее переход от абстрактно-революционной романтики периода военного коммунизма к конкретно-реалистическому отражению действительности, классовой борьбы пролетариата на новом более сложном этапе. "Неделя" ставит ряд проблем, к-рые потом начинает разрабатывать вся пролетарская лит-ра. В частности намечена идея проверки и переделки человеческого материала… <…> В "Неделе" перед читателем проходит ряд образов, характеризующих разные прослойки авангарда пролетариата и разные социальные слои, начиная от крепкого рабочего-партийца, чекиста Горных, неустойчивого, с тяжелым грузом «накладных эмоциональных расходов», интеллигента Мартынова и кончая первым в советской литературе образом приспособленца Матусенко. Несмотря на незавершенность ряда этих образов, они выражают одну из основных творческих тенденций пролетарской литературы: стремление к конкретно-реалистическому изображению человека как "совокупности общественных отношений"… <…> Соединение в "Неделе" драматического момента с сильной лирической тенденцией резко отличает Л. от других пролетарских писателей, напр. от Фадеева. Лиризм в "Неделе" чрезвычайно силен, он находит себе выражение в частности и в том, что целый ряд глав "Недели" написан ритмованной прозой…"
И отсюда, конечно, следует третий интересный факт — наличие прекрасного, неожиданного для темы повествования, языка, которым написана повесть. Приведу лишь небольшой отрывок из самого начала, чтобы не осталось никаких сомнений: "В просветы перламутровые, промеж сырых недвижных куч облаков, синеет радостное небо. Три дня солнечна была весна, ручьи ломали сугробы и несли их за город, к реке, улицы стали шумны и грязны. На четвертый же день весна задремала, положила голову на колени и, сидя, уснула где-то на далекой лесной поляне, и только один раз к полудню солнце улыбнулось земле и снова ушло за недвижные тучи. Но весенняя радость осталась, только стояла она позади всего, словно солнце за серыми, синими и бело-лиловыми облаками, что часами висят над землею, как серые, мокрые камни…"
Ну, и так далее. Нужны ли еще доказательства того, что эту книгу стоит прочитать?
Так то пусть конь
"Любовник Большой Медведицы", Сергей Песецкий

Сергей Песецкий родился в 1901 году, 1 апреля, и ему очень подходит это число: вся его жизнь похожа на обман, розыгрыш, и я до сих пор не могу поверить, что сведения о нем, которые присутствуют в открытом доступе, например, в Сети, соответствуют действительности. Ну, смотрите: согласно "Википедии", он был незаконнорожденным ребенком "обедневшего русифицированного польского шляхтича и белорусской крестьянки". В его родном доме разговаривали по-русски. После революции он присоединился к белорусскому антисоветскому движению "Зеленый дуб", а в 1921 году к Литовско-белорусской дивизии польского войска. Потом переехал в Раков и стал контрабандистом и, одновременно, агентом польской разведки. В 1927 году его осудили за разбой на 15 лет. Отсидев семь из них, Песецкий начал писать. Первым делом он написал роман "Пятый этап", который был конфискован. А потом пришла пора "Любовника Большой Медведицы", едва ли не самой известной его книги, и эта книга непостижимым образом была опубликована. Самого же Песецкого, больного туберкулезом, в связи с этим досрочно освободили из тюрьмы. Во время Второй мировой войны он сражался в рядах Армии Крайовой, воюя одновременно и против немецких, и против советских войск, входил в Сопротивление. В 1946 году эмигрировал и, по некоторым данным, еще долго работал на несколько разведок. Умер он в 1964 году, похоронен в Великобритании. Можно перевести дух.
Понятно, что человека с такой биографией при советской власти не печатали. Четыре его книги, в том числе "Любовника Большой Медведицы", издали по-русски в Белоруссии в прошлом году. Не уверен, что его книги можно купить в России, но в Белоруссии они есть, - значит, все желающие могут их прочитать. А прочитать их стоит.
И тут важно понимать, что перед нами – не высокая литература, а настоящий палп, чтиво (обложки, кстати, соответствуют). Так, в "Любовнике Большой Медведицы", явно автобиографическом романе, речь идет об упомянутом выше довоенном Ракове, который был столицей контрабандистов. Его герои, в том числе и "автор", на протяжении всей книги ходят через границу, пьют очень много водки, занимаются сексом с местными красотками, устраивают гулянки, которым позавидовал бы Беня Крик, и иногда стреляют – то в пограничников, то в своих коллег, которые нарушают неписанный кодекс. На этом все – никакой морали, просто жизнь на грани. К тому же, написан "Любовник…" человеком, который не очень владеет литературным языком, но очень хочет писать: он намечает характеры и подробности пунктиром, а потом вдруг срывается на слишком простые и слишком банальные описания и с умным видом транслирует прописные истины (возможно, конечно, это огрехи перевода, но мне все же кажется, что таков авторский язык). Однако "Любовник…" – книга в своем роде уникальная и совершенно необходимая для чтения всем, кто хотя бы чуть-чуть интересуется предвоенной историей, филологией и прочим. Песецкий здесь походя дает подробнейшее описание жизни и работы белорусских контрабандистов того времени (например, он пишет о том, что через границу предпочитали ходить без оружия: пойманных с оружием пограничники считали за шпионов). Отдельное счастье – описание выходной одежды этих парней, в которой они щеголяли в городе в особо солнечные дни, и их попоек-вечеринок. И, наконец, "Любовник Большой медведицы" – это занимательная зарисовка о языках: в контрабандистском Ракове действовали поляки, белорусы, русские, евреи, литовцы и так далее, и их язык наполнен какими-то аутентичными рюшками и оборотами, которые почти не теряются в переводе: "Работать? Так то пусть конь".
Аналогично, к слову, дела обстоят и с трилогией "Человек, превращенный в волка" – "К чести организации" – "Вавилонская башня". В ее центре – рисковый, "фартовый" человек, сражающийся за свою страну с оккупантами – и немцами, и большевиками, а обилие прописных истин сочетается с приключенческим сюжетом и кучей исторических подробностей о предвоенном и военном Вильно и окрестностях, об Армии Крайовой, о Сопротивлении в частности и подполье вообще. Увлекательное, короче, чтение.
И все равно поверить в то, что этот человек на самом деле существовал, сложно, - слишком многое в его судьбе похоже на эпизоды из авантюрного романа, на смесь Бабеля и Ежи Косинского. А его герои напоминают то героев Флеминга, то людей без имени из спагетти-вестернов Серджио Леоне.
Сергей Песецкий написал 12 романов и бессчетное количество малой прозы. Все эти тексты еще ждут своих переводчиков.
Поэтический поп-арт
Тимур Кибиров, "Когда был Ленин маленьким"
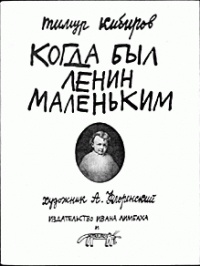
Не будучи литературоведом, я совершенно не знаю, что сказать про поэтическое произведение одного из самых известных российских поэтов Тимура Кибирова "Когда был Ленин маленьким". Но, так как многие вообще не догадываются о существовании этой книги, я просто познакомлю с ней потенциальных читателей.
Так вот, это – состоящее из нескольких частей (но все равно очень небольшое) поэтическое полотно, причем каждая часть начинается со своеобразного эпиграфа… вернее, не эпиграфа, а условно исторического факта (в прозе), о котором пойдет речь в данной части (в стихах).
Например: "Ходить он начал одновременно с сестрой Олей, которая была на полтора года моложе его. Она начала ходить очень рано и как-то незаметно для окружающих. Володя, наоборот, выучился ходить поздно, и если сестренка его падала неслышно - "шлепалась", по выражению няни, - и поднималась, упираясь обеими ручонками в пол, самостоятельно, то он хлопался обязательно головой и поднимал отчаянный рев на весь дом. Вероятно, голова его перевешивала. Все сбегались к нему, и мать боялась, что он серьезно разобьет себе голову или будет дурачком. А знакомые, жившие на нижнем этаже, говорили, что они всегда слышат, как Володя головой об пол хлопается. "И мы говорим: либо очень умный, либо очень глупый он у них вырастет". (А. И. Ульянова "Детские и школьные годы Ильича": Детгиз, 1947, с. 4-5.)".
И, собственно, не самая показательная, зато короткая поэтическая часть:
Читатель мой! Я, право, и не знаю,
что тут сказать... Конечно, можно б было...
Но лучше не пытаться. Ум евклидов
напрасно тщится размотать клубок
причинно-следственной неумолимой связи.
Не будем же гадать! Склонимся молча
пред тайнами великими, пред странной
игрою сил надмирных...
Ну, и так далее.
В общем, "Когда был Ленин маленьким" Кибирова – тонкая и крайне остроумная игра с мифотворчеством и стихотворными стилями, да еще и сдобренная не менее остроумными коллажами Александра Флоренского. И вот тут мне приходит в голову слово "поп-арт" – возможно, это именно он и есть.
От редакции: добыть книгу "Когда был Ленин маленький" можно – за какие-то даже не конские, а битюжьи деньги, и потому редакция попросила разрешения у Жени показать вам дополнительную другую книгу Кибирова, оформленную Флоренским, но наличествующую в природе за постижимые уму рубли.
Типичный представитель современности
"Мир человеческий изменчив", Владимир Уфлянд
"Он самый известный из этих практически абсолютно неизвестных поэтов. Его всегда поминает Бродский. Несколько раз он попадал в заграничные антологии. Уфлянд - человек, умеющий все. Он соткал гобелен. Однажды мы ночевали зимой в лесу в избе, надо было не проспать поезд очень рано, а будильника не было. Уфлянд что-то такое посчитал в уме, набрал в кастрюлю какое-то определенное количество воды, вморозил в нее большой гвоздь, укрепил кастрюлю над тазом. В требуемые пять часов утра гвоздь вытаял и загремел в таз. Уфлянд в стихах, как Зощенко в прозе, но лиричнее слит со своим простоватым героем…" – там пишет Лев Лосев, а Лосев просто так писать не будет. А еще Лосев писал, что главное у Уфлянда – рифма, и с ним был согласен Бродский. Такая история.
Что сказать про Владимира Уфлянда? Родился в историческом 1937-м, с исторического факультета ЛГУ был отчислен за непосещение занятий по марксизму, обвинялся в хулиганстве (кажется, "просвещенные" сотрудники питерской тюрьмы "Кресты" до сих пор гордятся, что среди их "постояльцев" был, в том числе, и он), рисовал, участвовал в запрещенной выставке вместе с Михаилом Шемякиным и Владимиром Овчинниковым, написал тексты песен для фильма "Небесные ласточки". Издавался в сам- и тамиздате, первая книга вышла в 1978 году в "Ардисе", в России начал печататься лишь в 1990-е. Дружил с Бродским. Писал прекрасные стихи. Умер в 2007 году.
Вышедшая в 2011 году книга "Мир человеческий изменчив" на сегодня – самый полный свод текстов Уфлянда. Книга, замечу, тиражом 600 экземпляров все еще доступна в продаже – поторопитесь.
***
Я искал в пиджаке
монету.
Нищим
дать, чтоб они не хромали.
Вечер,
нежно-сиреневый цветом,
оказался
в моем кармане.
Вынул.
Нищие
только пялятся.
Но
поодаль: у будки с пивом
застеснялись
вдруг пыльные пьяницы.
Стали
чистить друг другу спины.
Рыжий
даже хотел побриться.
Только
черный ему отсоветовал.
И
остановилось поблизости
уходившее
было лето.
Будто
тот, кто все время бражничал,
вспомнил
вдруг об отце и матери.
Было
даже немного празднично.
Если
приглядеться внимательней.
***
Мир человеческий
изменчив.
По
замыслу его когда-то сделавших.
Сто
лет тому назад любили женщин.
А в
наше время чаще любят девушек.
Сто
лет назад ходили оборванцами,
неграмотными,
в
шкурах покоробленных.
Сто
лет тому назад любили Францию.
А в
наши дни сильнее любят Родину.
Сто
лет назад в особняке помещичьем
при
сальных, оплывающих свечах
всю
жизнь прожить чужим посмешищем
легко
могли б вы.
Но
сейчас.
Сейчас
не любят нравственных калек.
Веселых
любят.
Полных
смелости.
Таких,
как я.
Веселый
человек.
Типичный
представитель современности.
***
Набрав воды для умывания
в
колодце, сгорбленном от ветхости,
рабочий
обратил внимание
на
странный цвет ее поверхности.
— Вот
дьявол!
Отработал
смену.
Устал.
Мечтаешь: скоро отдых!
А
здесь луна, свалившись с неба,
опять
попала в нашу воду!
Теперь
попробуй ею вымыться!
Чтоб
растворился запах пота.
Чтоб
стал с известной долей вымысла
тот
факт, что смену отработал.
Свою
жену он будит Марью.
Хоть и
ночное время суток.
Фильтрует
воду через марлю.
Но
ведь луна — не слой мазута.
И от
воды не отделима.
Рабочий
воду выливает
в
соседние кусты малины.
Кисет
с махоркой вынимает.
И
думает:
— Вот
будет крику,
коль
обнаружится внезапно,
что
лунный у малины привкус.
Что
лунный у малины запах!
***
Уже давным-давно
замечено,
как
некрасив в скафандре Водолаз.
Но
несомненно есть на свете Женщина,
что и
такому б отдалась.
Быть
может, выйдет из воды он прочь,
обвешанный
концами водорослей,
и
выпадет ему сегодня ночь,
наполненная
массой удовольствий.
(Не в
этот, так в другой такой же раз).
Та Женщина
отказывала многим.
Ей
нужен непременно Водолаз.
Резиновый.
Стальной. Свинцовоногий.
Вот ты,
хоть
не резиновый,
но
скользкий.
И
отвратителен, особенно нагой.
Но
Женщина ждет и Тебя.
Поскольку
Ей
нужен именно Такой.
Словно птица...
«Студент Иисус», Ры Никонова (Анна Таршис)

"Голосу Омара" уже чуть больше года, и я
примерно столько же собирался написать про удивительную крошечную книжку,
которую имел счастье прочитать. И все никак не мог. Но вот решил попробовать.
Автор этой книги, Ры Никонова (Анна Таршис), – фигура для русскоязычной словесности уникальная, неизученная. К тому же, тексты этого автора по большей части не опубликованы. Собственно, "Студент Иисус" – одна из двух опубликованных не в самиздате и не за пределами нашей удивительной родины книжек Анны Таршис, и найти эти две книжки сейчас практически невозможно. Но я-то (хотя бы одну) нашел!
Если говорить коротко, то Анна Таршис, писавшая под именем Ры Никонова, - исследователь и продолжатель (развиватель) дела русского авангарда. Хотя все, на самом деле, гораздо сложнее. Она действительно уникальная фигура в неподцензурной русскоязычной литературе, выделяющаяся даже на фоне других фигур этой самой литературы, а ведь там едва ли не каждая фигура – ФИГУРА. При этом, тексты Анны Таршис не опубликованы и, в общем-то, не изучены.
И, в общем, я понимаю, что не могу написать про "Студента Иисуса" ничего не то что умного, но даже и внятного. Так что просто настоятельно рекомендую открыть для себя этого автора, найти текст и провалиться в него – это несказанное удовольствие.
И, чтобы не быть голословным, – вот три маленькие цитаты:
"Проходя мимо прачечной, от которой несло шерстью собаки, Иисус догадался – талант появляется лишь тогда, когда человек, животное или предмет не могут приспособиться к своему уму…"
"Сущность Дьявола в том, что он в любой ситуации
оказывается на месте, вписывается в любой пейзаж.
Сущность Дьявола в том, что он никому не мешает…"
"Беседа в нашем мире – это почему-то всегда
спор.
Образуя свою цивилизацию, мы имитируем птицу Феникс, возрождающуюся из пепла,
слишком часто. Называя ренессансными явлениями карикатуры на бывшее до нас, мы
приходим к себе в гости, с детской радостью щупая знакомую обстановку.
Неуверенность исторических процессов, которым, словно людям, свойственна бывает
лень, вялость, заставляет нас вешать лучших человеческих представителей на
гвоздик недоумения.
Растерянные великие во время таких «ренессансных» явлений часто украшают свой
талант бумажными цветами.
Опасность, скрытая в таланте, давно преследуется, но огромные количества людей,
дорвавшись до духовной пищи, просят ее еще и еще.
Бездарность необходима, – трепетал перед собой втайне Иисус.
Нужно людям непонимание и отдохновение, потому как мрак разума захватил уже
половину белого света. (И течет этот мрак словно вода на пустое пространство.)
Словно птица, создан разум для полета, клевания и создания себе на земле
гнезда…
И тихо улыбнулся Дьявол, подслушав, приблизившись, эту его мысль…"
Хорошая проза
«Цареубийцы», Леонид Менакер
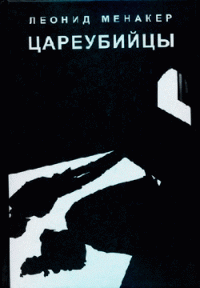
Книга Леонида Менакера «Цареубийцы», по словам самого автора, – это «попытки дать литературную жизнь замыслам, не воплощенным на экране». Это вторая книга режиссера, снявшего знаменитые картины «Последняя дорога», «Николло Паганини», «Завещание профессора Доуэля» и другими.
В книге – две повести. Первая, исторический «Коронованный призрак», появился так. Тогдашний директор «Ленфильма» Виктор Сергеев как-то спросил Леонида Менакера: «Почему не снимаешь? Замыслы-то есть?» Менакер сказал, что есть, и Сергеев сразу же потребовал сценарную заявку. Появилась заявка, был заключен договор, потом Менакер написал сценарий. Но фильм по разным причинам снят не был. Из того самого сценария появилась повесть, и ее «крестным отцом» Менакер называет как раз Сергеева. К слову, вторая историческая повесть, «Человек из тайной полиции», тоже родилась из давнего сценария – у киношников вечно так…
На презентации книги, на которой я присутствовал много лет назад, помню, говорили о том, что режиссер должен снимать фильмы. Например, Эдуард Розовский сказал, что его огорчает стремление Менакера «к столу и к письму». Потому что Менакер – режиссер, и когда Розовский читал книгу, он буквально видел все написанное перед глазами, настолько язык Менакера образен и кинематографичен. К Розовскому присоединился и Евгений Татарский, воскликнувший буквально следующее: «Ты не представляешь, как это интересно - снимать!» Но Менакер, конечно, представляет.
Сам Леонид Исаакович перед тем, как подписать книги желающим, заметил: «Хорошая проза – это всегда кино». Проза Менакера - хорошая проза. Правда, не ставшая фильмами.
Давно написанный текст о любимом поэте
"Вкусный обед для равнодушных кошек", Дмитрий Воденников

«Я – так несовершенен, язык так несовершенен, мир – так несовершенен, а главное, люди, живущие в нем, так ленивы и неблагодарны, что, разумеется, никакое прямое высказывание невозможно. Только оно – есть...» Дмитрий Воденников, один из самых известных современных российских поэтов, называет свои тексты «стишками», рассуждает о любви, смерти, поэзии, феномене Аллы Пугачевой и красоте человеческого тела, а самого его окружает флер скандальности. Воденников – поэт-эксгибиционист. Произнося правду, только правду и ничего, кроме правды, он существует на грани порнографии – в смысле, порнографической оголенности собственных чувств и эмоций. В своих «стишках» он предельно честен, и это может напугать.
Светлана Лин, соавтор книги и автор интервью с поэтом, которые отделяют одну главу от другой, в первых же строках пишет, что Воденников – гений. А в это время адепты правильных рифм и техничных текстов с пеной у рта отстаивают собственное право пригвоздить Воденникова за то, что так писать нельзя. И его медленная, странная и, порой, неудобная поэзия – словно дневник. «Но зато – по молочной реке, по кисельным твоим берегам, убираясь в зеленый подвал под цветную весеннюю груду – так, как я под тобою, никто никогда не лежал. Я тебя все равно, все равно никогда не забуду». Читайте стихи Воденникова – чтобы понять себя.
Когда деревья были большими
Туве Янссон, Летняя книга

В 1966 году Туве Янссон, «мама» муми-троллей, получила называемую «Малой Нобелевской премией» Золотую медаль Ханса Кристиана Андерсена из рук другой женщины-волшебницы, Астрид Линдгрен. А спустя пять лет выяснилось, что, как и все великие сказочники, Янссон писала не только для детей. Но ведь, если подумать, любая великая детская книга предназначена не только детям.
Первая повесть, давшая название сборнику «Летняя книга», – трогательная и, порой, по-детски жестокая история девочки Софии, которая живет на острове с папой (он все время молчит) и старенькой бабушкой, по мере сил принимающей участие в детских забавах. Мы, читатели, познаем мир вместе с Софией, смотрим ее глазами, проживаем с ней одно короткое лето, наполненное разочарованиями, радостями, видениями и теми незаметными случайностями, которые и называются детством. Гений Янссон как раз и заключается в способности сохранить детские впечатления, память о детской реакции на происходящее, будь то ураган, игра или смерть.
Вторая повесть – «Честный обман» – притворившись драмой о том, как некто, проникая в жизнь другого, захватывает эту жизнь, меняя ее, потом выруливает на другую дорожку, превращаясь в тончайшее психологическое повествование об одиночестве человека, окруженного такими же одинокими, нелепыми и несчастными людьми.
Третья повесть – семейная драма «Каменное поле» – о взаимоотношениях отца и двух дочерей, не способных понять друг друга.
А все вместе – удивительная книга о памяти, которая не отпускает, и о жестокости мира. И еще о добре, которое, даже не побеждая, все равно присутствует где-то рядом.
Не горюй
«Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьет до дна», Георгий Данелия

Если задуматься, чем Георгий Данелия отличается от многих других прекрасных советских режиссеров, ответ приходит сразу. Нет, не режиссерским почерком, хотя «Мимино», «Не горюй» или «Афоню» мог поставить только он – этот веселый и мудрый человек с грузинской фамилией, усами и целой армией друзей. А тем, что он, несмотря на смену политического строя и развал страны, в которой жил и творил, несмотря на изменение настроений, правительств, идеалов, самого климата, сохранил чувство собственного достоинства, чувство такта и, наконец, чувство юмора. Не ударился в предсказуемо бессмысленные попытки измениться, чтобы соответствовать мигающему вокруг калейдоскопу. А попросту остался человеком.
Его книжка «Безбилетный пассажир» – своеобразная судьба человека, от поступления в институт, от выбора профессии, от родителей и друзей, через грустные и смешные жизненные ситуации – до режиссерского кресла. Но «Безбилетного пассажира» с трудом можно назвать цельной книгой, да еще и автобиографической. Это, скорее, сборник не всегда связанных друг с другом историй, наверняка отточенных в застольных разговорах. И еще, автор выбрал очень мудрый способ рассказать о себе и своей жизни – через жизни и судьбы людей, его окружавших: «Грэм Грин писал, что статистики могут печатать свои отчеты, исчисляя население сотнями тысяч, но для каждого человека город состоит всего из нескольких улиц, нескольких домов, нескольких людей. Уберите этих людей – и города как не бывало, останется только память о перенесенной боли...» Именно окружающие люди составляют жизнь каждого человека, и именно о них рассказывает Данелия (а среди них – великие советские и западные режиссеры, артисты, сценаристы, просто родственники и друзья, а также и случайно встреченные на жизненном пути, но такие нужные попутчики). Ну, и о себе, конечно – о себе среди этих людей.
«Тостуемый пьет до дна» - логичное продолжение «Безбилетного пассажира». Вторая книжка начинается примерно с того момента, которым закончилась первая. И в первой, и во второй есть подзаголовок: «Маленькие истории, байки режиссера». И в первой, и во второй книжке автор, кажется, просто рассказывает то, о чем вспоминает, не всегда придерживаясь хронологии. Повествуя о съемках, скажем «Я шагаю по Москве», он в середине рассказа может вспомнить о чем-то, что было за долгие годы до или через многие годы после. Но это не портит впечатление – наоборот, возникает ощущение этакого живого разговора. Каждому читателю этих двух книжек повезло – не часто в жизни встречаются такие остроумные, наблюдательные и, что немаловажно, добрые рассказчики. Евгений Леонов, Иван Пырьев, Тонино Гуэрра, Сергей Бондарчук и многие, многие другие – все эти люди, кумиры, почти боги, благодаря тонким байкам Данелии становятся чуть ближе. А перед глазами встают кадры любимых, заученных наизусть фильмов...
Последние дни
«В розовом», Гас Ван Сент

Спанки, режиссер рекламных роликов, тяжело переживает самоубийство друга и любовника. Его приятели, молодые маргинальные режиссеры, снимают фильм про ковбоев Немо – космических супергероев, а после оказывается, что эти режиссеры являются еще и проповедниками, которые убеждены в существовании другого измерения. Там время течет иначе, там живут мечтатели и самоубийцы, там можно начать сначала и исправить ошибки. И вот еще что интересно: режиссеры только снимают фильм, но все, кроме Спанки, его уже видели…
Ван Сент («Мой личный штат Айдахо», «Аптечный ковбой», «Слон», «Последние дни») – один из самых значительных современных режиссеров, и это – его первый роман, не фантастический и не реалистичный, без связного сюжета, но с узнаваемыми героями (Спанки – явное альтер эго самого Ван Сента, в очертаниях его друга, который свел счеты с жизнью, угадывается Ривер Феникс, а еще один герой книги, рок-музыкант Блейки, носит такое же имя, как главный герой «Последних дней», ну и так далее). Получилась история о том, что будущее туманно, настоящее тоскливо, а прошлое, стираясь из памяти, остается лишь на кинопленке. Именно на кинопленке существует вечная жизнь, именно кинопленка хранит образы прошлого. И цвет того самого другого измерения, в которое верят режиссеры, снимающие фильм про ковбоев Немо, розовый – тот, который приобретает стареющая кинопленка. Грустная история, но от автора «Последних дней» другого ожидать не приходится.
Страшное и прекрасное детство
«Страна приливов», Митч Каллин

После того, как толстая и нелюбимая мать, приняв слишком много наркотиков, сначала долго корчится в судорогах, а потом перестает дышать, отец, немолодой рокер с немытыми волосами и мечтой о путешествии в Данию, забирает маленькую дочь Джелизу-Роуз и уезжает в покосившийся дом посреди поля, где когда-то жила его мать. Там он садится в кресло, тоже перестает дышать и начинает медленно синеть. Джелиза-Роуз остается сама по себе. Теперь ее сопровождают головки четырех кукол Барби, с которыми она разговаривает, а также страх перед Болотным человеком, ненависть к говорящей белке, друзья-светлячки и два новых знакомых – озлобленная на жизнь одноглазая ведьма Делл и ее сумасшедший младший брат-эпилептик Диккенс, который хранит под кроватью тайну и мечтает победить гигантскую Акулу, каждый день проносящуюся мимо по железнодорожным путям...
Мир глазами ребенка – не самый оригинальный способ, которым пользовались писатели. Но таких страшных, жестоких и, в то же время, нежных книг о детстве я не припомню. Физиологические подробности разложения трупов здесь соседствуют с детскими реакциями на происходящее, а ночные кошмары прерываются разговорами с кукольной головой. Детская непосредственность превращает любой кошмар в игру, правда, игра может окончиться смертью. Но в детстве смерти нет, а есть лишь ожидание волшебных светлячков – «они такие красивые, и они мои друзья, у них есть имена». Страшная и прекрасная книга, по которой Терри Гиллиам поставил страшный и прекрасный фильм.
Агитбригада «Бей врага»
«Жизнь, кино», Виталий Мельников

Знаменитый петербургский кинорежиссер, автор фильмов «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Старший сын», «Отпуск в сентябре», «Бедный, бедный Павел» и других, Виталий Мельников здесь выступает как писатель. Чего ждешь от книги воспоминаний творческого человека, особенно – режиссера? Ждешь баек, смешных историй, подробностей съемок, эпизодов из жизни любимых артистов. Все это, безусловно, есть в книге Мельникова, и любители такого рода литературы не останутся в накладе. Однако «Жизнь, кино» – книга не баечная.
Едва ли не половина книги воспоминаний Мельникова посвящена его детству и юности. Мельников со свойственной режиссеру скрупулезностью и вниманием к деталям описывает время, в котором ему довелось жить, и людей, которые его окружали. Место, где сливаются реки Шилка и Аргунь, портрет Наркоминдела СССР Молотова на стене – этот портрет мать Мельникова возвела «в ранг хранителя семейного очага», арест отца, голодный Благовещенск, первые заработки, бесконечные переезды и тяготы жизни семейства «врага народа», война, поездка в Москву, множество людей со своими характерами и судьбами – вот о чем пишет свою книгу режиссер. Отмечу, что отдельные главы книги «Жизнь, кино» очень кинематографичны. Не зря же Мельников снял прекрасную картину «Агитбригада «Бей врага» – именно так называется одна из глав книги.
И в дальний путь на долгие года
«Книга о друзьях», Генри Миллер
Генри Миллер прожил долгую и не самую простую жизнь – колесил по Европе и Америке, нищенствовал, менял женщин, голодал, его романы называли порнографическими и запрещали в США и Великобритании. Уже в конце жизни, в 70-е годы прошлого века, Миллер написал «Книгу о друзьях», и обложка российского издания украшена многообещающей надписью «Последняя «литературная пощечина» гениального хулигана!» Насчет гениального хулигана претензий нет, а вот насчет литературной пощечины – тут издатели покривили душой, пойдя на поводу банального пиара. Потому что в «Книге о друзьях», конечно, есть многочисленные и достаточно откровенные упоминания о всевозможных женщинах, но это, пожалуй, самое спокойное, я бы даже сказал, умиротворенное произведение писателя и знаменитого нарушителя спокойствия. Немолодой человек, проживший длинную насыщенную жизнь, просто решил вспомнить людей, с которыми его сводила судьба, и написать им слова благодарности.
Судя по тому, что написано в «Книге о друзьях», Миллер обладал уникальным умением собирать вокруг себя разных, порой – прямо противоположных по характерам, но от этого не менее удивительных людей. О каждом из тех, кого он называет своими друзьями, Миллер пишет подробно, останавливается на мелочах, вспоминает какие-то подробности, для каждого находит свои эпитеты. И, в результате, воспоминания эти превращаются в увлекательное чтение, от которого буквально невозможно оторваться. И лишь одно предупреждение – перед «Книгой о друзьях» стоит прочесть и все остальные романы Миллера. Во-первых, будет понятнее. И, во-вторых, это просто большая литература.
Все позволено…
«Любовь к ближнему», Паскаль Брюкнер

У французского писателя Паскаля Брюкнера, автора новеллы, по которой Роман Полански поставил картину «Горькая Луна», а также переведенных на русский язык романов «Божественное дитя» и «Похитители красоты», добрый взгляд и, к тому же, отменное чувство юмора. Он хорошо помнит события 1968 года в Париже и признается: «Самым запоминающимся для меня остался вид множества красивых девушек на бульваре Сен-Мишель. И еще безумие толпы – люди, которые разговаривают друг с другом, будучи незнакомыми...» Он считает, что у Франции было всего три достижения – камамбер, балет и сентиментальный роман. А еще он как-то рассказывал мне, что в молодости дал себе клятву – никогда не жениться, не иметь семьи и не работать. Первые две части клятвы ему пришлось нарушить. А насчет работы он свое обещание сдержал. Потому что уверен – писать легко. Сложно только опубликоваться: «Все хотят стать писателями – это просто настоящая французская болезнь!»
Однако первое впечатление, которое производит Брюкнер, обманчиво – он никакой не добряк, не весельчак и не шутник. Каждая его книга наполнена едкими замечаниями по поводу человеческого рода, а «Любовь к ближнему» – это просто гимн мизантропии. Главный герой романа посвящает свою жизнь продажной любви и начинает оказывать платные услуги женщинам всех возрастов и социальных положений. Он рушит дружбу, семью, направо и налево разрушает жизни, но в финале оказывается, единственным искренним человеком на всех 350 наполненных сексом страницах романа. А сам роман становится приговором человечеству – лживому, подлому, ничтожному и злому. Потому что, как говорил современный российский писатель Виктор Ерофеев в одном рассказе, все позволено, когда Бога нет.
Буквы, слова и смыслы
"Собрание стихотворений (тяготеющее к полноте)", Владимир Эрль

Появление книги Владимира Эрля «Собрание стихотворений (тяготеющее к полноте)» должно было стать одним из самых важных культурных событий года (десятилетия?). К тому же, в Год литературы, что бы это ни значило. Но не стало. Более того, книга вышла в какой-то звенящей тишине. Так не должно быть, и я сейчас попытаюсь объяснить, почему.
Владимир Эрль — поэт, который как бы осуществляет связь времен: между ОБЭРИУ (Эрль — не просто знаток и публикатор Хармса, Введенского и Вагинова, он одной своей ногой как бы стоит в текстовом и мировоззренческом пространстве обэриутов) и, например, Крученых (и в пространстве Крученых и, я не знаю, Хлебникова стоит вторая нога Эрля). Начиная со своих первых стихов, написанных в середине 1960-х, Эрль исследует буквы, слова и смыслы. Ну, то есть, с одной стороны:
Здесь лось прошел,
задев кору ольхи губами,
здесь невеликая качается безумно птица,
здесь ты — не в силах сторониться —
стоишь, откинув тень на камень.
Валун, свой профиль обратив к покою неба,
наверно, ждет движения руки,-
и видно в сумерках: по озеру круги
расходятся…
А с другой:
смола устала
где-то
как его?
Но у Эрля есть, например, и третья нога, и она расположилась в том текстовом пространстве, в котором нащупывали пути-дорожки Ян Сатуновский и, в большей степени, Всеволод Некрасов:
Первое апреля
первое июня…
Даже не поверю,
если ветер дунет.
Если он не дунет,
тоже не поверю…
Первое июня,
первое апреля…
Четвертая нога Эрля – в мире абсурда (или парадокса, хотя не сказать, что между абсурдом и парадоксом — один шаг), и так далее: ног у Эрля бессчетное количество. При этом Эрль никому не подражает — он именно что исследует пространство букв, слов и смыслов, как это делали его предшественники. Недавно критик Игорь Гулин совершенно по другому поводу очень, как мне кажется, точно сформулировал суть обэриутского письма: «Письма, понимаемого не как сумма приемов или банализированный "абсурдизм", скорее — как катастрофическое состояние языка, когда у слов нет времени, нет сил означать то, к чему они привыкли. <…> Еще точнее так: слова, имена, ритмы, стили отказываются означать то, к чему привыкли, принимают здесь свои новые хрупкие, ненадежные роли из солидарности к говорящему, в качестве жеста поддержки поэту в его невозможном положении…» Эти слова, думаю, можно отнести не только к обэриутскому письму, но и к упомянутым текстовым опытам Крученых, и к текстам Сатуновского и Некрасова. И – к текстам Владимира Эрля, не продолжателя даже, но как бы современное воплощение русского авангарда.
Но писание текстов (и путешествия в заминированные поля букв, слов и смыслов) — не единственное, чем славен Эрль. Он — знаток того самого русского авангарда, публикатор и исследователь поэзии ОБЭРИУ. Кроме того, в свое время он был одним из главных действующих лиц ленинградского самиздата — он был и составителем, и издателем, и, естественно, самиздатовским автором. Он — отец-основатель арт-группы «Хеленукты» (1966-1972), в которую входили такие же, как он, увлеченные авангардом и обэриутами люди, в том числе Алексей Хвостенко, Александр Миронов, А. Ник (Николай Аксельрод) и другие: «Лучше нас никого нет, да и вообще никого нет…»
Он, говоря коротко, один из главных людей советского поэтического (и не только поэтического) авангарда — второго авангарда или неофициальной, «той» культуры: в одном из редких интервью он так сказал по поводу своей книги «С кем вы, мастера той культуры?»:
Я считаю, что сейчас время культуры вообще угасает. Сама культура угасает, а тогда еще что-то было. Я подразумевал, что пишу не о советских, не об официальных «мастерах», имел в виду то, что называют второй культурой, неофициальной. Но теперь все пришло к своему логическому концу... Увы.
Книга «Собрание стихотворений (тяготеющее к полноте)» - это на сегодняшний день самый полный свод (в основном, поэтических) текстов Владимира Эрля (тут стоит заметить, что книг у Эрля вообще мало, типа, четыре, и все выпущены мизерными тиражами). И я не знаю, какие еще нужны доказательства значимости появления этой книги, особенно в нынешней ситуации стремительно сужающегося культурного пространства.
плыл по волне размер
стиха
и незаметно затихал
и успокаивался дух —
и тух…
Урка топает на бан
«В Петрограде я родился... Песни воров, арестантов, громил, душегубов, бандитов. Из собрания О. Цехновицера 1923-1926 гг.»
 Мне понравилось цитировать стихи. Так что буду порой этим баловаться. Вот, например, как сегодня.
Мне понравилось цитировать стихи. Так что буду порой этим баловаться. Вот, например, как сегодня.
Короче говоря, гениальное издательство «Красный матрос» (оно же – Михаил Сапего, которым я восхищаюсь) некоторое время назад выпустило книжку «В Петрограде я родился... Песни воров, арестантов, громил, душегубов, бандитов. Из собрания О. Цехновицера 1923-1926 гг.», и это, конечно, совершеннейший праздник. Я, честно говоря, хотел перепечатать сюда едва ли не все тексты из этого сборника раннего «русского шансона», но ужасно устал. Так что вот вам, для примера, песня «Когда идешь по Офицерской…»:
Когда идешь по Офицерской,
Направо есть большой там дом,
Там по углам четыре башни
И два архангела с крестом.
А на тех больших воротах
Преогромная доска,
А на той доске три слова:
«Здесь находится тюрьма».
Пробило на часах двенадцать
И часовой несет обед:
Чашку щей и пайку хлеба, –
Вот арестантский весь обед.
Когда заглянешь в эту чашку,
Там черви стаями кишат.
И чашку бросив, сам заплачешь
Начнешь хлеб с солью только есть.
А арестант ведь не собака,
А такой же человек.
А вот еще один шедевр – «Прогремела труба»:
Прогремела труба,
Повалила толпа.
Поле чистое, –
Степь широкая.
На том поле погост,
За погостом есть мост,
Гладко тесанный,
Кровью смоченный.
Впереди идет поп,
А за ним несут гроб
Два преступника,
Два мятежника.
А преступник такой,
Сам на плаху взошел
Сам на плаху взошел
Твердой поступью.
Не крестясь, не молясь,
С визгом сталь поднялась,
Опустилася
И вонзилася.
Палач кудри поднял
И толпе показал
Ту головушку,
Прочь оточенную.
Вдруг в толпе прокричал:
Вольдемар! Вольдемар!..
Голос матери,
Голос плачущей.
И, ладно, последнее (невозможно остановиться, невозможно!), – «Урка топает на бан…» (везде сохранены орфография и пунктуация оригиналов):
Урка топает на бан
Чум-ча-ра, чу-ра-ра,
Контролировать майдан
Ку-ку!
Скантролировал майдан,
Акалечил чимодан
Акалечил чимодан
Купил стирки и на бан.
Урка фраера споймал
И чмеля с него содрал
Урка, урка, урка я,
Где блатные, там и я.
Раз с блатными будешь жить,
Будешь в золоте ходить.
Кроме всего прочего, пользуясь случаем, я настоятельно рекомендую следить за тем, что выпускает "Красный матрос": там что ни книга –то шедевр.
____________________
Чуть-чуть того, что у нас есть от "Красного матроса". – Прим. гл. ред.
ты я и мы с тобой и мышь с нами...
«Стихи 1956–1983», Всеволод Некрасов

Я давно уже хотел написать про гигантскую книгу стихов Всеволода Некрасова («Стихи 1956–
1983»), но до сих пор совершенно не понимаю, как сформулировать то, что я думаю. Ну, потому что я не литературовед, и в стихах ничего не понимаю, а Некрасов – не простой поэт, хотя, конечно, очень простой, легкий, но при этом экспериментатор, находящийся для меня там, где находятся и его предшественники от Крученых и Хлебникова до Хармса, и его старший учитель Сатуновский, и, скажем, более поздние Хвостенко и Озерский. И это все, конечно, дико интересно, забавно, тонко и непривычно. Об этой книге очень точно написал Игорь Гулин, так почитайте его статью. А пока – несколько очень коротких текстов великого поэта Всеволода Некрасова.
***
Серый серый ветер
Тротуары вытер
Происходит вечер
Без особых вычур
Без особых штучек
И на восемь строчек
За домами туча
Темная как ноча
***
Осень
Перекресток просек
И уселся посередке
На то пес
Не то кот
И сидит
И не идет
***
Увидеть
Волгу
и ничему не придти
в голову
ну
можно
такому быть
или Волга не огого
стала
но
воды много
***
ты
я
и мы с тобой
и мышь с нами
жили
смешно
***
осени-то
сколько насыпалось
выше
средней полосы
и еще все
сыпет и сыпет
***
да
едва ли только
это та простота
да и навряд ли
это та доброта
и простота
была неспроста
и доброта
не довела до добра
***
обождите
и можете быть
живы
***
ужас
дохнул
завыл
а что дальше нужно было
забыл
задумался
подумал подумал
и забылся и заснул
опять проснулся
дунул и плюнул
***
Ну
море волнуется
Море
не волнуйся
Я не утонул
***
а светло-то
светло так
как будто там ты
***
Не может быть
Боже мой
Быть
Этого не может
Может это быть
Боже ты мой
И я
Тоже
Твой
Я тут делаю кое-какие штуки...
"The Irony Tower", Эндрю Соломон
Некоторое время назад я не отрываясь прочитал The Irony Tower Эндрю Соломона (по-русски, просто почему-то название не перевели). Американец Соломон впервые попал в СССР в 1989 году, чтобы написать про проходивший в Москве аукцион Sotheby’s, ставший знаковым для советского (и, позже, российского) современного искусства. В результате он перезнакомился с кучей неофициальных художников (в основном – московских), и в результате написал про них книгу – такую интересную, что невозможно остановиться, пока не дочитаешь до конца.
Только вот что я хочу отметить. Когда я читал про московских художников, я пытался что-то запомнить, сравнивать со своими более чем дилетантскими впечатлениями, хотя впечатлений мало – я это все очень плохо знаю, поэтому доверяю чужим суждениям. А потом я переходил к описанию ленинградских художников и вообще андерграунда и… так широко улыбался, что в метро на меня оборачивались: «Люди из “Кино” – крутейшие из крутых – не очень ладили с Сергеем Курехиным, чьим детищем была группа “Поп-механика” (“Популярная механика”). Сергей Курехин – одаренный музыкант и симпатичный парень, хотя, конечно, не такой стильный, как люди из «Кино». Он импровизатор. На одном из концертов он умудрился сымпровизировать единую тему для двух концертных оркестров, рок-группы, джаз-группы и ансамбля грузинской народной музыки – к неописуемому восторгу всех присутствовавших. Ленинградские “Новые художники” и члены “Клуба любителей Маяковского” в полном составе, за исключением группы “Кино”, принимали участие в концертах “Поп-механики”. Во время некоторых концертов художники сражались на сцене, колошматя друг друга гигантскими надувными фигурами динозавров и змей. Многие из этих людей только что снялись в фильме под названием “Асса”. Режиссером фильма был Сергей Соловьев, в главной роли снялся Африка. Это была бесконечная и бессвязная история, в которой туманные съемки и музыка группы “Кино” и схожей с ней группы “Аквариум” производили впечатление затянувшегося видеоклипа…»
То, что написано о московском художественном мире, прокомментировано одним из участников истории, художником Константином Звездочетовым, который периодически очень трогательно поправляет неточности автора (к слову – крайне редкие). На ленинградских кусках такого «звездочетова» нет, ну и вот – читаю и улыбаюсь. При этом ничего плохого про книжку сказать не хочу – наоборот, только хорошее. Даже если автор (он описывает восьмидесятые, подзаголовок книги – «Советские художники во времена гласности») и допускает порой странные оценки и суждения, то это скорее от того, что он – иностранец, все-таки не погруженный в происходящее (хотя Соломон провел среди героев своей книги очень много времени), а не по душевной злобе или невнимательности.
Читал я, в общем, запоем. Дико интересно – кажется, именно так и воспринимали наш андерграунд гости с Запада: «Попадая из Москвы в Ленинград, как я вскоре понял, всегда испытываешь определенное облегчение. Москва – город, в котором много скрытой красоты, Ленинград – просто красивый город. В Москве можно передвигаться на метро или на такси, Ленинград можно обойти пешком. Когда приезжаешь из Москвы в Ленинград, кажется, с плеч упал огромный груз. Люди на улицах одеты получше, держатся как-то более прямо, чаще улыбаются. Воздух свежее, солнце ярче, вообще жизнь как-то легче: легче ходить по магазинам, легче передвигаться на транспорте, легче поесть. Красота города – сама по себе удивительный подарок. За каждым углом, за каждым поворотом открываются новые чудеса. Катера плывут по каналам мимо домов в классическом стиле, дворцов с куполами, окрашенных в пастельные тона. Улицы украшены аркадами неописуемой красоты, здесь многоцветная церковь, там сверкают на солнце бронзовые барочные кони. Для того чтобы наслаждаться Москвой, необходимо найти причину быть там, нужно искать то, что тебе интересно и доставит удовольствие. Для того чтобы наслаждаться Ленинградом, не нужно прикладывать никаких усилий. Художественная ситуация в обоих городах, скорее всего, проистекает из этих обстоятельств. Как и в Москве, В Ленинграде друзья-художники показывают друг другу свои работы, но здесь не существует ритуалов кодирования, нет привычки все засекречивать. Художественное сообщество здесь – это скорее группа модных молодых людей, которые сформировали некий общий знаменатель, по которому признают друг друга. В Ленинграде очень-очень важно быть не просто модным, а самым модным. Если в Москве художники часто выглядят – даже по советским стандартам – как уличные бродяги, то ленинградские художники своим внешним видом радуют глаз. У них правильные прически, правильная одежда, у них правильные лица и стройные тела. Им нравится самая лучшая, несколько странная музыка, многие из них сами выступают на сцене… Ленинградские художники хотят быть настоящими рок-звездами, типа “Токинг хэдс”. Притом что в СССР гомосексуализм преследуется по закону и осуждается обществом, многие ленинградские художники являются гомосексуалистами, и остальные художники относятся к этому весьма спокойно. Здесь в ходу наркотики. Обкуренные, прекрасные, модные ленинградские художники проводят время в своих чердачных мастерских…»
Или вот еще интересные наблюдения (речь, напомню, идет
о советских/московских неофициальных художниках на стыке 1970-х и 1980-х):
«Сама по себе вещь не имела значения, ценность представляла идея и
обстоятельства ее создания. В таком контексте само произведение искусства
девальвировалось, но при этом превращалось в некий оккультный объект,
искупительный и опасный. Об искусстве не
говорили, потому что искусство было орудием Сталина и Сатаны, можно было только
сказать: “Я тут делаю кое-какие штуки” и обязательно дистанцироваться от этих
самых штук. Было принято говорить: “Посмотрите, какого ужаса я тут понаделал”.
Сами вещи были не более чем документацией продолжающихся непонятных чужому
разговоров…»
Как-то так, если коротко.
Я шел во тьме на зов...
Олег Григорьев, "Стихи"

Информацию об этой книге найти очень сложно. Прежде всего, это – раритет. Изданную в 1991 году книгу-альбом Олега Григорьева с иллюстрациями группы «Митьки» мне довелось видеть только один раз – счастливый владелец рассказывал, что в буквальном смысле нашел ее на полу, хотя народная мудрость утверждает, что такие сокровища под ногами не валяются. Кроме того, мне рассказывали, что во время похорон Олега Григорьева кто-то стоял над свежей могилой, вырывал страницы из этого альбома и бросал их на землю. Но никаких других свидетельств этого мне пока найти не удалось.
В любом случае, в 1991 году издательство «Има-пресс» выпустило этот альбом – большие страницы, на которых раскиданы (в буквальном смысле этого слова) тексты Григорьева и забавные, нелепые, разноцветные и очень подходящие к григорьевским текстам «митьковские» картинки. Теперь этот альбом не найти – наверное, он остался только у кого-нибудь из «митьков», ну или у какого-нибудь счастливого коллекционера.
В любом случае, в конце прошлого года группа компаний «ИМА» тиражом тысяча экземпляров выпустила репринтное издание того самого альбома. И, по счастливой случайности, один экземпляр достался мне. И, как говорилось в старинной телевизионной программе «МузОбоз», «новостей на сегодня больше нет».
Данный текст я написал с двумя целями. Во-первых, если вы будете знать о существовании этой книги, у вас будет больше шансов при желании где-то ее найти. А во-вторых, если появляется повод процитировать где-то тексты Олега Григорьева, – грех им не воспользоваться.
***
Я шел во тьме на зов.
Пришел уже на вопли.
В кустах лежал Сизов,
И кровь текла, как сопли.
– Эй, друг, да не ори.
Влезай ко мне на плечи.
Большие фонари
Светили, словно свечи.
Я шел, а он икал
И по карманам шарил.
Вдруг за спиной сказал:
– За что меня ударил?
И сразу стал душить…
А ведь душил напрасно.
С таким, как он, дружить,
Не скучно, но опасно.
Принес его домой.
Еще он долго злился.
Разбил сервант ногой,
А к утру обмочился…
Пошли бутылки сдали –
Друзьями снова стали.
***
Куйбышев – это бывшая Самара.
Купил я два самовара.
Приехал домой.
А дома какая-то полигамия,
Ну и стал всех пинать ногами я.
Мне говорят:
– Не полигамия, а промискуитет.
– А по мне все равно!
– Э, нет.
– Где жена?
– Вот тут она.
Эх жаль нет шпицрутена!
Человек вьючного склада
Взял за горло, говорит – не надо.
Пока вы у тетки гостили,
Мы и так ее через строй пропустили.
Треснул я самоваром по самовару,
И уехал в Куйбышев – бывшую Самару.
***
Я мялку вынимаю
И начинаю мять.
Кого не понимаю –
Не надо понимать.
А то если подумаешь
И что-нибудь поймешь,
Не только мялку вытащишь, –
А схватишься за нож!
Особый жаргон
Соломон Волков, "Диалоги с Иосифом Бродским"
Все уже давным-давно прочитали книгу Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским». Но так бывает – совершенно необъяснимым образом пропускаешь какую-то важную, нужную и обсуждаемую книгу, потом волна уходит, и ты сколько-то там лет ничего не слышишь о ней. А потом она вдруг всплывает, и оказывается: то, что ты ее пропустил, – большая потеря (естественно, для тебя, книга-то от этого хуже не становится).
У меня все это как раз произошло с «Диалогами с Иосифом Бродским». Книга вдруг всплыла откуда-то, показалась с верхней полки, промелькнула в разговоре, мама сказала: «А ты читал?..» – «Не читал». – «На, прочитай обязательно». И потом от нее уже невозможно было оторваться.
С Бродским все понятно, и, несмотря на это, продолжают поражать его эрудиция, его интеллект, его способ мышления и анализа, его память. Уникальная личность, конечно, невероятная, возвышающаяся над своим временем. Но не стоит думать, что «Диалоги…» – заумные философствования двух интеллектуалов об искусстве и жизни вообще. Потому что Бродский и Волков – это прежде всего два дико остроумных человека. Чего стоит хотя бы постоянный рефрен Бродского: «А где вы жили всю жизнь, Соломон? В какой стране?..». Вот это вот все:
«СВ: А какого размера камера?
ИБ: Если не ошибаюсь, восемь или десять шагов в длину. Примерно как эта моя комната здесь, в Нью-Йорке, но уже в два раза. Что же в ней было? Тумбочка, умывальник, очко. Что еще?
СВ: Что такое – "очко"?
ИБ: Очко? Это такая дыра в полу, это уборная. Я не понимаю, где вы жили, Соломон?!..»
Не хочу писать никаких подробностей. Все знают, кто такое Иосиф Бродский. И мне хочется верить, что если не все, то хотя бы большинство знает, кто такой Соломон Волков. Просто вот вам несколько цитат, после прочтения которых нужно срочно бежать в книжный, если у вас дома еще нет этой совершенно необходимой, уникальной, нереально увлекательной книги.
«Ведь в чем идея артистической колонии? В противостоянии поэта и тирана. А это возможно только тогда, когда, скажем, вечером в опере они встречаются. Тиран сидит в ложе – поэт в партере. Он представляет себя карбонарием, в воображении своем он вытаскивает револьвер. А вообще-то он бормочет нечто сквозь зубы и бросает гневный взгляд. Вот и вся идея богемы...»
«Я помню очень отчетливо, как я спросил ее нечто, касающееся Сологуба: в каком году произошло такое-то событие? Ахматова в это время уже поднесла рюмку с водкой ко рту и отпила. Услышав мой вопрос, она сделала глоток и ответила: "Семнадцатого августа тысяча девятьсот двадцать первого года". Или что-то в этом роде. И допила оставшееся...»
«Нам на наши рассуждения по этому вопросу могут возразить: да, у вас есть на Западе аудитория, но эти люди ничего не понимают, потому что не говорят с вами на одном языке. А я на это вот что отвечу: с человеком вообще на его языке никто не говорит! Даже когда с вами жена разговаривает, она не на вашем языке говорит! Разговаривая с ней, вы приспосабливаетесь к жене. И к другу вы себя приспособляете. В каждой подобной ситуации вы пытаетесь создать особый жаргон. Почему существуют жаргоны? Почему существуют всяческие профессиональные терминологии? Потому что люди знают, что они все – разные животные, но от этого страшненького факта они пытаются отгородиться, создав какую-то общую идиоматику, которая будет кодовым языком для "своих". Вот таким-то образом и возникает иллюзия, что ты – среди "своих", что в данной группе тебя понимают. Разумеется, когда ты, выступая, хохмишь, а в зале начинают улыбаться и хихикать – то есть демонстрируют, что "понимают" тебя, – то это вроде бы приятно. Но в общем это удовольствие, без которого можно обойтись…»
Как-то так, если коротко.
Неизвестный известный поэт
Стихотворения и поэмы, Вольф Эрлих

«У Вольфа Эрлиха тихий голос, робкие жесты, на губах – готовая
улыбка. Он худ и черен. Носит длинные серые брюки, черные грубые
ботинки. Немножко хвастается знакомством с Есениным. Был имажинистом.
Из-за этого пришлось уйти из университета. Но славы не заработал. Пока
издал одну книжку – «Волчье солнце». Так старые романтики называли луну.
Кто-то сказал: Эрлих из Симбирска.
Пожалуй, верно. Он мало похож на здешних…» - так в первой тетради «Записок для себя» вспоминает Эрлиха Иннокентий Басалаев.

Занимаясь одним большим проектом, о котором можно будет говорить, когда он будет готов, я открыл для себя Эрлиха – сначала как автора воспоминаний про Есенина «Право на песнь» (Сергей Есенин подарил Эрлиху свою первую книгу, «Радуница», снабдив ее дарственной надписью: «Милому Вове и поэту Эрлиху с любовью очень большой. С. Есенин». И свое предсмертное стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания» Есенин передал именно Эрлиху.), а потом и как поэта. И вот тут есть одна очень важная штука – Эрлиха расстреляли в 1937 году, ему тогда было 35 лет. С тех пор его стихи переиздавали лишь один раз – в середине 1960-х (его участие в различных антологиях я не считаю, хотя – на безрыбье…). Ну, то есть, его как бы никто и не читал. А зря.
Так что вот вам несколько его текстов:
***
Финскому ножу
В
этой грубости единства –
Меж
приятелей, подруг,
Я
тебе молюсь, воинственный
Опекун,
товарищ, друг.
Каждый
молодость расплескивал,
Но
не каждому, как мне,
Сталью
узенькой поблескивал
Ты
в полночной тишине.
Ночкой
темною, томительной
Ты
мне дан и до сих пор
Все
хранишь свой блеск живительный
Голубых,
родных озер.
Что
ты мне? – Стальное зеркало,
Где
душа, любовь и я?
Просто-ль
узенькая дверка
В
темный дом небытия?
Враг
узлов, нарезчик мудрости,
Будь
оградой в жизни сей
От
врагов – утехи юности,
От мучителей друзей.
***
Городок
В глухие сугробы
В сырой холодок
По самые плечи
Увяз городок.
Как белая немочь,
Сутулый, опалый,
Он создан царем
Еще был
До опалы.
В нем – два лихача
И десяток калек;
Петух пропоет,
Пробредет человек,
Снует воробьиное,
Серое горе,
И галки во фраках
Висят на соборе;
И я в нем, лишенный
Друзей и врагов,
В опале у почты,
У редакторов,
Пишу, забывая
Цезуры и стопы,
Брожу, вспоминая
Истории топот,
Товарищей, павших
В веселом бою,
И легкую, черную
Юность мою.
Друзья изменили,
Иль руки ослабли?
Я помню, кипящие
Падали сабли.
Но это – для тела,
А для души –
Как манна небесная,
Падали вши.
И мы не роптали,
Коль в руки соседа
Горячая, с пылу,
Ложилась победа.
И вы не ропщите,
Мои друзья,
Что в мире остались
Чернила да я!
Придут помоложе,
Покруче,
Пожестче,
Встряхнут и проветрят
Губернские мощи,
И плюнут в лицо нам
За то, что грустим,
За то, что подолгу
И молча глядим,
Как лепится к стеклам
Морозная пудра,
За то, что скучаем
И грезим.
А утром –
Лишь солнце взлетит
Петухом на плетень –
Встаем мы
И на сердце пробуем день,
Как друга на верность,
Как на зуб монету,
Как на смерть,
На песнь,
И на славу – поэта.
***
Вошь
Она была в те дни кичлива и горда.
Ее неукротимая орда,
То строилась в полки, то просто так – ордою
Что день, ползла на штурм, брала высоты с бою.
И песни громкие о ней слагал поэт,
И даже ленинский ее почтил декрет.
И смерть ее была… но путь держа к победам,
Мы снова напоролись на беду:
Я молча по Литейному иду,
А вошь в бобрах – идет за мною следом.
***
Между прочим
Здесь плюнуть некуда. Одни творцы. Спесиво
Сидят и пьют. Что ни дурак – творец.
Обряд все тот же. Столик, кружка пива
И сморщенный на хлебе огурец.
Где пьют актеры – внешность побогаче:
Ну, джемпер там, очки, чулки, коньяк.
Европой бредит, всеми швами плачет
Недобежавший до крестца пиджак.
И бродит запах – потный, скользкий, теплый.
Здесь истеричка жмется к подлецу.
Там пьет поэт, размазывая сопли
По глупому, прекрасному лицу.
Но входит день. Он прост, как теорема,
Живой, как кровь, и точный, как затвор.
Я пил твое вино, я ел твой хлеб, богема.
Осиновым колом тебе плачу за то.
Два в одном
"В тумане", Василь Быков
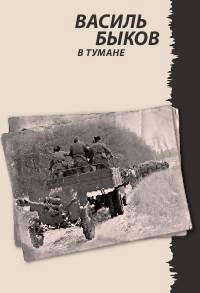
Этот текст не совсем про книгу. Он, скорее, про кино, поставленное по книге. Ну и про книгу, конечно, тоже. Про очень хорошую книгу.
«Холодным слякотным днем поздней осени на втором году войны партизанский разведчик Буров ехал на станцию Мостище, чтобы застрелить предателя — здешнего деревенского мужика по фамилии Сущеня…» — так начинается повесть Василя Быкова «В тумане». Недавно говорили о том, что сейчас вряд ли кто-то читает Быкова, я имею в виду молодежь. И это плохо.
Ну вот, а лет, наверное, двенадцать назад мы сидели в кафе «Ленфильма» с режиссером-документалистом Сергеем Лозницей, и он рассказывал, что планирует начинать работать над своим первым игровым фильмом — о войне, по какой-то повести Василя Быкова. Я ему еще тогда в шутку сказал, что очень бы хотел у него в эпизоде появиться, а он ответил, что я лицом не вышел — ему или арийские лица нужны, или белорусские. Посмеялись. И, в общем, фильм Лозницы «В тумане», поставленный по одноименной повести Василя Быкова, стал вторым игровым фильмом режиссера, первым было вызвавшее бурные дискуссии «Счастье мое».
«В тумане» — очень интересное кинематографическое произведение, и оно тем интереснее, чем лучше в памяти стоят строки литературного оригинала. Потому что Лозница, кропотливо воспроизводя редкие диалоги из повести и вообще, вроде бы, очень точно (правда, с естественными сокращениями) сохраняя сюжет, сделал фильм, который повесть Быкова имеет лишь в основе. А в остальном — это совсем про другое.
Пожалуй, только природа, такая важная для писателя Быкова, осталась нетронутой в фильме. Сергей Лозница — блистательный документалист, и к съемкам природы он подходит именно как документалист — он заворожено наблюдает за тем, как на тихий до того лес налетает порыв ветра, как раскачиваются ветви, как птица замирает на ветке, словно увидев призрака. И совсем иначе Лозница относится к людям. В повести Быкова каждый из трех героев — это люди, со своими историями, со своим прошлым, со своими переживаниями и рефлексиями. Лозница же лишает персонажей фильма сущностей, почти лишает их прошлого, характеров, каких-то мелких отличительных черт, пишет их схематично, крупными и грубыми мазками. Он очищает их от всего «ненужного» и, сохраняя сюжет, оставляет сухую, немногословную экзистенциальную драму на троих. Поступками героев быковской повести руководит внутренняя логика каждого из них, у Лозницы же весь фильм — путешествие мертвецов, для которых прошлое не важно.
«В тумане» Василя Быкова — трагедия войны, повесть о предательстве, о цене человеческой жизни, о способности или неспособности жертвовать. «В тумане» Лозницы — фильм о растерянности: перед войной, перед человеческим поведением, перед самим собой.
Неоднозначное, но сильное кино. Посмотрите при случае. Ну и книжка еще, да.
Hi-Fi, перезагрузка
«Голая Джульетта», Ник Хорнби
Мне кажется, что «Голая Джульетта» – лучшая книга Ника Хорнби со времен программного Hi-Fi. Только герои теперь постарели – им уже по сорок, и оставаться такими, как десять или пятнадцать лет назад, все сложнее и сложнее, но очень хочется (а, возможно, просто не можется иначе). Когда узнаешь себя в героях Hi-Fi, становится забавно, но после «Голой Джульетты» уже даже как-то страшновато. Хорнби как никто другой (во всяком случае, из современных авторов) умеет простым языком и на простых примерах объяснить все про таких, как мы.
Мне не нравится слово «кидалты» и то, что под ним понимают, – скорее, мне ближе термин, который я впервые услышал от Линор Горалик, – «новые взрослые». В общем, мы такие, какие есть, причем довольно симпатичные люди, – ну, как герои Хорнби.
И еще - хотелось бы мне послушать записи придуманной Хорнби рок-звезды 1980-х Такера Кроу – кажется, этот парень бы мне понравился.
«Откровение биографических песен в том, подумал Такер, что автор превращает настоящее в прошлое. Берешь свои чувства, или отношения с другом, или любовь к женщине – и превращаешь в былое, в нечто законченное, чтобы определиться с ним. Засовываешь его в стеклянную банку и разглядываешь, обдумываешь, пока оно не лишится всякой сути. Именно это он всегда и проделывал – в том числе и с теми, с кем спал и кого рожал. Истина жизни, однако, в том, что ничто не кончается, пока ты не издох, и даже после смерти ты оставляешь целый ворох нерешенных проблем и невысказанных слов. Похоже, гнусные авторские привычки в нем сохранились, хотя он уже сто лет не пишет песен, – возможно, пора от них отделаться окончательно?..»
Когда деревья были большими
Наум Ним, «Господи, сделай так…»
Хотел написать про роман Наума Нима «Господи, сделай так…», но совершенно теряюсь. Потому что, если начать про него писать то, что действительно думаешь, получается какая-то пошлость: ну, да, это светлый, пронизанный солнцем роман о белорусском детстве шестидесятых годов прошлого века, о четырех друзьях и об их взрослении. Когда деревья были большими, а весь мир, казалось, лежит у ног, и удачу можно схватить за хвост, стоит только захотеть. И никаких при этом соплей. Еще пошлее будет написать, что в судьбах этих четверых мальчишек, как в зеркале, отражается история страны. Вот поэтому я и теряюсь. Потому что все, с одной стороны, именно так, а с другой, мне кажется, что этот роман Наума Нима — одна из лучших книжек, написанных на русском языке в последние годы. Я, на самом деле, три раза проезжал свою остановку в метро, пока читал. Как-то так, если коротко.
Какие дела?
Две книги Артура Молева

Начальство* попросило меня придумать в последний эфир уходящего (и слава Богу, что уходящего года) что-нибудь эдакое. Я думал неделю и ничего не мог придумать – что-то не попадается мне последнее время ничего эдакого. А потом вдру придумал. Давайте я вам стихи почитаю, а? Да не просто стихи, а стихи Артура Молева. Сейчас расскажу.
Значит, Артур Молев, если кто не знает, - прекрасный художник-примитивист, довольно-таки известная фигура позднего (то есть уже 1990-х) питерского андеграунда; вы наверняка видели его работы, даже если не были на его выставках – например, в анимационных клипах «АукцЫона» и в оформлении альбомов Лени Федорова. Молев, к тому же, автор некоторых текстов Лениных альбомов – совместно с моим лепшим корешем Андреем Смуровым он написал эпохальный психоделический гимн «Бен Ладен» с альбома «Таял» и песни альбома «Красота», и еще несколько красивейших вещей.
Два сборника текстов Молева, о которых идет речь, – это «Иордан» (Амстердам, 2008) и «Беспечный ездок или встречный часовой» (Санкт-Петербург, 2011). Тоненькие самиздатовские книжечки, по 100 экземпляров каждая, сделаны самим Молевым, проиллюстрированы его рисунками, а одна так вообще состоит из письменных букв, в некоторые приходится вглядываться. Молевские тексты естественным образом продолжают традицию условных авангардистов начала прошлого века, от Хлебникова до Введенского. И, в общем, так как вряд ли многие тут с этими текстами встречались (потому что встретиться с ними крайне сложно), я просто приведу некоторые из них, которые мне больше всего нравятся. А вы поищите эти книжки – при желании их вполне можно найти. Ну и с Новым годом, чего уж!
***
"Книга созвездий"
За ночь выросла щетина.
Ночь болела голова.
Читалась книга,
Читалась книга.
Перелистывались годы – слова.
За ночь лица – звуки – фига.
Ночь слезились глаза.
Ночь – все кончилось.
За ночь заново
Читалась книга,
Корнем вверх,
Росло дерево образа.
***
"Сверху"
Земля – камни
в болотной воде.
Забудь о главном,
везде и нигде.
Какая сила?
Какие дела?
Кого растила,
того и взяла.
Земля – кирпичик.
Лицо на лице –
кому-то лично
покажет в конце.
Какое время?
Какие дела?
Что снегом в стремя,
что дождь в удила.
***
"Намёки птиц"
– Тирлик
Тирлик
Гурит Гурит Гурит Гурит.
Сидит
Старик,
Табак курит.
– Чив Чив
Чивирк –
ему сверху.
Дымит
Старик,
В ушах перхоть.
Вдруг – Чик!
Пеек Пеек
Пиуу Пиу.
Вздохнул Старик,
– Весна… Пиво.
***
"Встречи"
Река расчёсывала водоросли
И с пеной брила мох расчётливо.
А камни облысели в возрасте,
И подставляли молча щёки ей.
Вода хихикала и булькала,
Ладонью хлопала по призме им.
Камни насупились бабульками
И вслед глядели укоризненно.
***
"Письмо"
На лыжах или на коньках
И проживешь до ста годов
Все в экономке нищете
С чесоткой на худых руках.
Своей чирикая судьбе
летит замерзший воробей.
Ворон попарное родство
взлетает враз на пол-кило
У нас – всё тихо всё спокойно
Пожить, что клюкву раздавить
Полнеет ночь над колокольней
Жиреет месяц трется нить.
Вигвам.
***
"Песах"
На каждой горке
На каждой травке
Сидит красотка,
Сложила лапки.
Меха в полоску
Фата – блеск крыл, но
Одной не просто.
Жужжит призывно.
Стрекочет поле
Дрожат былинки.
Любовь на воле –
Нектар в корзинке.
Попарно в форме топора
Стрекоз летает детвора.
И долгоносик друг на друге
Несет в бутон свою подругу.
***
"Условие"
Хоть что-то
Чтоб не зря
Хоть чуть
Чтоб по за про
Жить пользой
День
Так быстро ну
Хоть что-то ус
Успеть взаправду ду
На лыжи
Лжи Мазай ту-ту
Как бор-машина ф-фр
Фыр без наркоза
Коза на нарах
Расчетом атом
Не создать
Не не
Слюну
Сегодня проглотить
Но кто ты?
Здесь заяц
Или мышь
Приходит полночь во дворец
Шекспир и Шикса
Лед енец сосут.
Вружьё и под венец.
Изба. Конец.
***
В каждой мысле есть уздечка.
В каждом вымысле свой конь.
В каждой встрече есть колечко.
В каждом кулаке – ладонь.
В каждой глупости есть ложка.
В мудреце сидит павлин.
Пой, играй моя гармошка,
Раздувайся как чертог.
____________________
* Прим. "начальства": "Начальство" от души благодарит Женю за отличный выход из положения и шлет ему обветренные воздушные новогодние поцелуи!
Сегодня он играет джаз...
«Блюз для своих», Валерий Мысовский
Моя недавняя находка – изданные в 2001 году тиражом 100 экземпляров воспоминания Валерия Мысовского «Блюз для своих».
Мысовский – важная фигура в истории ленинградского джаза в частности и советского в целом. Он начал играть джаз (Мысовский – ударник) еще в 1951 году, в 1958-м стал одни из основателей первого советского джазового клуба «Д-58», в 1960-м вместе с Владимиром Фейертагом написал и даже издал брошюру «Джаз», потом был лектором знаменитого «Квадрата», перевел «Пташку. Легенду о Чарли Паркере» Роберта Джорджа Рейзнера и так далее. Ясное дело, что я эту книжку схватил не думая.
Мысовский – традиционалист, любитель джазовой классики, при этом не терпящий ничего другого, как побег расценивающий любой шаг влево или вправо. Удивительным образом приверженность к такой свободной и живой музыке, как джаз, и участие в почти запрещенных, едва ли не подпольных джемах сочетается в одном человеке с категорическим неприятием всего нового. «Другим видом потенциального ослабления мастерства джазмена является увлечение так называемыми новыми формами джаза: свободный джаз, джаз-рок и т. д. Говорят, что музыка авангардного джаза, якобы самая передовая, и, как заявляют горе-критики, “очень трудная для исполнения и понимания”. То, что – хотя бы в смысле последнего – это ерунда, вытекает из следующего: даже самая неподготовленная аудитория моментально “понимает” авангард – она сразу чувствует его нехитрые приемы контраста, смены ритмов, яркую и умело используемую экспрессию и тут же реагирует бурными овациями на эффектные “находки” ее исполнителей, вроде ковыряния в струнах рояля, примитивистских завываний саксофона, электронных звуковых эффектов – да что там, просто взятых из арсенала попсовиков экстравагантных движений и ультрамодных нарядов. Следовательно, не так уж сложна эта музыка, если она воспринимается на “ура” самой разнородной массой…» И это, замечу, один из самых мягких отрывков. Написано все, кстати, в 1975 году.
Правда, есть и куча интересного именно в плане воспоминаний. Вот, например, про приезд Дюка Эллингтона: «…откровенно говоря, до последнего дня не верилось, что это произойдет. И тем не менее – вот мы все в Ленинградском аэропорту, с инструментами, фотоаппаратами, наиболее сообразительные с бутылочками “огненной воды”. С цветами, правда, вышла “лажа”, но Натан Лейтес где-то раздобыл замусоленный букет, из тех, что цыганки прячут под юбками. Само собой, появляется администрация, которая сначала не пускала, а потом пустила. Автобус, правда, сначала вырулил не в ту сторону, но зоркие джазмены все-таки увидели, что там, далеко, свершилось: негры, женщины, чемоданы, автобусы и посередине Он. Раздался вопль трубы Николаева и, грянув «Вашингтон свинг», вся орава бросилась туда с обезумевшими фотографами впереди, развернув два тщетно боровшихся с ветром лозунга (нужно сказать, что они все же вышли из затруднения, и “Привет¸ Дюк” затрепетало над головами). Шлепая тарелками, наконец-то вижу Дюка! Затем – вручение знаменитого букета, рев тромбона Канунникова, улыбка Гарри Карни, “поцелуй Мэри Пикфорд”, маленький и старый Рассел Прокоуп, толстый и мрачный Кутти Вильямс, трогательная косичка Дюка, солнце, вопросы и возгласы, и, наконец, “Я вас безумно лублу!”…»
Правда, от Мысовского попадает и классикам. Например, вот что автор пишет про концерт Бенни Гудмана (первый американский биг-бэнд в СССР!), и это поразительно, конечно: «Два концерта были интересными, но и только – Гудман забирал себе почти все соло, явно не давая развернуться таким замечательным сайдменам, как Зут Симс, Фил Вудс, Джо Ньюман, Мел Льюис и др. Кроме того, когда после диксилендного номера публика стала заводиться (это все наши диксилендщики устроили), он тут же изменил программу и вместо прекрасных оркестровок, исполнявшихся в Москве, начал играть малым составом “из-под волос” “Bei mir bist du schon” и пр. Но все равно это было впервые, что американские джазмены играли американский джаз. Кроме того, подобно американскому актеру-комику, всегда мечтающему сыграть Гамлета, он, как выяснилось из наших газет, мечтал исполнять “серьезную музыку” и поэтому, вместе со специально приглашенным из Финляндии пианистом, сыграл “Голубую рапсодию” Гершвина (а в Москве, в Союзе композиторов, очень напрашивался на запись, в качестве кларнетиста, какого-нибудь классического произведения. Любопытно, что наши корифеи, напротив, рвались “поджазировать” с ним. “Известный русский композитор А. Хачатурян, – писал Фезер позднее в “Даун бите”, – отметив в беседе с Бенни Гудманом, что язык джаза не очень знаком нашей музыкальной традиции, однако, тут же предложил написать концерт для кларнета Бенни Гудмана и его оркестра” – мол, мы тоже не лыком шиты! Но – насмешка судьбы: обе стороны отказали друг другу и даже по одной и той же причине – не в свои сани не садись, хотя Гудман раньше и записывал классику)…»
Много места в своих коротких воспоминаниях Мысовский посвящает употреблению алкогольных напитков, сопровождающих советских джазменов постоянно. «Помню, Р. Ш. рассказывал: “Приезжаем мы с Лундстремом в какой-то Мухосранск, и, натурально, после концерта к нам на сцену приходит делегация местных джазменов – и ко мне: ‘Устроим джем?’ – ‘Ну, давайте’. – ‘Одну минутку!’– Несколько человек исчезают и через пару минут вносят бочку (!) водки (правда,небольшую), зачерпывают кружкой и подносят мне. Я говорю: ‘Не могу, извините, устал’. – ‘Ну как же, нехорошо! Специально для вас несли…’” О себе скажу, что, хотя в эти годы у меня особенно болела язва двенадцатиперстной кишки, пил я все время. Вообще говоря, рюмка-другая часто очень помогают расковаться, расслабиться, но тут надо быть осторожным, и нет ничего хуже, когда на сцене вдруг выясняется, что твой сайдмэн в стельку пьян. Мы с Э. С. иногда вспоминаем, как Ю. М. на одном знаменитом концерте, заканчивая этакий лихой пассаж вправо по клавиатуре, пал со стула на занозистые доски сцены “Пятилетки”…» Но куда же без этого.
И обилие живых деталей: «Общий дух мне был очень приятен – всегда вместе, после игр частенько закатывались к кому-нибудь на квартиру, чаще всего к нашему менеджеру Додику Мовшину (именно им был изобретен знаменитый бутерброд: когда кончалась закуска, изготавливался бутерброд Мовшина – на толстый ломоть черного хлеба накладывается тонкий ломоть белого хлеба)…»
Короче, крайне познавательное чтение.
Детский недетский писатель
Аркадий Гайдар, "Обрез"
Вы читали сборник Аркадия Гайдара «Обрез», изданный уже довольно давно? Если нет – бросайте все и читайте.
Короче, два ранних рассказа о Гражданской войне, причем рассказы совершенно какой-то бабелевской силы, только без еврейско-одесского колорита. Дальше – отрывок «Глина» из, видимо, повести про/для детей, которую (повесть). Еще одна повесть, классическая «Голубая чашка», - совершеннейшее чудо, от которого остается в буквальном смысле физическое ощущение солнца и лета. И, наконец, самая неожиданная вещь – «Всадники неприступных гор», написанная в 1926-1927 годах и удивительным образом срифмовавшаяся у меня с битнической литературой типа, не знаю, «В дороге» Керуака. То есть, как по мне, так «Всадники неприступных гор» и есть – совершенно битническая по атмосфере литература, пусть и основанная на другом материале, написанная в другое время и при других условиях. И, если в двух словах, то это счастье.
Теперь хочется перечитать всего Гайдара (что я с успехом и делаю, и вам того же желаю). И еще вскричать – пожалуйста, пожалуйста, откомментируйте и издайте ранние рассказы Гайдара о Гражданской войне, которые он печатал в газетах – они более чем достойны того, чтобы их читали не только специалисты в пыльных библиотеках.
Дела семейные
Тексты сестер Наппельбаум
В написанных в 1928 году «Циниках» Анатолия Мариенгофа, ближе к трагическому финалу, главный герой, альтер эго автора, говорит своей жене Ольге: «Снимайтесь в кино». А она отвечает: «Я предпочитаю хорошо сниматься в фотографии у Hапельбаума, чем плохо у Пудовкина». Моисей Наппельбаум – этот тот человек, по фотографиям которого мы представляем «серебряный век». Большинство самых известных фотографий поэтов, писателей и вообще людей, которые так или иначе определяли российскую культуру первой трети ХХ века, принадлежат именно ему. А еще у него были удивительные дочери, о которых я сегодня и хочу сказать два слова. И да простят меня редакторы этого сайта, потому что я не знаю, чем они будут иллюстрировать этот текст.
Короче говоря, было у Моисея Наппельбаума несколько дочерей, про каждую из которых стоило бы написать книгу. Вместо этого есть редкие книги стихов и грозящее забвение. Стихи, между тем, прекрасные, и будет обидно, если вы о них просто не узнаете.
Наверное, наиболее известна Ида Наппельбаум (1900–1992) – благословленная Николаем Гумилевым поэтесса, всю жизнь прожившая в Ленинграде. Ее первая книга, «Мой дом», была издана в 1927 году, и она мне нравится больше всех. Впрочем, ее стихи выходили книгами всего лишь еще дважды – в 1990-м («Отдаю долги») и в 1993-м («Я ухожу»). У нее, как и у ее сестер, была удивительная судьба – Ида оставила прекрасную книгу воспоминаний «Угол отражения», где рассказала и о встречах с Гумилевым, и о фотомастерской отца, и о сталинских лагерях, которые ей довелось пройти. А вот вам маленькое стихотворение из первой книги Иды:
Рук не хватает, трепещущих рук,
В звездное небо вбивают крюк.
Город не слышит, город спит,
Рядом топор стучит, стучит.
Город не знает, город влюблен,
Снами и страстью весь напоен.
Раз – вколотила, два – укрепила,
Три – раскачала канат.
В скользкую петлю горло вложила
Девушка – и оттолкнулась назад.
Небо, как небо, луна, как пятно.
Больше ни слез и ни мук.
Лишь над Невою в чье-то окно
Мертвый стучит каблук.
Еще одна сестра – Фредерика Наппельбаум (1901-1958), звезда гумилевской «Звучащей раковины», соученица Константина Вагинова, в конце 1920-х уехала в Москву, где работала в студии отца. Она писала мало и не собиралась издавать свои тексты – большинство были опубликованы лишь в скромном сборничке «Стихи» в 1990-е. И еще была крошечная книжка, изданная в 1926 году мизерным тиражом, и – все. Фредерика умерла в 1958 году, в один день с отцом. А вот ее стихотворение, датированное 1923 годом:
Мне дорого воспоминанье
Пустынных и прекрасных дней,
Когда огромное сиянье
Стояло над страной моей.
Когда ожившими рядами,
Вдоль улиц гулких и пустых,
Вздымались здания, и камень,
Как пламя, пел горячий стих.
И – жизни новое биенье –
По глади водного стекла
Прошли мгновенным отраженьем
Два огневеющих крыла.
И этой зыбкою чертою
Уже навек отделены
От душной сладости, какою
Бывали здесь упоены,
Мы слышим тихое бряцанье
В пыли распавшихся веков,
Мы смотрим в черное сиянье
Еще незримых берегов.
Самая младшая сестра – Лиля (Рахиль) Наппельбаум (1916–1988), тоже переехала в Москву и всю жизнь работала в библиотеке Союза писателей. У нее вышли две книжки стихов – «Студеных озер зеркала» (1972) и «Звездный бульвар» (1981), третью книгу она подготовила незадолго до смерти, но эта книга так и не вышла. А вот стихотворение:
Очерк окраин резок и груб.
Под небом северным, небом седым
На пьедесталах высоких труб
Белый дым, серый дым, черный дым.
Простерлись до самой Ладоги,
На конусах рея кирпичных.
Всеми цветами радуги
Дымы заводские, фабричные.
Это красочный пенный буран
Во вздыбленном ветром краю,
Это флаги различных стран,
Вставшие в общем строю.
И мне не забыть никогда о том,
Как реял над миром моим молодым,
Взволнованным миром, где первый мой дом, -
Синий дым, желтый дым и даже оранжевый дым.
Ольга Грудцова, урожденная Наппельбаум (1905–1982), стихов не писала – она стала критиком и литературоведом. И оставила после себя прекрасную и очень грустную книгу воспоминаний «Довольно, я больше не играю…»: «Но вся моя долгая жизнь, вероятно, уместится в одной небольшой книге. Это естественно, ведь я отбираю то, что пронзило, оставило глубокий след, сыграло роль в моей судьбе, остальное отметаю – будто его не существовало…»
Такая удивительная, уникальная семья. Семья, о которой можно написать книгу.
Элементарно, Ватсон
«Пчелы мистера Холмса», Митч Каллин

Знаменитому Шерлоку Холмсу перевалило за 90 лет – он разводит пчел где-то в Суссексе и старается как можно реже общаться с многочисленными поклонниками, которые знают его лишь по книгам доктор Ватсона, но стремятся как можно ближе познакомиться с гением частного сыска. Доктор Ватсон, к слову, давно умер, а у самого Холмса порой отказывает память. Но он продолжает жить: он дружит с мальчиком – сыном служанки, читает книги, пытается описать на бумаге одно свое старое дело, подарившее ему единственную в его жизни любовь, оставшуюся несбывшейся. Кроме того, он вспоминает недавнюю поездку в Японию, которую совершил в поисках растения, якобы способного продлить жизнь, хотя он не хочет жить вечно. Его путешествие проходит через Японию, пережившую атомные бомбардировки, но и там от мистера Холмса ждут, что он – единственный, кто сможет приоткрыть завесу тайны над делами давно минувших дней. Между тем, сам Холмс, опирающийся на две палки, чтобы легче было ходить, увлечен пчелами и собственными спутавшимися воспоминаниями.
Американец Митч Каллин («Страна приливов»), написав продолжение, а вернее – окончание истории по великого детектива Шерлока Холмса, каким-то образом умудрился создать совершенно английское литературное произведение. Его «Пчелы мистера Холмса» – не детектив, хотя в нем присутствуют и детективные линии. Это и не антивоенный памфлет, хотя появляющиеся перед глазами Холмса пейзажи голодной и униженной Японии не пугают, но гнетут и заставляют втягивать голову в плечи. Книга Каллина – очень медленное, как вечерние воспоминания, повествование, в котором реальность сплетается с порождением не слишком крепкого старческого разума, а анализ, который предпочитает Холмс всему остальному, наталкивается на единственное возможное препятствие – время. Жизнь оказывается куда более непредсказуемой, чем остроумный вымысел доктора Ватсона. И именно об этом – тонкая, умная и очень неторопливая книжка Митча Каллина, у которой, пожалуй, есть только один недостаток – она заканчивается.
Мальчики и девочки
Поль Фурнель, «Маленькие девочки дышат тем же воздухом, что и мы»
Много, очень много маленьких девочек. Одна надевает на собственные кеды мамины туфли и решает идти по улице, пока у нее не вырастет грудь. Другая колет мертвую маму иголкой. Третья пытается понять, что такое взрослая жизнь или, хотя бы, любовь. Ну, и так далее. Сборник рассказов французского писателя Поля Фурнеля, последователя Раймона Кено, - собрание крошечных новелл про маленьких девочек на пути к взрослению. Это очень странно – такое ощущение, что взрослый дядя когда-то был маленькой девочкой. Потому что он пишет о них так, будто точно знает, что с ними происходит в самые разные моменты их жизни. Это не похоже на подглядывание в замочную скважину, это похоже на какое-то волшебство – Фурнелю удивительно точно и глубоко удается проникнуть в психологию детства. Но, уже в следующем сборнике рассказов, ему точно также глубоко удается проникнуть в психологию стареющих женщин. У маленьких девочек есть мечты, и они пока не знают, что с ними делать. У стареющих женщин мечты когда-то были, а сейчас у них появляется опыт, но они не всегда понимают, что с ним делать. В остальном – никакой разницы. Взрослые женщины до конца своих дней остаются маленькими девочками и продолжают дышать тем же воздухом, что и мы с вами. Только их взгляд на мир становится чуть менее оптимистичным. Хотя жизнь их не становится ни сложнее, ни легче – жизненный опыт не всегда помогает в процессе принятия важных решений. А от того, умеешь ты готовить или нет, не зависит, станет ли твоя жизнь счастливой.
Третий сборник рассказов в книге посвящен мужчинам, более того – мужчинам-спортсменам. О чем думает человек, выбравший путь метателя ядра? Что ощущает парень, который бежит стометровку за девять секунд – его даже не успевают снять телевизионные камеры, а его результат, по сути, мало кого волнует. И что чувствует еще один парень – боксер, который проигрывает раунд за раундом? Из чего состоит жизнь этих людей, стремящихся к рекорду или просто пытающихся быть лучше всех, или, наконец, помогающих кому-то стать лучше всех, оставаясь при этом в тени? Они же тоже, по сути, - маленькие девочки и мальчики, застрявшие в этом странном состоянии между невыносимым детством и сложной, непреодолимой взрослой жизнью, всегда заканчивающейся одинаково?
Книга Фурнеля – это трогательная, порой смешная и всегда пронзительно грустная книга о детстве, которое не заканчивается. И о взрослой жизни, которой не избежать. Это же так просто – маленькие девочки дышат тем же воздухом, что и мы. Просто мало кто об этом догадывается. Французский писатель Поль Фурнель знает это наверняка.
Картинка мира
Рисунки Хармса

Даниил Хармс – гений, это понятно. Его короткие абсурдистские зарисовки повествуют обо всем, что случается (или не случается) вокруг. Он тонкий наблюдатель за жизнью, мизантроп и вечно недовольный собой эгоист, возносящий себя до небес и ввергающий себя же в близкую к безумию пропасть. Он исследователь собственных недомоганий, постоянно ищущий взаимности одинокий худой чудак, а его собрание сочинений – самый тонкий и точный документ эпохи.
Собранные под одно обложкой рисунки Хармса – необходимое дополнение к хронологии его жизни и его чувств. Более ста пятидесяти работ – от планов комнат и квартир до портретов, от крошечных заметок на полях до «каракулей», - все это дополняет образ человека, без которого отечественная литература была бы другой. И, вполне возможно, сам окружающий мир был бы другим. Каким-то непостижимым образом этот смешной человек смог зафиксировать время, людей, саму счастливую и болезненную атмосферу тех лет, в которые ему довелось жить. Рисунки – просто маленькая, но совершенно необходимая часть того мира.
Жизнь на грани
«Трикстер, Гермес, Джокер», Джим Додж
Потерявшая родителей юная красавица Эннели рожает мальчика от одного из нескольких неизвестных партнеров, каждого из которых она любила. Бежав из приюта вместе с ребенком, она попадает под покровительство таинственной организации АМО, объединяющей великих алхимиков, мудрых торговцев наркотиками, карточных шулеров и прочих людей с большой дороги. Влюбившись в одного из них, одержимого идеей похищения плутония и наставления мир на путь истинный, Эннели, готовая на все ради любви, обрекает своего сына на долгие годы обучения у лучших учителей АМО, магов и отступников, и такие приключения (как физические, в прямом смысле слова, так и подсознательные), что предсказать дальнейший ход событий невозможно…
Американский писатель Джим Додж, автор крошечной повести «Какша», похожей на сюрреалистический вестерн, и дорожного романа «Не сбавляй обороты», больше всего похож на битников шестидесятых. Однако он, если можно так выразиться, битник нового поколения. Позаимствовав у классиков битнической литературы романтику дороги, ведущей к недостижимому счастью, он все равно творит нечто совершенно свое. Битники, в сущности, писали об одиночестве – одиночество Доджа слишком громкое и многолюдное. В романе «Трикстер, Гермес и Джокер» страсти бьют через край: если небо – то синее до рези в глазах, если красота – то такая, что сводит в паху, если любовь – то на разрыв аорты. К тому же, Доджу не знакома меланхолия – он наполняет свой роман таким густым текстом, что сюжетов хватило бы на дюжину толстых книг. Додж постоянно обманывает читателя, то подсовывая ему ложную сюжетную линию, то предлагая неправильный ответ на заданный вопрос, порой – едва ли не о смысле жизни. Додж тасует героев, и до ошарашивающего финала читатель так и не понимает, кто же в книге главный герой, за кем следить. Разгадка проста – следить надо за всеми, потому что каждый персонаж романа, словно в мозаике, является частью общей картины мира, гранью алмаза – того Алмаза, который им всем предстоит похитить, чтобы заглянуть за пределы реальности.
Детектив, фантастика, пронзительная история любви, иногда – бэд трип и, от первой до последней страницы, захватывающее и не отпускающее чтение. В мире героев Доджа хочется жить, любить красавицу Эннели и вместе с ее сыном учиться менять облик, играть в карты, чинить корабли и исчезать. Додж описывает настоящую жизнь – ту, которая существует только в самых хороших книгах.
Взгляд через видоискатель
«Воображаемая реальность», Анри Картье-Брессон

«Я всегда питал страсть не к фотографии как таковой, но к возможности самозабвенно, в долю секунды, зафиксировать явленную в сюжете эмоцию и красоту формы, иными словами, пробужденную ими геометрию. Фотографирование – это мой альбом для эскизов», - пишет в своих воспоминаниях знаменитый фотограф Анри Картье-Брессон. Сборник, о котором идет речь, тоже набор эскизов, набросков, которые, однако, складываются в единую картину. Здесь нет каких-то слишком уж серьезных советов начинающим (и продолжающим) фотографам – Картье-Брессон не собирается учить тех, кто хочет фотографировать. Здесь собраны мимолетные, но точные наблюдения за временем и за людьми. Андре Бретон здесь соседствует с Фиделем Кастро, а история знаменитой фотографии Че Гевары – с рассуждениями о положении искусства фотографии среди других видов изобразительного искусства: «Спор о положении и месте, которое должно быть отведено фотографии в ряду пластических искусств, никогда не занимал меня, поскольку проблема иерархии всегда представлялась мне чисто академической». Здесь есть короткие, но увлекательные заметки о Жане Ренуаре, воспоминания о путешествии в Китай и на Кубу, впечатления о поездке в Москву. Маленькая книжка, в которой не слишком много букв и еще меньше иллюстраций, наполнена эмоциями – тем, что является одним из самых важных составляющих, собственно, творчества.
«Анри Картье-Брессон» путешествовал повсюду налегке», - так начинается предисловие к этой книге, и это многое объясняет. В том числе, и легкость, с которой написана эта книжка – сборник эссе и воспоминаний великого фотохудожника, всю жизнь снимавшего камерой «лейкой» и оставившего такой глубины след в развитии современной фотографии, что его, след, трудно переоценить. И, спасибо издательству, легкость книжной верстки, когда на каждой странице есть то, что называется «воздухом» - именно так и следовало издавать эти воспоминания человека, который наблюдал за историей ХХ века через видоискатель фотоаппарата.
Дневник поэта
Дмитрий Воденников. «Здравствуйте, я пришел с вами попрощаться»
Отечественные издательства давно освоили (и даже уже успели подзабыть) путь получения новых книг – издание сетевых дневников более или менее известных пользователей всемирной паутины. Но, если говорить о книге поэта Воденникова, это, кажется, уникальный случай, когда сетевой дневник, напечатанный на бумаге едва ли не целиком, является не сборником баек, но цельным литературным произведением. Пусть без сюжета, записи ДВ объединены общим замыслом, общей темой – темой одиночества человека на земле, в окружении таких же, как он сам, одиноких людей.
Как и в стихах, в дневниковых записях ДВ пишет о себе – о своих страхах, о своем одиночестве, о своей любви. Он, как и все, боится смерти, но, что важно, не скрывает этого, а словно выставляет на всеобщее обозрение. Как и рифмованные строки, его проза по степени оголенности чувств сродни эксгибиционизму – Воденников выворачивает наизнанку собственную душу, не боясь казаться смешным, юродивым, сумасшедшим. Он выпускает на читателя всех своих демонов. Демоны, впрочем, оказываются не страшными – во всех нас живут такие же, просто мы, по каким-то, иногда нелепым причинам не хотим признаться в этом, в том числе и самим себе. Воденников не боится, и, может быть, от того его читатели настолько яростно делятся на друзей и врагов.
При этом Воденников не замыкается в башне, сложенной из всех этих переживаний и рефлексий. Он позволяет себе и актуальные высказывания, сдобренные порой довольно едким юмором: «Мне вдруг пришло в голову, что человек, который не может читать настоящие современные стихи, это человек, который опоздал в будущее ровно настолько, насколько он ограничил себя сам… Если его высшая планка заканчивается Ахматовой (допустим), то он опоздал в будущее примерно лет на 40, если, положим, Пушкиным и Державиным – то на целых два века. Если Дементьевым – то он опоздал туда навсегда…».
В следующем году в Мариенбаде
«Побег куманики», Лена Элтанг
 Я недавно писал о втором романе
Лены Элтанг, а теперь вот – о первом.
Я недавно писал о втором романе
Лены Элтанг, а теперь вот – о первом.
Короче, известная история – после премьеры фильма «В прошлом году в Мариенбаде» у режиссера Алена Рене и сценариста Алена Роб-Грийе спросили, встречались ли главные герои в прошлом году в Мариенбаде. И Рене якобы сказал – да, а Роб-Грийе якобы сказал – нет. Или наоборот, не столь важно.
Лена Элтанг тоже задает каверзные вопросы – например, был ли главный герой романа «Побег куманики» Морас на Мальте. А кто его знает, этого мальчика, живущего в сети. Да и это, по большому счету, не столь важно.
Ленин роман состоит из писем, записок, дневниковых записей и комментариев, причем автор комментариев – один из основных персонажей романа. Роман написан таким плотным текстом, что сквозь него приходится пробираться медленно, обеими руками раздвигая спутавшиеся ветви литературных аллюзий и исторических ассоциаций, слов и предложений на разных языках, красивых имен и описаний существующих в воображении городов. В этом романе за детективной интригой с убийствами и самоубийствами, за мистическими подробностями раскопок таинственных артефактов, за воспоминаниями о жизни, которой не было, и о других жизнях, которые были, за всем этим скрывается история человека, потерявшегося среди людей в поисках любви. «Побег куманики» – это воображаемый мир с воображаемыми людьми, которые верят в настоящее, совершенно реальное чудо.
«Из мешка на пол рассыпались вещи / И я думаю, что мир – это только усмешка, / Что теплится на устах повешенного», – когда-то написал примерно о том же Велимир Хлебников. Но это так, к слову.
Будьте счастливы!
«Вечная эйфория», Паскаль Брюкнер
 «Будьте счастливы! Есть ли
предписание более парадоксальное, более ужасное, при всей своей кажущейся
доброжелательности? Трудно выполнить столь беспредметный наказ. Ибо как узнать,
счастлив ты или нет? Кто определяет нормы? Почему непременно, обязательно нужно
быть счастливым? И как быть с теми, кто сокрушенно признается: у меня не
получается?» - вопрошает на первых станицах своего «эссе о принудительном счастье»
Паскаль Брюкнер. И дальше, на протяжении более чем двухсот страниц, исследует
человеческое стремление к счастью – от раннего христианства, через
Средневековье и Возрождение, к сегодняшнему дню, когда супермаркет заменил мир,
а связь посредством Cети - живое общение. Он ссылается на мыслителей
разных эпох и наций, подтверждая свои слова или, наоборот, вступая в спор с
собственными выводами. И утверждает, что на протяжении веков человечеством
владеет культ счастья и успеха, и этот культ, говоря простым языком, мешает
жить.
«Будьте счастливы! Есть ли
предписание более парадоксальное, более ужасное, при всей своей кажущейся
доброжелательности? Трудно выполнить столь беспредметный наказ. Ибо как узнать,
счастлив ты или нет? Кто определяет нормы? Почему непременно, обязательно нужно
быть счастливым? И как быть с теми, кто сокрушенно признается: у меня не
получается?» - вопрошает на первых станицах своего «эссе о принудительном счастье»
Паскаль Брюкнер. И дальше, на протяжении более чем двухсот страниц, исследует
человеческое стремление к счастью – от раннего христианства, через
Средневековье и Возрождение, к сегодняшнему дню, когда супермаркет заменил мир,
а связь посредством Cети - живое общение. Он ссылается на мыслителей
разных эпох и наций, подтверждая свои слова или, наоборот, вступая в спор с
собственными выводами. И утверждает, что на протяжении веков человечеством
владеет культ счастья и успеха, и этот культ, говоря простым языком, мешает
жить.
Автор литературного первоисточника фильма Романа Поланского «Горькая Луна» и мизантропических романов «Божественное дитя», «Похитители красоты» и других, в «Вечной эйфории» Брюкнер выступает как исследователь человеческих страстей и устремлений. И, сохраняя не слишком уважительное отношение к человечеству как таковому, он, неожиданно, выступает адвокатом жизни двуногих прямоходящих существ, населяющих планету Земля. Убежденный атеист, но не богохульник, знающий историю и литературу, Брюкнер, к тому же, еще и тонкий психолог, отменно понимающий сильные и слабые стороны человека, но не идущий на поводу у общественного мнения. Тем интереснее его суждения о том, к чему мы, собственно говоря, все стремимся.
От времени стихи не убывают
«Чайник Вина», Алексей Хвостенко, Анри Волохонский
 Когда в конце ноября 2004 года
умер Алексей Хвостенко, мой друг в своем блоге поместил фотографию с концерта:
темная сцена, пустые стулья (музыканты уже ушли), а сам Хвост, чуть
сгорбившись, спиной к нам, зрителям, опираясь рукой на спинку стула, медленно уходит за кулисы. Кто мог подумать, что он уходит навсегда…
Редкие концерты, редкие пластинки, хриплый голос. А ведь с каждым годом он все
реже попадал в ноты, а музыкантам доставляло особое удовольствие, когда они
угадывали момент, в который Хвост произносил ту или иную строчку песни.
Когда в конце ноября 2004 года
умер Алексей Хвостенко, мой друг в своем блоге поместил фотографию с концерта:
темная сцена, пустые стулья (музыканты уже ушли), а сам Хвост, чуть
сгорбившись, спиной к нам, зрителям, опираясь рукой на спинку стула, медленно уходит за кулисы. Кто мог подумать, что он уходит навсегда…
Редкие концерты, редкие пластинки, хриплый голос. А ведь с каждым годом он все
реже попадал в ноты, а музыкантам доставляло особое удовольствие, когда они
угадывали момент, в который Хвост произносил ту или иную строчку песни.
Теперь едва ли не все песни творческого тандема А.Х.В. (Алексей Хвостенко, Анри Волохонский) изданы отдельной книгой – всего тысяча экземпляров, часть – в твердой обложке, часть – в мягкой, с нотами и небольшими комментариями к каждой песне. Уникальное издание – кажется, впервые тексты двух очень важных для российской культуры второй половины ХХ века людей изданы в таком объеме, с комментариями и «нотным подстрочником».
На обложке – портрет: Волохонский и Хвостенко словно средневековые менестрели. И все правильно – свои стихи они писали, опираясь не столько на творчество близких им по духу футуристов или обэриутов, сколько, как ни странно, на средневековую поэзию. И музыку подбирали соответствующую.
В книге есть как тексты, написанные отдельно Волохонским, так и те, что написаны Хвостенко. Есть и те, которые были написаны в соавторстве (впрочем, как сейчас, спустя сорок лет, вспомнить, какие тексты кем именно были написаны?). Например, вот: «Мои стихи не убивает время / Мои стихи не убивают время / Да, времена стихи не убивают / И никогда стихи не убивают… От времени стихи не убывают / И времена они не убивают / Они ступая медленной стопою / Идут идут прозрачною стопою…»Из жизни карликов
Гарольд Пинтер, «Карлики»
 Лен, Марк и Пит – три приятеля,
которые живут в Лондоне и ведут бесконечные разговоры, на первый взгляд – ни о
чем. Лен – философ, Марк – актер, Пит – вообще странный человек, постоянно
выясняющий отношения со своей девушкой Вирджинией. Впрочем, Вирджинию связывают
какие-то (поначалу – не очень понятные) отношения и с остальными друзьями. И
вот еще что – воспаленное воображение Лена рождает чудовищ, а именно –
карликов, пожирателей падали, которые преследуют его по страницам романа…
Лен, Марк и Пит – три приятеля,
которые живут в Лондоне и ведут бесконечные разговоры, на первый взгляд – ни о
чем. Лен – философ, Марк – актер, Пит – вообще странный человек, постоянно
выясняющий отношения со своей девушкой Вирджинией. Впрочем, Вирджинию связывают
какие-то (поначалу – не очень понятные) отношения и с остальными друзьями. И
вот еще что – воспаленное воображение Лена рождает чудовищ, а именно –
карликов, пожирателей падали, которые преследуют его по страницам романа…
Лауреат Нобелевской премии по литературе, великий британский драматург, один из столпов «театра парадокса», Гарольд Пинтер написал этот роман в начал 1950-х годов, еще до своих знаменитых пьес, перевернувших само понятие драматургии. Потом он еще два раза обращался к этим самым «Карликам». Сначала, в 1960 году, переделал роман в пьесу. Потом, спустя тридцать лет, сократил сам роман и, переписав отдельные его эпизоды, подготовил к публикации. Именно по эту, переработанную версию, я и пишу.
Пинтеровские «Карлики» - многословный, непонятный и бессюжетный роман о дружбе, одиночестве и предательстве. Тот, кто сможет продраться сквозь бесконечную демагогию трех главных героев книги, кто сумеет вычленить из нескончаемых псевдоинтеллектуальных рассуждений редкие намеки на характеры персонажей, тот к финалу даже сможет в нескольких словах пересказать, о чем же Пинтер написал свою книгу. А в конце, после всевозможных предательств и ссор, на последних страницах романа герои, чьи монологи на протяжении всей книги становились все длиннее и запутаннее, разразятся злыми, яростными монологами, чтобы высказать друг другу то, что сами пытались сформулировать. И именно в этих, последних репликах Пинтер и зашифрует свое послание, ради которого придумал и трех героев, и завладевшую их умами девушку Вирджинию, и чудовищных вездесущих карликов. А когда исчезнут и сами карлики, станет совсем страшно.
Кровь, пот и слезы
Жан Эшноз, "14-й"
 Странно называть эту книгу романом – наверное, это все-таки
повесть, но я слаб в определениях. Это просто маленькая книжка, в которой
французский писатель, обладатель Гонкуровской и еще ряда других премий, Жан
Эшноз умудрился сосредоточить все ужасы, которые присущи войне. При этом
удивительным образом избежав натурализма и физиологии.
Странно называть эту книгу романом – наверное, это все-таки
повесть, но я слаб в определениях. Это просто маленькая книжка, в которой
французский писатель, обладатель Гонкуровской и еще ряда других премий, Жан
Эшноз умудрился сосредоточить все ужасы, которые присущи войне. При этом
удивительным образом избежав натурализма и физиологии.
Юный француз и его друзья отправляются на войну. Начало ХХ века, мир не помнит мировых войн, так что – что может быть лучше? Мобилизация похожа на праздник, впереди – героические будни и вся жизнь. Но очень быстро (напоминаю, книжка маленькая – ничего лишнего) становится понятно, что война – это не праздник героизма, а только кровь, пот и слезы. Те, кто читал этот роман (ну, да, пусть будет роман), запоминают, например, эпизод, в котором описывается, что после того, как ты всадил во врага штык, нужно выстрелить, чтобы с отдачей легче было вынуть штык из уже мертвого тела. На войне как на войне. Ну, и так далее.
Военный концентрат, приготовленный Эшнозом, сейчас крайне актуален. Хочется сказать, что мы составляем несколько поколений, не знавших войны, но все никак не получается – история страны, в которой нам довелось жить, не может доставить такого удовольствия. Да, большинство из нас не видело войны своими глазами, но не могло не слышать о ней – не о той, далекой, которую сейчас в очередной раз усиленно пытаются отлакировать, а о другой, близкой, которая происходит, к нашему (надеюсь) общему стыду, сейчас. По Эшнозу, война – это такое состояние, в котором почти совсем нет ничего человеческого. И за сто лет, прошедших с начала Первой мировой войны, о которой, собственно, и идет речь в романе Жана Эшноза «14-й», ничего не изменилось.
Нет войне!Музей Чапаева
«Ни дня без строчки», Юрий Олеша
В воспоминаниях (любых
воспоминаниях) меня поражает соприкосновение с чем-то, что лично для меня не
совсем принадлежит к реальности. Примерно такое чувство было у меня в
доме-музее Чапаева в Чебоксарах. Ну, то есть, представить себе дом-музей
Тургенева я могу, а Чапаев – это же как бы легенда, герой анекдотов, человек из
фильма братьев Васильевых, «а ну-ка тише, Чапай думать будет!».
Перечитывая Юрия Олешу, «Ни дня без строчки», испытывал те же чувства. Вот, например:
«Я знал интеллигентного матроса,
который, говоря со мной о коммунизме, привлек в качестве метафоры синюю птицу
счастья из Метерлинка, - Анатолия Железнякова, того самого матроса, которому
был поручен разгон (так сказать, техническое его исполнение) Учредительного
собрания. Он, как известно, подошел вдруг к председательствовавшему Чернову и
сказал:
- Пора вам разойтись. Караул хочет спать.
Караул был из матросов.
Он был очень красивый человек, Железняков, светлой
масти, утонченный, я бы сказал - в полете. Он был убит на Дону в битве с
Деникиным - убит в то время, когда, высунувшись из бойницы бронепоезда, стрелял
из двух револьверов одновременно. Так он и повис на раме этой амбразуры, головой
вниз и вытянув руки по борту бронепоезда, руки с выпадающими из них
револьверами. Это мне рассказывал очевидец…»
Или вообще что-то невероятное – Олеша помнит мятеж на броненосце «Потемкин»:
«Я был сыном акцизного
чиновника, и семья наша была мелкобуржуазная, так что мятеж броненосца
"Потемкина" воспринимался мною, как некий чудовищный по ужасу акт. И,
когда броненосец "Потемкин" подошел к Одессе и стал на ее рейде, все
в семье, в том числе и я, были охвачены страхом.
- Он разнесет Одессу, - говорил папа.
"Потемкин" для нашей семьи -
взбунтовавшийся броненосец, против царя, и хоть мы поляки, но мы за царя,
который в конце концов даст Польше автономию. Употреблялось также фигуральное
выражение о неоставлении камня на камне, которое действовало на меня особенно,
потому что легко было себе представить, как камень не остается на камне, падает
с него и лежит рядом.
Я не помню, как он появился у берегов Одессы, как
он подошел к ней и стал на рейд. Я его увидел с бульвара - он стоял вдали,
белый, изящный, с несколько длинными трубами, как все тогдашние военные
корабли. Море было синее, летнее, белизна броненосца была молочная, он издали
казался маленьким, как будто не приплывший, а поставленный на синюю плоскость.
Это было летом, я смотрел с бульвара, где стоит памятник Пушкину, где цвели в
ту пору красные цветы африканской канны на клумбах, шипевших под струями
поливальщиков…
То, что происходило в городе, называлось
беспорядками. Слова "революция" не было…
Поразительно: ведь я слышал выстрелы
"Потемкина"! Их было два, из мощных морских девятидюймовок. Один
снаряд попал в угол дома на Нежинской, другой - я не запомнил чуда. Изображение
этого поврежденного угла дома я потом видел на фотографии в "Ниве".
Оба выстрела пронеслись над моей головой - два
гула, заставившие меня пригнуть голову. До этого я никогда не слышал орудийного
выстрела. Мне показалось, что над моей головой летит что-то длинное, начавшееся
очень далеко и не собирающееся окончиться. Подумать, что в тот момент, когда я
переживал недоумение, ужас, где-то на залитой солнцем палубе стояли комендоры с
усиками, заглядывали в артиллерийские приборы, спорили среди развевающихся
лент, шутили... Я нес кулек с вишнями в ту минуту. Меня послали за вишнями, и
вот я возвращался по лестнице черного хода…
Убитый матрос лежит в порту. Это грозит нам
бедствиями. Это было жарким летом, когда цвели каштаны и продавались вишни. И
меня послали за вишнями как раз в тот час, когда "Потемкин" дважды
выстрелил по городу. Он не хотел стрелять по городу, он метил в городской театр,
где заседал военный совет под председательством генерала Каульбарса, но
промахнулся, и оба выстрела пришлись по городу…»
Что для нас – легенда, фольклор, для кого-то – детские воспоминания.
О культуре, внутренней и не только
Альманах "Метрополь"
 Пару лет назад я был на встрече с Евгением Поповым, который
рассказывал про альманах «Метрополь». А тут вдруг узнал, что многие, кто младше
меня, этого альманаха не читали, а некоторые даже не слышали о его
существовании. Так что вот вам текст про ту самую встречу с Евгением Поповым.
Пару лет назад я был на встрече с Евгением Поповым, который
рассказывал про альманах «Метрополь». А тут вдруг узнал, что многие, кто младше
меня, этого альманаха не читали, а некоторые даже не слышали о его
существовании. Так что вот вам текст про ту самую встречу с Евгением Поповым.
***
Евгений Попов рассказывал: «Сидит писатель такой-то [забыл его фамилию], рассматривает список только что принятой в Союз писателей молодежи. И говорит: “Ужас, напринимали одних евреев”. Рядом сидит Сергей Михалков, который как настоящий интернационалист сразу вступается: “А что вы имеете против? Вон, некоторые русские похуже евреев будут”. “Это вы кого имеете в виду?” – интересуется тот писатель. “Да вон, Попов с Ерофеевым”, – отвечает Михалков…»
Попов пробыл в Союзе писателей рекордно короткий срок, достойный книги рекордов Гиннеса – если я не ошибаюсь, 7 месяцев и 13 дней. Еще бы, насколько я понимаю, примерно в это время он в очень достойной компании как раз работал над альманахом «Метрополь» – вскоре ставшем легендой литературным сборником, объединившим под одной обложкой кучу разных крутых людей, от официальных Андрея Вознесенского и Беллы Ахмадулиной, через Фазиля Искандера и Андрея Битова, и до Владимира Высоцкого, Юза Алешковского и Фридриха Горенштейна. В тот вечер, о котором идет речь, в Сахаровском центре показывали оригинальный экземпляр (один из двенадцати) «Метрополя» – я как-то никогда не задумывался, что он был не просто самиздатом, а, я бы сказал, произведением искусства – формат А3, то есть такие большие листы ватмана, на каждый из которых наклеивались стандартные машинописные листы А4, четыре штуки с одной стороны и четыре с другой. Оформлением, между прочим, занимались не кто-нибудь, а Борис Мессерер и Давид Боровский. Попов рассказывал, что листы клеили у него на квартире все, кто приходил – работы там было выше крыши. То есть вот, буквально, зашел Высоцкий в гости и, пока сидел, сколько-то там и наклеил. Подборку Высоцкого, кстати, делал как раз Попов. Высоцкий ею очень гордился, потому что это была едва ли не первая его публикация, до того у него, по словам Попова, печаталась, кажется, всего пара текстов. Приходили, значит, авторы, клеили и вычитывали. Высоцкий, например, нашел в своей подборке чужое стихотворение – оно в списках ходило, а его не он написал, а Игорь Кохановский («Бабье лето», естественно). Или вот, например, Евгений Рейн. Пришел, начал вычитывать и сказал, что не может в стихотворении упоминать в ернической форме такое-то издательство, потому что это – единственное место, где ему дают хоть какую-то работу. Попов ему предложил упоминать другое, сочинил четверостишие. «Получилось хуже», - сказал поэт Рейн. «А ты хочешь, чтобы у меня получилось лучше, чем у тебя?» - усмехнулся прозаик Попов...
Ну, и так далее в течение двух часов. Попов – шикарный рассказчик, его в прямом смысле можно слушать бесконечно. А я вдруг задумался вот о чем. Впервые прочитал этот альманах в начале 1990-х, когда он был издан официально (я вообще в силу возраста был знаком с самиздатом только понаслышке, у нас дома на моей памяти был, кажется, только один экземпляр чего-то самиздатовского – «Конь бледный» Бориса Савинкова, хотя могу ошибаться), потом еще что-то оттуда перечитывал, а многие писатели из этого тома на долгое время стали для меня любимыми. Прошло уже, в общем-то, много времени даже с момента официального издания, а уж с момента появления тех легендарных двенадцати экземпляров – вообще! Однако же это все было совсем недавно - вот, пожалуйста, сидит Евгений Попов и рассказывает. И мы, в общем, так или иначе, современники этого всего. Почему-то меня все это ужасно трогает.
Да, а еще в тот вечер говорили, что изменения общественного порядка и политического строя во многом зависят от культуры. Не от внутренней (хотя от нее-то как раз вообще все зависит), а именно вот от этой самой культуры – книжки, там, музыка, кино. Когда культура становится свободной, неподцензурной, тогда появляется надежда. И это, мне кажется, очень важная штука. И очень актуальная.Сердце не бьётся в домах...
"Стихотворения 1942-1944 гг.", Геннадий Гор
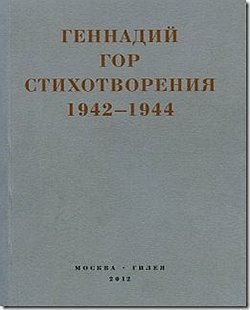 Я уже писал как-то про одну книгу издательства «Гилея», так
вот вам еще одна: Геннадий Гор, стихотворения 1942-1944 годов. Снова, как и
всегда, мизерный тираж и очень крутые комментарии. Книга еще есть в продаже, но
о ней мало кто знает, и будет обидно, если она пройдет мимо вас.
Я уже писал как-то про одну книгу издательства «Гилея», так
вот вам еще одна: Геннадий Гор, стихотворения 1942-1944 годов. Снова, как и
всегда, мизерный тираж и очень крутые комментарии. Книга еще есть в продаже, но
о ней мало кто знает, и будет обидно, если она пройдет мимо вас.
Геннадий Гор – человек, благодаря которому до нас дошли многие стихи Хармса и вообще обэриутов, – провел в Ленинграде первую, самую страшную блокадную зиму. Книжку, о которой идет речь, в основном составили стихи этого периода и еще несколько более поздних. Я не большой специалист в том, что касается поэзии, но меня эти тексты как-то прямо перевернули. Есть очень страшные стихи:
Сердце не бьётся в
домах,
В корзине ребёнок застывший.
И конь храпит на стене,
И дятел ненужный стучится,
Стучит, и стучит, и долбит,
Долбит, и стучит, и трясётся.
Иголка вопьётся, и мышь свои зубы вонзит,
Но крови не будет. И примус, и книги, и лампа,
И папа с улыбкой печальной,
И мама на мокром полу,
И тётка с рукою прощальной
Застыло уныло, примёрзло как палка
К дровам. И дрова не нужны.
Но лето в закрытые окна придёт
И солнце затеплит в квартире.
И конь улыбнётся недужный
И дятел ненужный,
На папе улыбка сгниёт.
Мышь убежит под диван
И мама растает, и тётка проснётся
В могиле с рукою прощальной
В квартире, в могиле у нас.
Да они, в общем-то, все страшные – какими же они еще могут быть?
Лось забежавший с испуга во двор,
Иль девушка пришедшая к речке топиться,
Иль девичье сердце, а в сердце вонзился топор.
Заплакать по-девичьи, горя напиться
Или как лось, увидя людей задрожать.
Или вот еще:
Крик зайца и всё.
То не заяц, то режут ребёнка в лесу.
И сердце раскрытое криком
От жалости сжалось.
Я специально короткие тексты выбираю, там есть и длиннее, естественно. Но – вот еще один совсем короткий:
Я девушку съел хохотунью Ревеку
И ворон глядел на обед мой ужасный.
И ворон глядел на меня как на скуку
Как медленно ел человек человека
И ворон глядел но напрасно,
Не бросил ему я Ревеккину руку.
Не знаю, что еще сказать.
Драматургия жизни
Нина Луговская, «Хочу жить! Дневник советской школьницы»
«Хочу жить! Дневник советской школьницы» Нины Луговской – настоящий дневник настоящей школьницы, которую – девочку-подростка – в 1937 году посадили за антисоветскую пропаганду и, во что сложно поверить, подготовку покушения на Сталина. А именно, ее дневник до тюрьмы. И от этого дневника совершенно невозможно оторваться: с одной стороны – девочка, которая считает себя некрасивой, страдает из-за этого, а так же из-за того, что влюблена в мальчика, потом в другого мальчика, потом в третьего, потом опять в первого и еще во второго, и все никак не может выбрать, то есть перед нами настоящий дневник подростка в самый сложный его период, когда все раздражает и никто не любит; с другой стороны – кропотливо созданный портрет времени, потому что Луговская очень подробно описывает быт, школу, взаимоотношения. При этом интересна ее совершенно нескрываемая ненависть к советской власти. Ее папа - видный деятель партии левых эсеров, так что нелюбовь к большевикам у всей семьи, видно, от него. И еще очень интересно, на что обращал внимание следователь – дневники сохранились в архивах НКВД, и то, что подчеркивал следователь, эти дневники изучавший, подчеркнуто и в книге. Так вот, следователь, который явно очень старательно изучал дневник 15-летней девочки, обращал внимание не только на откровенную и ничем не прикрытую антисоветчину, но и на депрессивные строки – о самоубийстве, например: в Стране Советов думать о таком было нельзя. К тому же, дневник Луговской очень круто выстроен драматургически – собственно, как и сама жизнь. И финал – запись от 3 января 1937 года. То есть, начался тот самый год, и – все.
И еще меня поразил какой-то животный, глубинный антисемитизм Нины. В конце книги приведены письма отца дочерям, и в них он, в том числе, пишет и о своем негативном отношении к евреям, так что все понятно. Но драматургия жизни – удивительная штука: после лагеря Нина вышла замуж за еврея. По любви.На войне как на войне
Сборник «Имена на поверке»
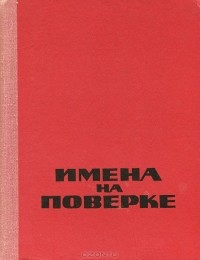
–
Довольно!.. –
На стыке заснеженных улиц
Горел подожженный рассветом сугроб.
И легкие,
Будто бумажные крылья,
И яркие,
Будто агитплакат,
К востоку от вдаль уползающей ночи
Летели раскрашенные облака.
Москва просыпалась обычно и просто.
А в мутных витринах,
Грозны и крепки,
Вставали дежурными “Окнами РОСТА”
Стихов,
Рядовых и бессмертных,
Полки.
Это из стихотворения «Поэт» Александра Артемова –
авторы в сборнике «Имена на поверке» расположены в алфавитном порядке, так что
именно с Артемова книжка и начинается. У этих авторов, таких разных, есть одна
общая черта – все они погибли во время Великой Отечественной войны, и всем им
было примерно от двадцати до двадцати пяти лет. И еще одна общая черта – мало
кто из них публиковался при жизни, то есть до войны.
Так совпало, что я снял с полки сборник «Имена на
поверке» в 20-х числах июня, мне часто везет на такие совпадения. Ну и, в
общем, там много прекрасных и совершенно неожиданных текстов. Например,
тексты Всеволода Багрицкого. Про Багрицкого, к слову, известно многое. Вот что я вычитал: сын
поэта Эдуарда Багрицкого, в первом издании книги «Имена на поверке», кажется,
1963 года (моя книжка – 1966-го) под его именем было напечатано чуть
переписанное стихотворение Осипа Мандельштама «Щегол» - кажется, Всеволод
Багрицкий переписал и выдавал его за свое еще в конце 1930-х. После письма
Надежды Мандельштам с публичным опровержением авторства своего сына выступила
мать Всеволода. Но в сборнике, вышедшем в конце 1970-х, эта ошибка снова была
повторена. Всеволод Багрицкий погиб в феврале 1942 года в Ленинградской
области, ему было двадцать лет. Вот его текст, помеченный «Фронт, 1942 г.»:
Над головой раскаленный свист,
По мягкому снегу ползет связист.
Хрипнул и замолчал телефон.
Сжала трубку ладонь.
Артиллерийский дивизион
Не может вести огонь.
Замолкли тяжелые батареи.
В путь уходит связист Андреев.
Над головой раскаленный свист –
Не приподнять головы.
По мягкому снегу ползет связист
Через овраги и рвы.
Тонкою черной полосой
Провод ведет связист за собой.
Дорог каждый потерянный час,
Каждые пять минут.
И дважды прострелен противогаз,
И воздух шрапнели рвут.
Но вот на краю глухого обрыва
Андреев находит место обрыва,
Замерзшие пальцы скрепляют медь.
А солнце бредет на запад,
И медленно начинает темнеть,
И можно идти назад.
Или вот, например, Борис Богатков – личный
стипендиат Алексея Николаевича Толстого. Он начал писать в конце 1930-х, потом
добровольцем ушел на фронт, после контузии его демобилизовали, но он снова ушел
на фронт, несмотря на запреты врачей. В возрасте 21 года Богатков погиб в 1943
году, песней поднимая свой взвод в атаку. Вот его текст, датированный 30
декабря 1942 года:
У эшелона обнимемся.
Искренняя и большая
Солнечные глаза твои
Вдруг затуманит грусть.
До ноготков любимые,
Знакомые руки сжимая,
Повторю на прощанье:
«Милая, я вернусь,
Я должен вернуться, но если…
Если случится такое,
Что не видать мне больше
Суровой родной страны, -
Одна к тебе просьба, подруга:
Сердце свое простое
Отдай ты честному парню,
Вернувшемуся с войны».
Самый известный из представленных в книжке авторов
– Павел Коган, участник поэтических семинаров Ильи Сельвинского и соавтор песни
«Бригантина» («Надоело говорить и спорить, / И любить усталые глаза… / В
флибустьерском дальнем море / Бригантина поднимает паруса…»). Павел Коган был
убит под Новороссийском в конце сентября 1942 года, ему было 24 года. Мало
найдется людей, которые не знают его фразы «Я с детства не любил овал, / Я с
детства угол рисовал», но читали ли вы когда-нибудь стихотворение «Гроза» (1936 г.) целиком? Вот оно:
Косым, стремительным углом
И ветром, режущим глаза,
Переломившейся ветлой
На землю падала гроза.
И, громом возвестив весну,
Она звенела по траве,
С размаху вышибая дверь
В стремительность и крутизну.
И вниз. К обрыву. Под уклон.
К воде. К беседке из надежд,
Где столько вымокло одежд,
Надежд и песен утекло.
Далеко, может быть, в края,
Где девушка живет моя.
Но, сосен мирные ряды
Высокой силой раскачав,
Вдруг задохнулась и в кусты
Упала выводком галчат.
И люди вышли из квартир,
Устало высохла трава.
И снова тишь.
И снова мир.
Как равнодушье, как овал.
Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал!
Еще один участник семинаров Илья Сельвинского,
Михаил Кульчицкий погиб в Луганской области в январе 1943 года, ему было 23
года. В 1939 году в Харькове вышла его первая (и последняя прижизненная) книжка
«Молодiсть». А вот его текст, кажется, 1940 года:
Высокохудожественной
строчкой не хромаете,
вы отображаете
удачно дач лесок.
А я - романтик.
Мой стих не зеркало -
но телескоп.
К кругосветному небу
нас мучит любовь:
боев
за коммуну
мы смолоду ищем.
За границей
в каждой нише
по нищему,
там небо в крестах самолетов -
кладбищем,
и земля все в крестах
пограничных столбов.
Я романтик -
не рома,
не мантий,-
не так.
Я романтик разнаипоследних атак!
Ведь недаром на карте,
командармом оставленной,
на еще разноцветной карте
за Таллином
пресс-папье покачивается, как танк.
Ну и, напоследок, Борис Смоленский – сын журналиста
Моисея Смоленского, пропавшего в 1937 году после ареста, переводчик Лорки и,
судя по всему, соавтор «Бригантины». Он погиб в самом начале войны, осенью 1941
года, ему было двадцать лет. Вот его небольшой текст 1939 года:
Я сегодня весь вечер буду,
Задыхаясь в табачном дыме,
Мучиться мыслями о каких-то людях,
Умерших очень молодыми,
Которые на заре или ночью
Неожиданно и неумело
Умирали, не дописав неровных строчек,
Не долюбив,
Не досказав,
Не доделав...
Простите, что так длинно – короче не получилось.
Писал – как писалось
Иван Чистяков, «Сибирской дальней стороной. Дневник охранника БАМа 1935-1936»

В
издательстве CORPUS вышла
невероятная книжка: Иван Чистяков, «Сибирской дальней стороной. Дневник
охранника БАМа 1935-1936». За этим названием скрывается потрясающая история,
уникальный документ, равных которому нет. Дело в том, что у колючей проволоки, как бы это сказать, было две
стороны. Люди, сидевшие с одной ее стороны, оставили после себя довольно много
воспоминаний, документов, дневников, свидетельств. Люди, оказавшиеся с другой
стороны этой колючей проволоки – ВОХР, то есть охрана, – не оставили после себя
ничего. Ну, может быть, только довлатовская «Зона», но это было сильно позже. А
тут – несколько тонких тетрадей, исписанных ровным почерком, 1935-1936 годы,
БАМ. Холод, голод, мрак. Мы же на самом деле ничего не знаем о том, что
происходило по эту сторону колючей проволоки – мы и ту сторону, к счастью,
все-таки с трудом можем себе представить, несмотря на многочисленные
свидетельства, а тут – ни-че-го. Тетрадки эти нашли и расшифровали прекрасные
люди из «Мемориала», а мы издали. И мне на самом деле кажется, что это – одна
из главных книжек года.
«Мысли что вихрь, мысли что листы книги —
перекладываются, накладываются одна на другую, комкаются, свертываются, что
бумага на огне. Сумбур и грусть, одиночество. Всего лишь двадцать дней назад я
был в Москве. Жил. Брал жизнь, а здесь? Здесь взять нечего. Высоты неба не
поймешь, и бесконечности сопок и пустоты не схватишь. За сопкой сопка, за
сопкой сопка и так на тысячи километров. Дико и непостижимо. Жизнь становится
ничтожной и ненужной. Москва! Москва! Как далека и недосягаема. Мороз.
Надеешься на то, что скоро кончат земляные работы моста и прочее. Перебросят
куда-нибудь. И в этом находишь утешение. Не сознавая и не учитывая того, что в
другом месте может быть хуже…»
Читая эту небольшую книжку, я сильнее всего
ужасался осознанию того, что особой разницы между двумя сторонами колючей
проволоки не было. «Помещение ВОХР. Топчаны, цветные одеяла, безграмотные
лозунги и кто в летней, кто в зимней гимнастерке, кто в своем пиджаке, кто в
ватнике, подпоясаны кто веревочкой, кто ремнем, кто брезентовым поясом. Курят,
лежа на постели. Двое схватились и, образовав клубок, катаются, один задрав
кверху ноги, смеется, смеется неистово, надрывно. Лежит и пилит на гармошке страдания.
Горланит: “Мы работы не боимся, а на работу не пойдем”». И дело даже не в
чудовищных бытовых условиях, которые невозможно вообразить, несмотря на обилие
очень точных подробностей, – дело в отсутствии свободы, что там, что здесь.
Каждый день зэки бегут – и каждый день вохра их ловит. Потому что бежать, по
сути, некуда, и об этом знают все. Вот эта безысходность, сознание того, что
«бежать некуда» - главное настроение дневника. «Наша жизнь что велосипед.
Крутишь педали, едешь и направляешь, но не всегда куда хочется. То грязь, то
яма, то острый камень. Того и гляди, проколешь шину. Кончил крутить — велосипед
набок…»
Вместе с тетрадками сохранился мутный любительский
снимок, на оборотной стороне которого есть надпись: «Чистяков Иван Петрович,
репрессирован в 1937-1938 гг. Погиб в 1941 году на фронте в Тульской области».
Больше об авторе дневника ничего не известно. «Не записал, а на другой день не
помнил ничего. Дни идут в бешеном темпе. Дни как спираль скручиваются, сокращая
свой бег к концу жизни. Но наша спираль в БАМе ржавая, может оборваться в любой
момент. Наша спираль корявая…»
Паровоз на подъём
Алексей Кручёных, «Мир затрещит, а голова моя уже изрядно...: Письма А. Шемшурину и М. Матюшину»
 Буквально пара слов. Вот жил такой человек, боялся мобилизации,
заботился о друзьях, много читал, пытался издавать свои книги мизерными
тиражами, причем не на свои деньги. Обсуждал какие-то дела с Малевичем,
анализировал новое произведение Маяковского «Облако в штанах», ждал вестей от все того же
Малевича. И, одновременно, в буквальном смысле, менял поэтический (да и не
только поэтический) язык. И рассуждал в письмах. Ну вот, например: «Мгновенным
написанием даётся полнота определённого чувства. Иначе труд, а не творчество,
много камней, а нет целого, пахнет потом и Брюсовым. У В. Хлебникова «Смехачи»
«Бобэоби» и мн<огие> др<угие> написаны отразу и потому они так
свежи. Достоевский рвал неудачно написанные романы и писал заново – достигалась
цельность формы. Как писать, так и читать надо мгновенно!..» Или о том же: «К
вопросу о моментальном письме: I. первое впечатление (исправляя 10 раз, мы его
теряем и, может, теряем поэтому всё). II. исправляя: обдумывая, шлифуя, мы
изгоняем из творчества случайность; к<ото>рая при моментальном
творчестве, конечно, занимает почтенное место. Изгоняя же случайность, мы
лишаем свои произведения самого ценного, ибо оставляем только то, что
пережёвано, основательно усвоено, а вся жизнь бессознательно идёт насмарку…» На
самом деле, там можно много цитировать, потому что едва ли не в половине писем,
между какими-то бытовыми подробностями и просьбами встречаются вдруг едкие,
тонкие, остроумные и лично мне очень интересные замечания и мысли. Ну и вот от
этого я просто пришел в полнейший восторг: «Собираюсь напис<ать> кратко о
“рус<ской> лит<ературе> и Апок<алипсисе>”…»
Буквально пара слов. Вот жил такой человек, боялся мобилизации,
заботился о друзьях, много читал, пытался издавать свои книги мизерными
тиражами, причем не на свои деньги. Обсуждал какие-то дела с Малевичем,
анализировал новое произведение Маяковского «Облако в штанах», ждал вестей от все того же
Малевича. И, одновременно, в буквальном смысле, менял поэтический (да и не
только поэтический) язык. И рассуждал в письмах. Ну вот, например: «Мгновенным
написанием даётся полнота определённого чувства. Иначе труд, а не творчество,
много камней, а нет целого, пахнет потом и Брюсовым. У В. Хлебникова «Смехачи»
«Бобэоби» и мн<огие> др<угие> написаны отразу и потому они так
свежи. Достоевский рвал неудачно написанные романы и писал заново – достигалась
цельность формы. Как писать, так и читать надо мгновенно!..» Или о том же: «К
вопросу о моментальном письме: I. первое впечатление (исправляя 10 раз, мы его
теряем и, может, теряем поэтому всё). II. исправляя: обдумывая, шлифуя, мы
изгоняем из творчества случайность; к<ото>рая при моментальном
творчестве, конечно, занимает почтенное место. Изгоняя же случайность, мы
лишаем свои произведения самого ценного, ибо оставляем только то, что
пережёвано, основательно усвоено, а вся жизнь бессознательно идёт насмарку…» На
самом деле, там можно много цитировать, потому что едва ли не в половине писем,
между какими-то бытовыми подробностями и просьбами встречаются вдруг едкие,
тонкие, остроумные и лично мне очень интересные замечания и мысли. Ну и вот от
этого я просто пришел в полнейший восторг: «Собираюсь напис<ать> кратко о
“рус<ской> лит<ературе> и Апок<алипсисе>”…»
И мой любимый текст из этой книжки, называется «Паровоз на подъём»:
Не сорвусь хоть сержусь
над пропастью
держусь
упираюсь пятами
ем песок
раздавливаю,
задыхаюсь
рычу…
Колёса свои забинтую
смеюсь над бедою
пред тучной горою
бурой!
графлено тифозное небо
и простыни снега
копчу
углём
гарью
отравляю,
морожу
распухшие ноги
синие рожи
ржу
и в кручу
на крестце
40 вагонов
фыркая
бережно
за буфера
волочу
по домам
С местечковым приветом
Михаил Каганович, «’А… Начало романа»
 Как-то я сел на Садовом кольце в разваливающиеся на
ходу «Жигули». Дело шло к двум ночи, и я даже не подозревал, что будет дальше.
С водителем — приятным мужиком лет пятидесяти с рыжей бородкой и в кепке, мы
сразу разговорились. Через пару минут разговора он начал шутить. «Знаете, вот
такая шутка у меня есть, из старого – целую в губки, далее везде, — пошутил он. — Или вот еще одна, например, тоже из старого — целую в губки, далее везде,
остановка по требованию», — и радостно засмеялся. Я вежливо ухмыльнулся в
ответ. И тут он сказал что-то на идише. «Вы знаете идиш?» - спросил я.
«Абиселе», — сказал он. «А это что?» — спросил я, указывая на четки с
крестиком, болтающиеся на зеркале заднего вида. «Я крещен в православие, —
привычно ответил он, — и это мне не мешает. Вот многие думают, что
евреи-выкресты были антисемитами, и этому есть много примеров. Карл Маркс — это
же чудовищный был антисемит, патологический! Или русский поэт Фет — впрочем, по
поводу его еврейства еще много вопросов, он же скрывал свое еврейство,
ненавидел евреев. С другой стороны, Гейне — приличный человек. Так что не
всегда выкрест был антисемитом. Знаете, мой отец, Царствие ему Небесное, тоже
крещеный, как-то бросил курить. И вот когда его спрашивали, можно ли при нем закурить,
он всегда отвечал — я из тех евреев, которые, покрестившись, не становятся
антисемитами. В смысле, курите, сколько хотите, если вы понимаете. Я, кстати,
тоже бросил…» А потом помолчал немного и добавил: «Я, между прочим, еврейский
писатель. У меня два романа вышли, их можно купить в «Библио-Глобусе» и
«Фаланстере». Если вам интересно, то лучше начинать с романа «На конной тяге»,
он попроще, а уже потом читать «Начало романа», если вдруг захотите. Меня зовут
Михаил Каганович». И тут как раз мы приехали.
Как-то я сел на Садовом кольце в разваливающиеся на
ходу «Жигули». Дело шло к двум ночи, и я даже не подозревал, что будет дальше.
С водителем — приятным мужиком лет пятидесяти с рыжей бородкой и в кепке, мы
сразу разговорились. Через пару минут разговора он начал шутить. «Знаете, вот
такая шутка у меня есть, из старого – целую в губки, далее везде, — пошутил он. — Или вот еще одна, например, тоже из старого — целую в губки, далее везде,
остановка по требованию», — и радостно засмеялся. Я вежливо ухмыльнулся в
ответ. И тут он сказал что-то на идише. «Вы знаете идиш?» - спросил я.
«Абиселе», — сказал он. «А это что?» — спросил я, указывая на четки с
крестиком, болтающиеся на зеркале заднего вида. «Я крещен в православие, —
привычно ответил он, — и это мне не мешает. Вот многие думают, что
евреи-выкресты были антисемитами, и этому есть много примеров. Карл Маркс — это
же чудовищный был антисемит, патологический! Или русский поэт Фет — впрочем, по
поводу его еврейства еще много вопросов, он же скрывал свое еврейство,
ненавидел евреев. С другой стороны, Гейне — приличный человек. Так что не
всегда выкрест был антисемитом. Знаете, мой отец, Царствие ему Небесное, тоже
крещеный, как-то бросил курить. И вот когда его спрашивали, можно ли при нем закурить,
он всегда отвечал — я из тех евреев, которые, покрестившись, не становятся
антисемитами. В смысле, курите, сколько хотите, если вы понимаете. Я, кстати,
тоже бросил…» А потом помолчал немного и добавил: «Я, между прочим, еврейский
писатель. У меня два романа вышли, их можно купить в «Библио-Глобусе» и
«Фаланстере». Если вам интересно, то лучше начинать с романа «На конной тяге»,
он попроще, а уже потом читать «Начало романа», если вдруг захотите. Меня зовут
Михаил Каганович». И тут как раз мы приехали.
Мне, в общем, стало интересно. Потому что, и вот тут начинаются два слова про
издательский бизнес в России (а, возможно, и в мире, я не знаю) — а если,
подумал я, меня за 200 рублей подвозил новый Бабель? То есть, вряд ли, конечно,
но ведь издал он книжку за свой счет мизерным тиражом, и хрен мы когда о ней
узнаем, потому что кому это надо. И я, в общем, пошел в «Фаланстер». Где книг
Михаила Кагановича не оказалось. А до «Библио-Глобуса» я не дошел. Потому что
через какое-то время нашел издательство, выпустившее книжки Кагановича (каждый
из двух романов – в количестве 650 экземпляров и с предисловием о том, что это — событие в отечественной литературе) и заказал оба романа на их сайте. Через
неделю позвонил им, и они сказали, что привезти книги сейчас не могут, потому
что у них все заболели. И я — еврейское счастье, если вы понимаете, — сказал,
что подъеду до работы к ним на склад. И подъехал до работы к ним на склад. Где
и купил оба романа Михаила Кагановича.
Оба романа оказались двумя частями трилогии «’А», первый — «’А… Начало романа»,
второй — «’А… На конной тяге», третий еще не вышел, насколько мне известно. Я
пока прочел только первый, который «Начало романа», и вот что хочу сказать. Это — очень хорошая книжка, в которой еврейский писатель Михаил Каганович
рассказывает про еврейское местечко Казимеж примерно с середины XVIII столетия.
Рассказывает, поминутно сбиваясь то на подробный рецепт гефилте фиш, то на
разъяснение еврейских традиций и идишских выражений, перескакивая из одного
времени в другое и тасуя на ходу истории, что твой шулер — колоду крапленых
карт. Причем книга написана, что называется, «поэтическим языком» (звучит это
словосочетание омерзительно, но я не знаю, как еще назвать такой язык —
все-таки я не книжный критик, а книжные критики эту книжку не читали). Я вот
раньше думал, что еврейская литература в России кончилась вместе с местечками,
потому что подпитки для нее нет, а тут на разваливающихся «Жигулях» в ночи
появляется какой-то там Михаил Каганович и с кажущейся легкостью эту литературную
традицию продолжает.
Мне отчего-то очень хочется, чтобы про писателя Михаила Кагановича узнало как
можно больше людей. Не уверен, что он заработает себе литературой на новые
«Жигули», просто книжка хорошая.
Этот текст в немного сокращенном виде выходил несколько лет назад на сайте "Сноба". Но книжка очень хорошая, так что...
История одиночества
Лена Элтанг, «Каменные клены»
Прочтя предыдущий (первый) роман Лены Элтанг «Побег куманики», помню, говорил, что вот, дескать, появилась большая литература, но будет обидно, если Лена напишет второй роман, и он будет таким же, как и этот. Потому что два таких вот романа, так написанных и так придуманных, - зачем? А потом Лена написала «Каменные клены», и я не знаю, что делать. Потому что Лена использовала тот же самый прием – все эти дневники, письма, запутанные воспоминания о том, что, может быть, было, а, может, и не было вовсе, вся эта поэтическая проза, все эти образы, часть которых не понять, даже если прочесть комментарии – нужно быть автором, чтобы понять. И вот при всем этом, «Каменные клены» - книга совершенно удивительная. В ней прием, заявленный в «Побеге куманики», доведен, кажется, до абсолюта (когда-то занимаясь более понятным для себя кино, я писал рецензию на «Последние дни» Ван Сента, и написал, что если в предыдущих своих фильмах он оттачивал стиль, то «Последние дни» - это уже какое-то божественное высказывание – понятно, что это все красивые и бессмысленные фразы, и не нам (не мне) рассуждать о высоких материях, но, серьезно, для меня «Каменные клены» - тот самый случай). Я, правда, не понимаю, технически не понимаю, как сделана эта книжка. Дело в том, что герои «Каменных кленов» существуют в какой-то придуманной реальности, но у каждого это – своя реальность, каждый герой книги придумывает ее для себя. И в этом смысле «Каменные клены» - в традиции литературы абсурда. Но герои книги Лены Элтанг плетут свои реальности не только из собственных рефлексий и подсознательных мыслей, желаний и снов, - все они существуют в очень насыщенном, словно бульон, мире цитат, каких-то литературных воспоминаний, имен и событий. В аннотации написано, что книга Лены – игра в детектив, и это тоже верно, потому что на протяжении почти четырехсот страниц длится попытка раскрыть убийство, которое то ли было, то ли не было. Но «Каменные клены» - невероятной красоты история одиночества, которое люди создают себе сами. И невероятной красоты история любви, которая то ли есть на самом деле, то ли придумана (а какая история любви не придумана?).
«если бы я мог говорить с ней, то сказал бы: не бойтесь, милая, перестаньте же боятьсязнаю, знаю, театр теней у каждого свой, мои тени проходят сквозь ваши – как в старом рассказе брэдбери марсиане проходят сквозь жителей земли, им никогда не встретиться, как фигурантам двух музыкальных шкатулок, как бегемоту и левиафану, да чего там – как вольтеру и русской императрице
наши тени стучатся в окно безлунной ночью, прижимая расплющенные лица к стеклу, они пугают вас, взрываясь переспелой вишневой настойкой, засыпая кладовку мелким стеклом и кровавой мякотью, они взлетают с нешуточным шорохом из-под стрехи, они мужественны, как лемминги, и женственны, как электрические скаты, у них бывают кожистые крылья, овечий поворот головы, совиные когти, да что пожелаете, то и будет
что с того, что я сам выкормил их из горсти?
я у них никто иной, как пуппенмейстер, а вы у своих – заложница
страх и вина – вот два хриплых гулящих меха вашей шкатулки, не знаю, что вы там натворили, вернее не желаю догадываться, но, что бы там ни было, вы, как и я, годами слушаете зыбкое бренчание и вглядываетесь в облупленное фаянсовое личико балерины: ах, мой милый августин! это все, что она может сказать, вертясь и наклоняясь над выцветшей бархатной сценой, а вы ведь не это хотите услышать, вы хоте услышать – я тебя прощаю, все хорошо, забудь…»
«Каменные клены» были бы хороши и без финала. Но финал, эти последние несколько абзацев, это феерическое завершение истории, единственно возможное и, при том, совершенно непредсказуемое, - и вот тут у меня заканчиваются слова, простите.
Бессмысленное и беспощадное…
«Чтобы Бог тебя разорвал изнутри на куски!», Андрей Тургенев
 После «Блокадного романа» я ожидал чего угодно, но
не этого. Значит, Венеция, какая-то огромная выставка современного искусства.
Старый русский режиссер, под семьдесят, бродит по городу, пытается понять все
эти странные авангардные штуки, вспоминает полтора фильма, которые снял. За
один из них он в свое время получил золотого «Льва», второй не закончил –
умерла главная актриса, его любимая женщина. С тех пор, уже сорок лет как, он
не снимал. Теперь вот бродит, вспоминает любовь и думает о съемках нового
фильма. Попутно общается с разными странными людьми. Лорд – это такой как бы
современный художник, миллионер, концептуалист и половой гигант, кокаинист
обладатель металлической руки, в которой чего только нет – от фотоаппарата до
лазера и от кокаина до кипятильника. Еще есть куратор и главный редактор
модного журнала об искусстве Вергнитка, очень влиятельная худая женщина,
которая все время разговаривает по телефонам, и еще есть ее бывший любовник –
не очень талантливый художник, и еще какой-то Боря из лагеря конкурирующего журнала,
и еще два придурка, которые участвуют в инсталляциях, и еще сиамские близнецы –
юные китаянки, и еще куча других героев, которые вертятся под ногами и все друг
от друга чего-то хотят. Наконец, есть Череп – некоторое произведение искусства,
которое никто не видел, но оно есть. И легенда о Черном гондольере, который уже
пятьсот лет является за телами и душами людей.
После «Блокадного романа» я ожидал чего угодно, но
не этого. Значит, Венеция, какая-то огромная выставка современного искусства.
Старый русский режиссер, под семьдесят, бродит по городу, пытается понять все
эти странные авангардные штуки, вспоминает полтора фильма, которые снял. За
один из них он в свое время получил золотого «Льва», второй не закончил –
умерла главная актриса, его любимая женщина. С тех пор, уже сорок лет как, он
не снимал. Теперь вот бродит, вспоминает любовь и думает о съемках нового
фильма. Попутно общается с разными странными людьми. Лорд – это такой как бы
современный художник, миллионер, концептуалист и половой гигант, кокаинист
обладатель металлической руки, в которой чего только нет – от фотоаппарата до
лазера и от кокаина до кипятильника. Еще есть куратор и главный редактор
модного журнала об искусстве Вергнитка, очень влиятельная худая женщина,
которая все время разговаривает по телефонам, и еще есть ее бывший любовник –
не очень талантливый художник, и еще какой-то Боря из лагеря конкурирующего журнала,
и еще два придурка, которые участвуют в инсталляциях, и еще сиамские близнецы –
юные китаянки, и еще куча других героев, которые вертятся под ногами и все друг
от друга чего-то хотят. Наконец, есть Череп – некоторое произведение искусства,
которое никто не видел, но оно есть. И легенда о Черном гондольере, который уже
пятьсот лет является за телами и душами людей.
Повествование закручено в адский водоворот событий и диалогов, утрировано до
абсурда (особенно утрировано, собственно, само это современное искусство,
бессмысленное и беспощадное), наполнено ассоциациями с всевозможными Феллини и
прочими Пикассо и не только, и все это – на фоне города, медленно уходящего под
воду. Интересно, что Курицын (Тургенев – это Вячеслав Курицын на самом деле,
если кто вдруг не знает или забыл), так вот, интересно, что Курицын очень
циничен в описании всех этих современных искусств, не стесняется в выражениях (и даже, что ему свойственно, порой начинает увлеченно придумывать собственный
язык), мешает многочисленные сюжетные линии как заправский автор детективов, к
финалу нагнетает настоящего саспенса, но вдруг срывается в такую пронзительную
лирику, что прямо комок в горле. И ее тут же снова обрывает, потому что не
бывает же, чтобы все время комок в горле. И залихватски заканчивает повествование
именно тогда, когда надо. Причем в финале он сначала опускается почти до уровня
какого-то раздражающего балагана, а потом – раз, и легким, прошу прощения за
пафос, росчерком пера завершает непредсказуемо, но именно так, как и должен был
закончиться весь этот венецианский карнавал.
А фраза, вынесенная в название – это, по выражению одного из героев, синоним
настоящего, истинного искусства.
Смотри под ноги
Про Капу Вознесенскую. По страницам блокадного дневника ленинградской школьницы К. Вознесенской, октябрь 1941 – август 1942 гг.
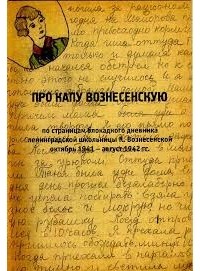 «Январь прошел у нас не лучше декабря. В январе у
нас умерли бабушка Груша, дядя Вася, тетя Шура, Сима и дядя Женя. Январь мы
очень голодали. Как раз были очереди за хлебом. Приходилось стоять 6 часов.
Мама очень похудела выглядит что смерть. Недавно мама ушла за хлебом в 7 часов
утра и пришла в 6 часов вечера. В магазине ей сделалось плохо она упала. Немогу
передать что я за это время пережила. Я теперь очень боюсь когда она далеко
уходит…» – строчки из маленького блокадного дневника 14-летней ленинградской
школьницы Капы Вознесенской. Дневник издан «Красным матросом», а так как у
этого издательства практически нет рекламы и распространения, то вот, пишу –
вдруг кому-то будет интересно. Потому что жалко, если все это пропустят.
«Январь прошел у нас не лучше декабря. В январе у
нас умерли бабушка Груша, дядя Вася, тетя Шура, Сима и дядя Женя. Январь мы
очень голодали. Как раз были очереди за хлебом. Приходилось стоять 6 часов.
Мама очень похудела выглядит что смерть. Недавно мама ушла за хлебом в 7 часов
утра и пришла в 6 часов вечера. В магазине ей сделалось плохо она упала. Немогу
передать что я за это время пережила. Я теперь очень боюсь когда она далеко
уходит…» – строчки из маленького блокадного дневника 14-летней ленинградской
школьницы Капы Вознесенской. Дневник издан «Красным матросом», а так как у
этого издательства практически нет рекламы и распространения, то вот, пишу –
вдруг кому-то будет интересно. Потому что жалко, если все это пропустят.
Два слова про сам дневник. Поразительно, как ровно, с каким кажущимся
отсутствием эмоций пишет эта девочка про ужасы, которые творятся вокруг. И еще
поразительно, что, несмотря на все эти ужасы, жизнь продолжается – вернее, люди
продолжают стараться жить. Не выживать – жить. Это меня поражало в дневниках
Ольги Берггольц, это меня поражало в только что прочитанной книге Марека
Эдельмана «И была любовь в гетто», и вот теперь снова. Я не знаю – возможно,
это какие-то защитные механизмы, а возможно, это такое свойство человека. Но
ведь, наверное, это правда – невозможно все время выживать, переставая при этом
жить. Не дай Бог это когда-нибудь понять самому.
А я вот еще хотел про издательство «Красный матрос» в связи с этим сказать.
Дело в том, что «Красный матрос» – это, собственно, его глава Михаил Сапего. То
есть то, что делает его издательство, – это как бы самиздат, только очень
похожий на книжки. В смысле, там есть, например, ISBN, переплет, обложка. Но я
вот недавно у этого самого Сапеги сидел, и ему как раз привезли тираж на тот момент самой
новой его книжки. Домой ему привезли – там тираж-то сто штук, триста, пятьсот,
тысяча – это если вообще потенциальный «бестселлер», как было с «Красной
тетрадью» Олега Григорьева, то есть со случайно сохранившимися черновиками
поэта. А до моего прихода Сапего с черновиков и рукописей расшифровывал стихи
художника Владимира «Дедушки» Яшке – он уже две книги его издал, теперь еще
одну готовит. То есть – все сам, все сам. И вот Сапего мне рассказывал, как к
нему попадают те сокровища, из которых он потом делает книги: что-то на полу
нашел, что-то на «блошке» купил за 50 рублей или за бутылку водки, что-то
принесли. Вот как с дневником этой Капы Вознесенской – люди делали ремонт,
разбирали какие-то завалы на антресолях, и на них выпала тетрадка.
Надо, короче, уметь под ноги смотреть.
Говорящая рыба
Этгар Керет, «Когда умерли автобусы»
Этгар Керет говорит, что стал вегетарианцем в пять лет. Смотрел
мультфильм «Бемби» и, в тот момент, когда стреляют в маму Бемби, спросил у
папы, зачем в нее выстрелили. Чтобы сделать тебе отбивную, ответил
папа. С тех пор Этгар Керет вегетарианец.
Этгар Керет говорит,
что пять поколений его семьи (вплоть до его родителей) не умирали своей
смертью. Например, его дед или прадед, родом из России, ехал в поезде и
читал книгу, а в другом конце вагона сидели казаки, которые выпивали и пели. Дед
или прадед попросил их вести себя чуть тише в общественном месте, и они
выбросили его из идущего поезда – он погиб. Родители мамы Этгара Керета
погибли в Варшавском гетто. «Мою семью убивали многие годы. Когда я
познакомил свою жену с моими родственниками, она сказала – за
дело», - говорит Этгар Керет.
У Этгара Керета есть рассказ про
человека, который приходит в ресторан и заказывает говорящую рыбу. А
потом сидит и ждет, когда же она наконец заговорит. Когда Этгара Керета
спрашивают, чем писатель отличается от не писателя, он отвечает – не
писатель закажет рыбу и съест ее, а писатель будет сидеть и ждать, когда
она заговорит.
У Этгара Керета очень много рассказов, в которых
действуют странные животные. Если же говорить о том, каким животным он
сам чувствует себя, он отвечает, что кроликом. Почему? Ну, например, он
варит яйца в электрическом чайнике. «Многие мои знакомые на самом деле
считают, что я – кролик», - говорит Этгар Керет.
Когда Этгар
Керет написал свою первую книгу, к нему пришел фотограф из газеты и
сказал – сядьте на холодильник, или подпрыгните, или еще что-то. А
потом, после окончания фотосессии, пожелал, чтобы первый альбом Этгара
Керета не стал последним. Но я писатель, воскликнул Этгар Керет! Тогда
фотограф извинился и попросил Этгара Керета принять задумчивую позу.
Этгар
Керет говорит, что однажды сидел в баре, и к нему подошел очень большой
мужчина и предложил выпить. А мама Этгара Керета всегда говорила сыну,
что если к нему подходит человек, который в несколько раз больше его, и
предлагает что-нибудь сделать, надо соглашаться. Они выпили вместе, и
большой человек рассказал, что работает судебным приставом, и ему это
нравится. Он приходит в разные дома, люди с ним общаются вежливо и за
ними интересно наблюдать. Потому что можно у них забирать драгоценности,
аппаратуру и все, что угодно, и они даже не меняются в лице. А потом
дотрагиваешься до какой-то вещи – и они вздрагивают. «Я пришел домой
пьяным и с мыслью о том, что мой новый знакомый – судебный пристав –
придет ко мне завтра утром. Поэтому мне срочно нужно найти ту самую вещь
и спрятать ее. Дома у меня был детский диванчик, который я забрал у
родителей и на котором спал, электрический чайник, в котором я варил
яйца, чтобы есть их с майонезом, стул и пять книг, три из
которых я взял у кого-то почитать и не отдал. И – все. Я так и не нашел
ту самую вещь, и мне стало не по себе», - рассказывает Этгар Керет.
Нужно ли сказать что-то еще, чтобы убедить вас прочитать книгу Этгара Керета?
Просто жизнь
«Это мое», Евгений Ухналёв
Пару лет назад я придумал штуку, которая на сегодняшний день является, возможно, самой важной штукой, которую я сделал – я придумал сделать книжку воспоминаний потрясающего художника и друга нашей семьи Евгения Ильича Ухналева. Спустя месяцы у меня получилось почти тридцать часов интервью, из которых предстояло сделать книжку...
Вернее, все было чуть иначе. Однажды Ухналев рассказал мне две коротенькие истории и попросил их
написать. Сказал, что хочет, чтобы они остались. Вот одна из них, называется «Август»: «Мороз, ледяной ветер, сизые сумерки. Неизвестная железнодорожная
станция в тылу – сорок забитых составами рядов рельсов. Эшелон с
эвакуированными, внутри теплушек темно, тепло, даже уютно. Сквозь вой ветра
издалека доносится срывающийся голос почти безумной женщины. Голос
приближается: "Август! Август!" Женщина плачет, замерзшими руками стучит в
вагоны: "Август! У вас нет Августа?" Добегает до нашего вагона: "У вас нет
Августа?" Какой-то работяга с Кировского завода бросает сквозь смех: "А сейчас
декабрь". Женщина на мгновение замирает, а потом бежит дальше».
Ухналев – уникальный человек. Ну, то есть он рассказывает примерно так: «Не помню точно, когда это было – 6 или 7 сентября 1942 года…» Он помнит удивительные вещи – фамилии и имена, погоду, цвет неба. Он всматривается в свое прошлое взглядом художника. А вспомнить есть что – он родился в 1931 году, он помнит начало блокады и эвакуацию, послевоенный Ленинград, он помнит воркутинские лагеря, где оказался в возрасте 17 лет по абсурдному обвинению, возвращение из лагерей, он помнит Эрмитаж 1960-х. Он говорит: «Единственное, к чему я отношусь серьезно – это творчество. Творчество для меня бесспорно. Я не сомневаюсь ни в одной вещи, которую сделал. После того, как я вернулся с Воркуты, у меня был более чем двадцатилетний период, когда я не рисовал, - очень большой перерыв для художника. Странный период, когда я занимался непонятно чем, пока не начал понимать, что же на самом деле мое. Конечно, нужно было содержать семью, кормить сына, и это – единственное, чем я оправдываю тогдашнее свое существование. Но я счастлив, что все-таки понял, что мое, а что нет, потому что большинство людей так до конца жизни и не понимает…» И, в общем, мне это кажется дико важным.
Книжка получилась небольшой, потому что не
хотелось, чтобы в ней было что-то лишнее, – небольшой, но очень насыщенной
событиями и, главное, эмоциями. А вот вам вторая история, с которой все началось, называется «Художник»: «Сизое морозное утро, серое солнце Воркуты. Вахта.
На дороге под пронизывающим ветром зеки пригибаются к земле, кутаются, кто во
что горазд, – ждут вывода на шахту. Матерятся вертухаи – проверяют, у кого на
спине или рукаве плохо виден номер. Заметив полустертый номер, кричат: "Художник!" Из небытия возникает маленький согнутый человечек, консервная банка
с известкой на шее, щепка в руках. Он обновляет номер и исчезает до следующего
окрика».
Слова из песни
«”Беспомощный”. Книга об одной песне», Андрей Лебедев, Кирилл Кобрин
 Удивительно странная книжка. Взяли парни одну песню и написали про нее сто страниц, но не музыковедческих, а как бы поток
сознания. Там и история Нила Янга, и воспоминания о юности авторов, и про
Америку с Англией. И про песню, и про группу, и про время. Причем
какие-то части я перескакивал, да простят меня авторы, а какие-то прямо в
душу запали.
Удивительно странная книжка. Взяли парни одну песню и написали про нее сто страниц, но не музыковедческих, а как бы поток
сознания. Там и история Нила Янга, и воспоминания о юности авторов, и про
Америку с Англией. И про песню, и про группу, и про время. Причем
какие-то части я перескакивал, да простят меня авторы, а какие-то прямо в
душу запали.
Есть там, например, история про парня, который
экономил на завтраках (действие происходит в ранние 1980-е, насколько я
понял) и стипендии и покупал фирменные пластинки, которые слушал, а
когда не слушал, хранил в шкафу, никому не давая ключ. Потом его
свинтили на барахолке, исключили из комсомола и института и отправили в
армию, на войну, где он и погиб, причем тело так и не нашли, так что на
родину прислали пустой гроб. Родители шкаф не открывали, потому что
воспринимали это за кощунство, а потом умерли. А уже был 2005 год, и
когда кто-то открыл шкаф, обнаружил там около пятидесяти пыльных старых
пластинок, которые этот кто-то вынес на помойку. Там их нашел какой-то
диджей и некоторое время крутил на местной дискотеке.
Еще есть
история про парня по имени Джон Джонсон, который написал несколько
крутых рифов и продал их, поучаствовал в записи одной пластинки Crosby,
Stills, Nash & Young, но потом ему пришлось уехать, так что его
имени на пластинке нет, зато из-за дерева на заднем плане (в оформлении
диска) выглядывает носок белой туфли – это, считается, его туфля. Ну
вот, а этот Джонсон, так и не прославившись, вернулся домой, экстерном
закончил историческое отделение родного университета и уже больше
тридцати лет издает местных средневековых авторов. А историю своей
неудавшейся, но при этом интересной музыкальной карьеры он якобы
рассказал сотрудникам исследовательского центра фотографии города Голуэй
в 2006 году.
Ну вот, или, например, история выражения boothill
(кладбище) – пишут, что в эпоху Дикого Запада погибших хоронили в
сапогах, отсюда и название. И еще там интересно, что в своих заметках
Джонни Кэш приводит одну из лаконичных могильных надписей того времени:
«Повешен по ошибке. 1882 год». А авторы книги приводят еще две: «Джек
Данлап. 1880-е годы. Застрелен Джеффом Милтоном во время попытки
ограбления поезда. Оставался в живых достаточно долго, чтобы выдать
друзей, которые бросили его умирать. Кличка: Трехпалый Джек» и «Майк
Киллин. 22 июня 1880 года. Убит Фрэнком Лесли в ссоре из-за жены
Киллина. Лесли женился на его вдове».
Или, например, вдруг вот такой пронзительный кусочек дневника одного из авторов:
«4 февраля
Когда
революция превратилась в классику? Битлы – в постшубертианцев? Горячие
вмятины на асфальте от ботинок хулиганствующих подростков – в дорогу
славы?
И стало видно далеко-далеко, во все концы света. Ясность замысла, отточенность жеста.
Последний
Маккартни, непрекращающийся крик бегущего в пылающей одежде. «Дикой
жизнью» следовало бы назвать этот, а не ранний. От чего он бежит? От
смерти жены? От «сирства»? Слушать невозможно, но можно сопереживать.
Пай-мальчик, противопоставляющийся бунтарю в круглых очках, оказался
самым чувствительным к торжественной кремации при жизни.
Последнего
Джаггера слушать также нельзя. Но там нечему и сопереживать. Музыка для
облысевших волосатых, борющихся с полнотой в гимнастическом зале. Фигура
для рекламы биопродуктов.
Джонни Депп купил пальто Керуака. Биография Леннона вышла в «Жизни замечательных людей».
Еще как уже. История настоящего. Present Perfect…»
Или пять самых печальных песен по версии режиссера Гая Мэддина:
Heart of Gold (Neil Young), Gloomy Sunday (Paul Robeson), I Remember
You (Dinah Washington), Cursed Female (Porno for Pyros), St. Louis Blues
(Bessie Smith).
Удивительная, в общем, книжка – и по
фактуре, и, главное, по способу изложения материала. Интересный то есть
ход – книжка про песню и все, что вокруг, но не историческая и не
музыковедческая, а – ну, да, как я и писал, такой поток сознания. Надо
думать.
то-то и то-то, то-то и то-то, то-то и то-то...
Саша Соколов, «Триптих»
«типа того, что, мол, как-то там, что ли, так,
что по сути-то этак, таким приблизительно
образом, потому-то и потому-то,
иными словами, более или менее обстоятельно,
пусть и не слишком подробно:
подробности, как известно, письмом,
в данном случае списком, особым списком
для чтения в ходе общей беседы, речитативом,
причём, несомненно, в сторону
и не особенно громко, по-видимому, piano,
вот именно, но понятно, что на правах
полнозвучной партии, дескать,
то-то и то-то, то-то и то-то, то-то и то-то
и прочее, или как отсекали еще в папирусах,
etc…»
Книжка Саши Соколова «Триптих» — это, конечно, не совсем новые тексты,
которые он якобы пишет в стол уже сколько-то там десятков лет, как
какой-нибудь Сэлинджер, а три текста, напечатанные когда-то в середине
2000-х, но кто их читал. Зато вот я как-то купил книжку, прочитал ее и теперь
хочу, чтобы все остальные тоже ее прочитали. Без гарантий, что им
понравится.
«Триптих» — это такая ритмическая проза с очень
смутным сюжетом, сам Соколов называет свой язык «проэзия». Думаю, этот
сюжет даже можно вычленить: первый текст — это попытка диалога на разные
темы, который все никак не удается, тонет в подробностях и оговорках;
второй — условный разговор с вдовой погибшего на войне офицера, которому
снятся сны о его собственной смерти; третий — что-то про птиц и, видимо
любовь. Вычленять сюжет можно, но, как по мне, так совершенно не нужно.
Три текста «Триптиха» — это очень красиво подобранные слова, которые
словно предназначены для того, чтобы читать их вслух, возможно — без
слушателей, просто так. Я их читал себе.
Только одно
предупреждение — это, конечно, не «Школа для дураков», и вовсе не
«Между собакой и волком», и даже не «Палисандрия». Это совсем другие
тексты, хотя и с узнаваемым языком.
«и несколько ниже: и то-то…»
Кошкин дом
«Кошачья история», Наль Подольский
Иногда книги сами попадают тебе в руки. Еще минуту назад ты не знал о существовании того или иного издания, а потом – раз, и книга уже у тебя в руках. Так случилось с книжкой Наля Подольского «Кошачья история», которую я в результате проглотил за пару дней.
Итак, некий интеллигент приезжает в
провинциальный курортный городок, чтобы помогать писать какой-то
сценарий. А дальше погружается в фантасмагорическую атмосферу, в которой
совершенно непонятно, кто сходит с ума - то ли главный герой, то ли
жители городка, а, может, никто не сходит, а все, что описано в коротком
романе, происходит на самом деле. Короче, разные люди начинают намекать
герою, что городом владеют кошки, сотни которых бегают тут и там, –
дескать, они могут управлять людьми, сами или по чьему-то злому умыслу.
Есть на окраине города и «кошачий Ленин» – «Сфинкс», памятник лежачей
кошке на большом постаменте. Вокруг него резвится особенно много кошек.
Атмосфера
романа соответствует атмосфере летнего приморского городка – душная,
тягучая, пропитанная сексом и невысказанными обещаниями. Главного героя
окружают странные люди: майор Крестовский, который наблюдает за
жителями городка с помощью телескопа и, кажется, все знает; сельский
учитель – юродивый Одуванчик, который верит в теорию заговора; две
женщины – приехавшая из Москвы Наталья, загадочная красавица, что-то
скрывающая и ничего не рассказывающая о своей прошлой жизни, и местная
красотка-барменша Лена, с которой тоже что-то не так; еще другие люди,
в том числе – три люмпена, по меткому определению написавшего
предисловие Виктора Кривулина, - мелкие бесы, носители немотивированного
насилия, и так далее. Наль Подольский начинает книгу как курортный
роман, но с каждой страницей все сильнее сгущает атмосферу, и вскоре
духота превращается сначала в необъяснимую тревогу, а потом – в липкий
ужас неизвестности, главный герой буквально на наших глазах слетает с
катушек вместе с окружающими, а повествование катится к трагической
развязке. И все это – под пристальными взглядами кошек…
Кривулин в
предисловии очень интересно сводит атмосферу романа с атмосферой
позднего брежневского существования, в котором душная муть безысходности
парадоксальным образом сочеталась с ожиданием чего-то, какой-то
неожиданности – то ли избавления, то ли катастрофы. Немногочисленные
герои романа, вершащие эту провинциальную историю, ненавязчиво воплощают
различные человеческие типажи, которые в скором времени (роман был
написан в 1978 году) выйдут на первый план в реальной жизни. Вряд ли
Наль Подольский обладает даром предвидения – скорее, он просто
смоделировал историю, поместив ее в фантастические, но такие реальные
декорации, и попробовал продолжить в будущее – получилось то, что
получилось, причем очень узнаваемо. Кривулин в предисловии пишет:
«Писатель с высот своей мансарды или из глубин своей котельной как бы
диктует самой жизни, что и как в ней должно происходить. Это уже не
просто предчувствие или предвидение – это сознательное моделирование
процессов, происходящих в реальности. Оно было возможно, потому что
будущее, как и прошлое, воспринималось с большей остротой, чем
настоящее…» И еще интересное наблюдение – Кривулин совершенно точно
подмечает некоторые аналогии с «Посторонним» и «Чумой», а потом
добавляет: «Но герои французской экзистенциальной прозы начисто лишены
способности видеть и различать бесов. Это уже исключительное (и
традиционное) свойство героев российской прозы».
И еще, конечно,
поразительно, что этот роман был написан в Ленинграде конца 1970-х. Очень неожиданная книжка для того времени.
Очень не ко мне
Олег Григорьев, «Красная тетрадь»
Как-то раз на летнем книжном фестивале в ЦДХ Александр Кушнир, очень эмоционально рассказывая о том, как он пишет книжку про Сергея Курехина, обмолвился – дескать, кажется, в Москве, не говоря уже обо всей России, Курехина мало кто знает. Дескать, несмотря на его мировую известность и вообще влияние на российскую культуру конца ХХ века, он все равно, к сожалению, в России остается питерским феноменом, как бы звездой местного масштаба. Не знаю, то ли это происходит из-за тупой оппозиции Москва-Питер, то ли из-за того, что о Курехине просто мало говорят и пишут, а его музыка мало звучит (а где ей звучать?), но все это – дикая несправедливость.
Я это все к тому, что некоторое время назад обнаружил, что такая же несправедливость касается и другого «питерского феномена» - поэта Олега Григорьева. Издательство «Красный матрос» некоторое, уже довольно значительное, время назад выпустило (как обычно, мизерным тиражом в тысячу экземпляров) его книжку «Красная тетрадь» – неизданные черновики 1989-1991 годов. А так как об этой книжке вообще мало кто знает, то – чем не повод?
Книжка прекрасно сделана, там левая полоса – скан самой рукописи, а правая – собственно, расшифровка. И стихи, и проза, и какие-то записные книжки разрозненные. Интересно почитать черновики известных стихотворений. Или какие-то незаконченные вещи, которые не были опубликованы в «полном» собрании. Или просто какие-то зарисовки: «Выхода нет. Надо бить в яблоко. Но как тут не дрогнуть руке? Вот если бы это был чужой ребенок». Или вот мне нравится очень, называется «Приколы»:
«Однажды К. говорит. – Вот можем смять этот лист бумаги в маленький-маленький ком?
- Хм, чего проще – говорю – смял лист бумаги и скатал его в маленький шарик, как раскидай.
- Ну вот спасибо – К. говорит. Расправил лист, разорвал его на четыре части и пошел в уборную».
Или стихотворение «Очень не ко мне»:
«Ворвался в форточку мотылек –
Оставил мне гроб свой – кокон.
Очень не ко мне девочки прошли
Мимо моих окон».
В предисловии написано, что после смерти Григорьева приехала его жена и все его вещи стала выставлять на лестничную площадку, чтобы потом выкинуть. А соседи мимо шли, увидели – это же тетрадки Олега Григорьева! И забрали себе. Иначе бы все пропало. И там еще одна интересная история, в конце, где воспоминания друзей: «Буквально через пять-шесть дней мы забирали из Мариинской больницы тело Олега, везем на кладбище. Понизовский мне дает рублей 200 и говорит: “Смотри, чтобы все в порядке, дай там кому надо”. А мне могильщики потом возмущенно говорят: “Вы не понимаете, кого мы хороним, заберите свои деньги”. На кладбище могильщикам положено дать бутылку водки, мы и предлагаем, а они тоже отказались: “Нет, не возьмем”. А потом один из них, помоложе, сказал: “Вы мне лучше книжку стихов дайте, я их дочке буду читать”…» Кстати, отпевал Григорьева тот же отец Константин, который отпевал и Сергея Курехина.
Понятно, что «Красная тетрадь» – не та книжка, с которой стоит начинать знакомство со стихами Григорьева. Но просто будет очень обидно, если о ней никто не узнает.
Золотая роза
«Уцелевшее», Бруно Шульц
Года четыре назад во Львове, в еврейском ресторанчике у единственной сохранившейся стены старинной синагоги Нахмановичей «Золотая роза» (так называлась синагога, и так теперь называется ресторанчик), я впервые увидел копию фрески Бруно Шульца. И, к стыду своему, впервые услышал его имя.
Возможно, должно было пройти время для того, чтобы как-то в январе я встретился в Киеве с красавицей по имени Юля. Юля, родом из Львова, заливисто смеется, говорит на певучем украинском и верит, что у нее есть еврейская кровь. Она рассказывает, что ее прабабушка однажды загуляла в каком-то западно-украинском местечке, и теперь у Юли черные волосы, любовь к Израилю и менора на книжной полке. Возможно, это просто семейное предание, но когда преданию больше ста лет, приходится верить. Именно Юля рассказала мне о писателе Бруно Шульце – польском еврее из городка Драгобыж, что в ста километрах от Львова. А потом потребовалось еще время и череда случайностей, чтобы, благодаря девушке Наташе, после мимолетной встречи с которой в памяти остается вихрь рыжеватых волос и внимательный взгляд, изданная на русском языке книжка Бруно Шульца оказалась у меня...
Шульц родился в конце XIX века в семье торговца мануфактурой Якова, который не был религиозным, а в синагогу ходил только по большим праздникам (впрочем, у евреев каждый день праздник). Возможно, именно поэтому проза лопоухого и немного нелепого, как все местечковые евреи конца XIX – начала XX веков, Бруно совсем не еврейская и совсем не местечковая. К тому же, в его доме говорили на польском, и он писал тоже на польском. Он учился во Львове, но потом все равно вернулся в Драгобыж. Преподавал живопись, рисовал, переводил на польский тексты Франца Кафки и писал удивительную прозу, наполненную описаниями, едва ли не на две трети состоящую из прилагательных. Очень тяжелую для чтения и нереально красивую прозу, пронизанную мистицизмом и верой в чудо. Прозу, похожую на ожившую черно-белую графику, в которой сквозь плотную штриховку вдруг становятся видны яркие всполохи. В текстах Шульца отец превращается в таракана и исчезает, чтобы потом вернуться траченным молью чучелом большой птицы, а ощипанный петух над пламенем свечи вдруг взмахивает крыльями и улетает, окутанный сумерками город становится непохожим на самого себя, а улицы меняются дворами и переулками. И между жизнью маленького города и целым миром проступает знак равенства.Бруно Шульц был убит в 1942 году выстрелом в голову. Имя его убийцы известно – это был шарфюрер СС Карл Гюнтер. Могила Бруно Шульца не сохранилась.
Дорога без конца
Павел Зальцман, «Щенки. Проза 1930-50-х годов»
Пятьсот откомментированных экземпляров в твердой обложке – в издательстве «Водолей» вышла книжка прозы 1930-50-х годов Павла Зальцмана, ученика Павла Филонова и товарища ОБЭРИУтов. Незаконченный роман «Щенки», который Зальцман писал двадцать лет, плюс несколько совершенно других рассказов и повесть Memento.
Главное, это, конечно, «Щенки». 300-страничный роман, который начинается с того, что два щенка в поисках еды и тепла выбирают каждый свою дорогу и начинают долгое и опасное путешествие по охваченной Гражданской войной и голодом России. На их пути встречаются люди и животные, а сами щенки не всегда фигурируют в повествовании, то пропадая, то появляясь вновь. Они вообще не совсем главные герои. Там, в общем-то, главных героев нет – есть персонажи, которые встречаются периодически, так сказать, сюжетообразующие. При этом сюжетные линии каждого персонажа – что людей, что животных, – пересекаются в страшной, похожей на ночной кошмар, фантасмагории. В ней повествование ведется сразу от лица нескольких персонажей. В ней люди и животные порой понимают друг друга и говорят (и думают) странным, неестественным, обрывочным языком. Здесь все без исключения находятся в постоянном поиске еды – не еды даже, а какой-то минимальной возможности выжить. Выжить удается не всем, а зло сосредоточено в центральном персонаже, который появляется то тут, то там, сея страх, и этот персонаж – Сова. Причем Сова эта – не птица (вернее, не всегда птица), но именно что воплощение страха. В «Щенках» вообще совы не те, кем кажутся – люди здесь понимают животных, слепой слышит разговор верблюдов, а два парня являются своеобразными отражениями двух щенков. Здесь вообще не всегда понятно, человек перед тобой или животное, и не важно, в каком он предстает обличии. Кровь, пот и слезы.
«Щенки» – это панорама Гражданской войны (хотя войны в книге практически нет), написанная языком, в котором абсурд Хармса встречается с мистицизмом Майринка. «Щенки» – это как бы выраженная словами живопись Филонова, к тому же, очень удачно проиллюстрированная картинами самого Зальцмана. Но именно картины Филонова (вернее, его манера) оживают на страницах романа. В жизни такого не читал.
Тяжелое, затягивающее, завораживающее и, мне кажется, обязательное чтение.
Надо мной любовь нависла тучей...
Вера Инбер, «Смерть Луны»
Кажется, Вера Инбер жила в том доме, в котором спустя годы жил я –
знаменитая питерская «слеза социализма», в которой располагалась
литературная коммуна, там кто только не жил. Но что я знал про Веру
Инбер? Признанная советская поэтесса, которая всю блокаду оставалась в
Ленинграде, писала героические стихи, выступала по радио, в госпиталях,
ездила на линию фронта…
А потом оказалось, что она – автор прекрасных
стихов, например, вот этого: «Ночь идет на мягких лапах, / Дышит, как
медведь. / Мальчик создан, чтобы плакать, / Мама — чтобы петь…» Или еще,
про любовь: «Надо мной любовь нависла тучей, / Помрачила дни, /
Нежностью своей меня не мучай, / Лаской не томи. / Уходи, пускай слеза
мешает / Поглядеть вослед. / Уходи, пускай душа не знает, / Был ты или
нет…» И еще – оказывается, она была двоюродной сестрой Троцкого и всю
жизнь боялась, ждала ареста – возможно, поэтому и стала признанной
советской поэтессой, и единогласно голосовала, и прочее, и прочее. И
Слуцкий сравнил ее с деревом, у которого ветки отсохли раньше, чем
корни.
Ну вот, а в «Книжниках» вышла ее маленькая книжка –
сборник написанных в 1920-1930-е годы рассказов, называется «Смерть Луны». И
о ней, конечно, никогда не напишут модные литературные критики, потому
что – маленькие рассказики какой-то там Веры Инбер, признанной
советской поэтессы. Рассказы, между тем, потрясающие. Очень простые,
очень трогательные, наполненные какими-то совершенно неожиданными
наблюдениями и подробностями. В них довоенные Москва и Одесса,
коммунальная квартира и еврейское местечко, дети и взрослые, родные и
незнакомые люди, и все такие разные и интересные. Это одновременно
чем-то похоже на Зощенко (хотя все совсем иначе), порой там прорываются
хармсовские интонации, иногда – вековая еврейская мудрость
Шолом-Алейхема. Просто очень хорошая литература, какой сейчас не
делают. Хотел еще какой-нибудь кусок процитировать, но там не выбрать –
цитировать хочется все. Так что – там есть рассказик про мальчика и
девочку, которые рассматривали картинки и собирались в зоопарк, чтобы
увидеть льва, но мальчик заболел или еще что-то там такое с ним
случилось, и девочка пошла без него, а потом, когда пришла, он стал ее
расспрашивать, особенно про то, видела ли она льва, и она вдруг
разрыдалась: «Видела! Не похож!» Очень хороший рассказ, очень хорошая
книжка, будет обидно, если ее не заметят.
Смутное время
Петр Луцык, Алексей Саморядов, «Дикое поле»
Я долго пытался написать про эту почти 900-страничную книжку, а все равно какие-то разрозненные мысли (мыслишки) получаются. Ну, пусть будет.
Это круто, когда все (ну, почти все) сценарии, вернее сказать – тексты, вкладываются в единый «монолит», призванный породить собственную мифологию. Сценарии Петра Луцыка и Алексея Саморядова как раз такие, а авторы, вольно или невольно, являются мифотфорцами. Там ведь не зря почти в каждом сценарии повторяются имена и фамилии. Под ними скрываются разные герои, но по сути все эти люди – былинные персонажи, которые, видоизменяясь, кочуют из одной истории в другую. Кроме того, сценарии эти – просто очень хорошая литература.
Мир Луцыка и Саморядова страшен и погружен в язычество. Герои их сценариев, даже осеняя себя крестом, остаются верными Земле, Огню, Ветру («Ветер» - один из самых сильных текстов книги). Они (герои) застряли в безвременье, и это безвременье очень точно отражает настроение, атмосферу поздних 1980-х и ранних 1990-х – рушится большая страна, гнетет неизвестность, тупо нечего жрать – остается объединяться в бесполезные дружины, слушать языческих пророков и биться насмерть. И когда смерть (Смерть) подходит совсем близко, когда она забирает самых родных, нужно или рассмеяться, или обратиться к богам, которые могут прийти на помощь. Могут, впрочем, и не прийти – и тогда опять же остается только рассмеяться, взять ружье и уйти в надвигающийся буран.
Место действия почти всех сценариев Луцыка и Саморядова – степь, то самое дикое поле, на котором все решает общий сход – или сила. Здесь царят жестокие законы природы, здесь человек человеку – волк, здесь все просто. «– Здорово, Игнат. Измерзся, час отстоял, идем пиво пить. – Не хочу. – Идем хоть покурим! – И курить не хочу. – Чего ж ты хочешь? – Бабу хочу, к ней и иду! – ответил Игнат бодро. – Пива не хочу, курить не хочу, а бабу хочу, к ней и иду!..» /«Дети чугунных богов»/ И вот этой былинной простоты как раз и не хватило режиссерам, пытавшимся совладать с текстами Луцыка и Саморядова. Пытаясь разглядеть в этих текстах многочисленные вторые смыслы, режиссеры – все без исключения – ударялись в никому не нужные интеллигентские рефлексии, усложняли, наполняли ненужными смыслами. Хотя почерк Луцыка и Саморядова, их авторский стиль – говорить просто о сложном.
Наиболее правильной экранизацией их сценариев, как ни странно, мне кажется не слишком удачный фильм Михаила Аветикова «Савой» (по сценарию «Праздник саранчи»). В этом совершенно диком боевике с Владимиром Стекловым, почти полным отсутствием слов и абсолютным отсутствием каких-либо логических связок, режиссер Аветиков не смог удержать ритм, присущий прозе Луцыка и Саморядова, но в остальном именно этот фильм по настроению максимально приближен к тому, о чем, по-моему, и писали авторы. Раньше мне казалось, что очень близко подобрался Томаш Тот в «Детях чугунных богов», но пересмотрев фильм я понял – нет, не оно. Томаш Тот, с одной стороны, любуется всем этим анархическим разгулом, придуманным Луцыком и Саморядовым, привнося в него настроение, типичное для модного в то время балканского кино, а с другой, снисходительно насмехается над ним. Ни насмешки, ни любования у Луцыка с Саморядовым нет. Есть конструирование мифа, а это – серьезно.
А режиссер Михаил Калатозишвили экранизировал «Дикое поле» и почти убрал из него то самое язычество, такое важное для мифологии Луцыка и Саморядова, заменив на… ну, на условное православие. Получилось хорошее кино, которое лично меня совершенно не зацепило. И беда здесь, видимо, в том, что Калатозишвили, как и его предшественники, не смог поймать нерв сценария Луцика и Саморядова. Мне, правда, сложно объяснить свои претензии к «Дикому полю», потому что это, на самом деле, хорошее кино. То ли прав известный кинокритик, который указывает на излишнюю интеллигентность главного героя, то ли дело – в отсутствии кинематографической смелости, когда тот самый танец на краю пропасти есть, но пропасть огорожена незаметным для зрительских глаз заборчиком. И вот еще что – «Дикое поле» в некоторые моменты оказывается в опасной близости от «Эйфории», чего Луцык с Саморядовым, думаю, не допустили бы никогда. В общем, снова не о том.
На самом деле, странно предъявлять режиссерам претензии – они же часто переделывают сценарии, с которыми работают. Но в случае Луцыка и Саморядова эти претензии предъявлять хочется, и не только потому, что сценарии были лучше (сравнить хотя бы пронзительную драму сценария «Кто-то там, внутри» и криминальную историю «Лимита», из которой просто была вынут основной сюжет сценария – собственно, о любви). Дело в том самом мифе, создаваемом сценаристами и то ли не замеченном, то ли сознательно проигнорированном всеми без исключения режиссерами. Что тоже, в общем-то, понятно – слишком страшно: «…Время теперь смутное, ждать всего можно…» /«Северная Одиссея»/.
После смерти Саморядова Луцык взял их самый жесткий сценарий и снял «Окраину». И оказалось, что он и должен был снимать все эти фильмы. Выбрав эстетику старого советского кино (типа «Чапаева»), он снял великую и кровавую сказку-былину о мужиках, которые ходили за правдой. И дело было не только в сюжете, бережно перенесенном из сценария на пленку, дело было в выбранной стилистике – именно со стилистикой ошибались режиссеры, пытавшиеся экранизировать эти сценарии, со стилистикой и атмосферой. Свободы не хватало, как бы банально это ни звучало, ну и страшно было наверняка. Сейчас бы «Окраину» назвали экстремистским фильмом и наверняка не выдали бы ему прокатное удостоверение – помню, на премьере в питерском Доме кино мне очень хотелось выхватить из кобуры наган, но не было ни нагана, ни кобуры.
Фильмы есть в Сети, книжка продается – это если кто заинтересуется. Меня же не покидает вот какая мысль: много лет российские режиссеры плачут по поводу отсутствия хороших сценариев, между тем, половина сценариев Луцыка и Саморядова не экранизировалась. Но, судя по всему, все еще страшно, да и сил не хватит. «…Сапожникова на Мае убили, Коннов за Колымой погиб. Снегирев в тайге пропал со всеми людьми. Морозов в тюрьме, Сергей Москва в тюрьме… Кроме тебя, Александр Степанович, караван на север вести некому… /«Северная Одиссея»/
Маленькая Грузия
Елена Бочоришвили, «Голова моего отца»
Издательство Corpus умеет и любит делать книжные обложки, которые условно можно назвать интеллигентсткими. То есть такими, мимо который условный я не могу пройти. Вижу такую обложку и понимаю – все, книжку надо брать. Даже если понятия не имею ни об авторе, ни о самой книжке. Именно так произошло в тот момент, когда я увидел книжку Елены Бочоришвили «Голова моего отца» - картинка в стиле, который я, не разбираясь в живописи, описал бы как грузинский примитивизм (это когда в памяти моментально всплывают картины Нико Пиросмани), условного меня не может оставить равнодушным. И, в общем-то, правильно.
А дальше – пять написанных за последние пятнадцать лет маленьких повестей о Грузии ХХ века. О странных людях, которые ссорятся и мирятся, влюбляются и расстаются, смеются и пытаются выжить в условиях, очень сильно приближенных к боевым. Потому что за окном – то Сталин, то гражданская война. Это, по сути, книжки о любви и о смерти, потому что – а о чем же еще писать?
Бочоришвили пишет короткими предложениями, почти телеграфным стилем. Красивая женщина (а, судя по фотографии на последней странице обложки, Елена Бочоришвили – очень красивая женщина) словно сидит перед тобой во дворике жаркой тбилисской улицы и рассказывает, с акцентом выстреливая короткие фразы, в каждой из которых, когда они складываются в историю, – целая жизнь. «Но по-прежнему существовала странная, ничем не объяснимая брезгливость людей, живущих в городе без воды. Никто не садился на скамейку на улице, не подстелив газеты. Люди собирали воду по каплям. Кипятили часами. И вываривали носовые платки. Очень стыдно было не иметь чистого носового платка. Платком вытирали ножи и вилки, прежде чем приступить к еде. Платком вытирали фрукты, если не могли их помыть. Платок доставали из кармана, встряхивали и вытирали слезы, если приходилось всплакнуть на похоронах…» В повестях Бочоришвили очень много похорон, ее герои постоянно умирают, часто – своей смертью. В основном, потому что у них не получается дальше жить. Они умирают от усталости, от безысходности, от отсутствия любви. Повести Бочоришвили очень сентиментальны, но сентиментальны не сопливо, а так, как сентиментальные фильмы Отара Иоселиани или, совсем другие, фильмы Георгия Данелии. Возможно, это – национальное.
Повести Бочоришвили – это магический реализм (что бы ни значило это определение, которое, примененное не к латиноамериканцам, теряет большую часть смысла), но как бы без магии. Это не Маркес – это, скорее, Шалев (интересно, кстати, что писатели, которых условно, очень условно можно отнести к тому самому магическому реализму, так крепко привязаны к национальным традициям, - наверное, какой-нибудь литературовед об этом напишет, если уже не написал). Хотя, конечно, это не Шалев. Это невероятной красоты запутанные истории, в которых ты теряешься, начинаешь блуждать, не узнавать имена, путать даты и события, пока, наконец, не отдаешься водовороту этих имен, этих дат и этих событий, пока не оказываешься захваченным ими, смеясь и плача вместе с героями маленьких повестей. Маленьких повестей про грустных, забавных, растерянных, несчастных и невероятно счастливых людях, которые больше всего на свете любят жизнь и, если умирают своей смертью, то только тогда, когда не знают, как дальше жить.
«Ленина, который сидел на месте крана, били молотками три дня. Сын смотрел, придерживая веко, как крошится мускулистое тело. Голова держалась долго – Ленин не сводил взора с окна Шотико. Люди навалились, и голова покатилась по мраморной площади.
В остальном городе женщины с утра становились в очередь за хлебом и дети ходили в школу, волоча портфели. По ночам выстрелы звучали как плевки. Никто больше не открывал окно и не спрашивал, кого убили. На кладбище сторонников и противников сменяющихся правительств клали в землю рядом. Старики ходили на похороны молодых.
Уже поздно было что-нибудь объяснять Деду. При слове “тюрьма” он начинал плакать. Он регулярно писал письма Отцу, которого не было в живых. “Сынок, у вас тоже стреляют? – спрашивал Дед, выходя из поезда. В высоких сапогах. С чемоданчиком. (поезда еще ходили.) – Я все это видел, только не помню когда”
Дед был уже не тот…»
Косинский, Гловацкий
«Good night, Джези», Януш Гловацкий
Когда у нас начали издавать Ежи Косинского, я практически проглатывал его книжки — не останавливался, пока книжка не кончалась. Первой была, естественно, «Раскрашенная птица» — жуткий, физиологически чудовищный, почти невыносимый рассказ о скитаниях маленького мальчика по военной Польше. Автобиография Косинского — так, во всяком случае, это выглядело. Только потом я стал что-то узнавать про этого писателя. Узнал, что ничего этого с ним не было. Узнал о скандале, который разразился по его поводу, когда его обвинили, что он манипулирует читателем, используя тему Холокоста, что выдает чужую биографию за свою (хотя, справедливости ради, стоит отметить, что Косинский вроде бы никогда не утверждал напрямую, что писал о себе — не утверждал, но и не опровергал), что он списал своего «Садовника» (по этой книжке сняли, кстати, отличный фильм «Будучи там» с Питером Селлерсом) с другой книжки, когда-то давно изданной в Польше. И узнал о том, что загнанный в угол Косинский покончил с собой.
А тут в издательстве «НЛО» вышла книжка польского писателя Януша Гловацкого «Good night, Джези» — про то, как Гловацкий пытался писать сначала пьесу, а потом сценарий про Косинского, а в результате получилась книжка: «Мы пили вино, говорили о самоубийствах, и все шло хорошо, пока я не упомянул, что пишу пьесу о Джези». Книжка оказалась прекрасной — не оторваться, настоятельно рекомендую. Но я не об этом.
Это, пожалуй, лучшее, что можно написать о Косинском — фантасмагорическое расследование обстоятельств жизни вперемешку с какими-то бытовыми зарисовками и снами. В этой книжке очень много героев и очень много диалогов, прошлое смешивается с будущим, а реальность с вымыслом (впрочем, в разговоре о Косинском реальность и вымысел — это почти одно и то же). Не сказать, что Косинский придумал собственную жизнь — скорее он, как герой его «Садовника», просто не протестовал, когда кто-то что-то говорил, домысливал, выдавал желаемое за действительное. По сути, именно «Садовника» можно условно назвать автобиографией писателя — вернее, не автобиографией, а просто книгой, написанной Косинским о себе.
В любом случае, Косинского сделало окружение, свита. И книжка «Good night, Джези» как раз об этом — о людях, которые окружали Косинского при жизни и продолжают окружать его после смерти. «Нет, таких, как Джези, еще поискать надо. Дьявольски уродлив и безумно красив, дико жаден и абсолютно бескорыстен, очень хитер и ужасно глуп. Постоянно кем-то прикидывался, кого-то изображал, у него был незаурядный актерский талант. Я говорю не о роли в “Красных” Уоррена Битти, а в жизни… Будь он только актером, его бы, возможно, не затравили — актерам многое прощают, собственно, не очень понятно почему… Может, в общем и целом от них меньше вреда… Я чувствовал, что он чего-то боится, но боялся он осторожно, а бояться осторожно значит быть агрессивным, он и был агрессивным…»
Вольно или невольно, Косинский запустил вокруг себя безумную театральную постановку, а когда вокруг все закрутилось слишком быстро, не смог (или не захотел) остановить это. А когда захотел, было слишком поздно. Ему вроде бы даже хотели дать Нобелевскую премию, если это не вранье. Но дали Маркесу — это точно правда. А Косинского в очередной раз обвинили в обмане и плагиате. В «Good night, Джези» есть отличный момент, когда кто-то из героев книги перечисляет Косинскому обвинения, выдвинутые журналистами, в частности, что нашлись люди, которые утверждают, что писали за него его книги. На что Косинский справедливо замечает — что же они ничего своего не написали столь же талантливого? А ведь, правда, что же?
«Good night, Джези» — книга о лжи, которая как паутина опутывает человека, причем неважно, чья это ложь — того, кто оказался скованным паутиной или всех остальных. И еще это книга о страхе, о неотступном ожидании развязки, про которую знают все — и читатели, и герои книги, знают и все равно страшатся ее — а вдруг пронесет? Нет, не пронесет.
«Из-за чего все началось? Из-за того, что обыкновенного кошмара им было мало. Вампиры желают больше крови? Пожалуйста, получите. Вот вам песик Иуда, вот вам выгребная яма, вот вам козел, тут и вешают, и насильничают, и ребенок речь потерял — но им это все кажется каким-то безликим. Недостаточно осязаемым, согласен? Какой-то там еврейский мальчишка… им по херу. Тогда ты отправил в эту выгребную яму себя. Вот он я, вонючий, но осязаемый… а потом еще добавил, и еще… Подействовало, они навострили уши. Ты купил их любопытство. Любопытство, но не любовь! Так прокричи же им это, рявкни, наплюй в лицо, расхохочись, только не скули. Им бы хотелось превратить тебя в вороватого пса-приблуду, потому что ты взобрался на такие вершины, какие им и не снились. А потом за ноги и вниз, стая шакалов! Может, уже присмотрели кого-нибудь на твое место, а? Ведь благодаря этому маскараду, который они тебе не могут простить, твою книжку о слезах ребенка прочитали миллионы людей. Тех самых, которые теперь смотрят, как тебя публично ставят раком, и аплодируют…» «Good night, Джези» — книга о том, что толпа жаждет все новых и новых ужасов, а получив желаемое, мстит автору, вымещая на нем свои страхи.
И еще эта книжка о том, что не стоит ждать от людей чего-то хорошего. Такая очень крутая мизантропическая повесть. «Это было “Письмо матери” Есенина, любимая песня урок в лагерях Советского Союза, или России, кому как угодно. Белоруски тоже знали слова и присоединились. Теперь пел уже весь зал: “И тебе в вечернем синем мраке / Часто видится одно и то ж: / Будто кто-то мне в кабацкой драке / Саданул под сердце финский нож”. “Как в церкви, — усмехнулся Рышек”…»