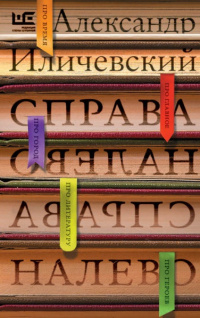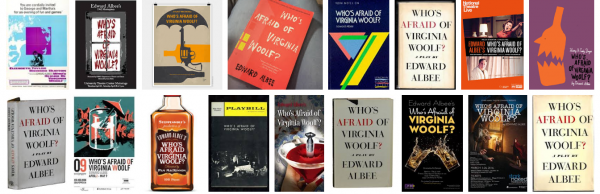"Подмастерье", "Порученец", Гордон Хотон
первой книге дилогии я сообщила граду и миру в "Омаре" еще в 2014-м, а сделать так, чтобы книга досталась и моим друзьям, и друзьям моих друзей, захотела, когда впервые прочла дилогию, — в 2013-м. Понятно, что не всех поголовно завораживают истории о смерти и о том, что может происходить после нее, а для меня рассматривать все возможные варианты за пределами happily ever after (особенно в этой формулировке меня всегда возмущало вот это "ever") — любимая читательская забава. И Хотон, спасибо ему до неба, предлагает двадцать с лишним авторских листов этого удовольствия.
В прошлом эфире, по первом роману, я писала о том, что приклеило меня к этим текстам в первую очередь. Теперь имеет смысл и нужно порассуждать о том, что в этих двух романах возвращает меня к ним все эти годы снова и снова, помимо медитации на смерть, на вопрос, что это означает — быть живым, и из-за чего, в конечном счете, они оказались в "Скрытом золоте", рядом с мэтрами уровня Бротигана, Бартелми или О'Брайена. Важно понимать, впрочем, что калибрами никто тут не меряется, это несерьезно — в частности, и потому, что это совершенно разные высказывания, и по стилю, по форме, и по потоку смыслов, и потому, что романам Хотона чисто хронологически еще предстоит выдержать пресловутую проверку временем, но мы со своей стороны приложили и еще приложим усилия. Русскоязычное издание ожидаем осенью этого года.
Поразительно для меня в этих довольно просто — с сюжетной точки зрения — устроенных романах то, что вот эта огромная черная звезда, тема смерти и ее универсальная функция фотопроявителя для смысла той или иной отдельной жизни и жизни вообще, может на время затмить второстепенные с виду темы, неразрывно с нею связанные. Но если дать этим текстам побыть внутри, попривыкнуть к нестерпимому жару этой черной звезды, проступит и несколько не менее интересных штук, с которыми Хотон работает в первой и второй частях дилогии. Далее — в порядке прихождения мне на ум.
Объективация человеческого тела. Хотон раскладывает перед читателем во всей красе и то, каким странным, неприятным (если не отвратительным) и одновременно чудесным становится (остается?) человеческое тело после того, как человек в нем умер, — и пока он в нем еще сидит! О том, как люди (и не-люди, действующие в романе, и сам автор) обращаются с другими телами, Хотон, со всей очевидностью, думал немало, и в его романах навалом ситуаций — насилие, секс, танец, захоронение, лечение, физические испытания, драки, обслуживание, связанное с прикосновениями, — где читателю постоянно предлагают вглядеться, как одни тела обходятся с другими, по взаимному согласию, без него и в обстоятельствах, когда договориться невозможно, и где она, эта незримая грань сознательного участия в делах других тел.
Ритуальность. Всадники Апокалипсиса и вообще сюжет Откровения Иоанна — одна из основ реальности этой дилогии, и она глубоко церемониальна. Комический эффект, возникающий от того, что всадники "идут в ногу со временем" и меняют коней на типовые автомобили, парадные облачения на футболки и джинсы, ведут обыденные разговоры о том, что там у нас к завтраку, занимаются бюрократической возней, переживают спады настроения, уныние и растерянность, склонны к мелочным страстям и подвержены детским увлечениям, — это все передышки для читателя и, безусловно, необходимая нота здоровой очень английской иронии, совершенно "питоновской". Мне слышна за всем этим никогда впрямую не оговариваемая печаль об утрате человечеством магической стороны жизни — ритуала, самого простого способа соприкасаться с незримым, с волшебным, с необъяснимым. Причем магия тут не в смысле питер-пэновских звездочек в воздухе и добрых фокусов Гэндальфа, а в смысле самого беззнакового волшебства этого мира, которое, вообще-то, для благоговения, а не на потеху детям. Во второй книге об этом, на мой взгляд, даже больше, чем в первой.
Не-всё-устройство. Не могу сказать, нарочно или случайно Хотон так сделал и знает ли он сам во всех исчерпывающих подробностях устройство громадной машины его мира Трех хранилищ, но они остаются за текстом и открывают читателю бескрайнее (!) пространство для спекуляций и додумывания — как, впрочем, и реальность Иоанна Богослова и его Откровения. Я поймала себя на том, что достраиваю за Хотона эту машинерию, проверяю ее на непротиворечивость и — человеческую! — логику, но мне (и никому из нас) никто не обещал, что она там (Там) есть, вообще-то. И вот это сверхжизнеподобно, и от этого немножко голова кругом.
Прямота сообщения. Подобные притчевые книги-о-главном (вторая былиннее первой, и в ней меньше хиханек, хотя ирония никуда не девается) частенько бывают "книгами ответов", рецептами, прописями смысла бытия. Уйти автору от этого очень не просто — слишком уж давно культура вообще и литература в частности бодается с этими темами, и, как ни крути, болтаются в ноосфере отполированные временем голыши "правильных" ответов. Дагласа Эдамза и его элегантное "42" переплюнуть вряд ли кому удастся, это вершина стёба над "великими ответами", но Хотон, с одной стороны, предлагает — в полном соответствии, кстати говоря, с классическими мифологическими конструкциями, — структуру "я спросил у тополя, я спросил у ясеня", а с другой — ухитряется проскальзывать в миллиметре от догматики, и из щели незакрытой этой двери на меня, читателя, будь здоров сквозит честной безответностью. И открытые концы обоих романов — точный финал (продолжение) этой с волос толщиной безответности.

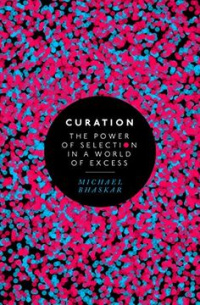



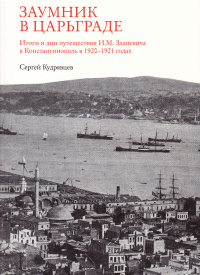






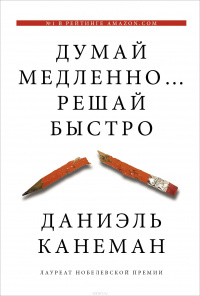

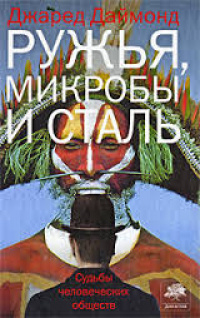
 Курс делится на три раздела:
Курс делится на три раздела: