Аня Синяткина
Читает в общественном транспорте, на ходу, на улице, за едой, вместо сна.
“We owe it to each other to tell stories.” ― Neil Gaiman

Не очень резво и довольно дискретно, но все же начинаю свое задуманное путешествие в глубины сознания великого визионера и параноика Филипа К. Дика. По идее, сделав несколько спиральных оборотов, оно должно привести меня к "Экзегезе". Многотомный сборник отрывочных откровений, которые Дик одержимо записывал по ночам, начиная с 1974 года, уже куплен и ждет меня, но сперва надо набрать базу художественных романов, а то ничего не пойму. Но времени на этот отличный план больше как-то не становится.
У героев "Убика" вот тоже проблемы со временем — они застряли в полужизни, на переходном этапе, когда тело лежит в криокамере, а сознание бродит в некоем виртуальном мире и может быть доступно для общения с живыми. Но мир этот полон загадок и ловушек — и причудливым образом начинает разрушаться. Вещи вокруг персонажей вдруг необъяснимо стареют — причем не как материальные вещи, а как идеи вещей. То, что, было телевизором, станет транзисторным радиоприемником, в лифте появятся створки и консьерж. Стареют не только предметы, но и представления морали, лексикон. Пространство работает по платноновским правилам, материальное внутри него живет и развивается (или регрессирует) как идеальное. Интересно при этом, что и текст, сделанный Диком, устроен точно так же: действие происходит в недалеком будущем, в котором есть криокамеры, колонизация Луны, умная бытовая техника... И, кстати, всепроникающий капитализм — например, чтобы открыть дверь, надо дать ей монетку. Монетку! И так со всем: футуризм идет бок о бок с анахронизмами, приметами эпохи, которые уже и сейчас почти исчезли, — вроде дисков. Которые превращаются у героя в пластинки. Уже сейчас не такая уж большая разница в смысле устарелости. Сами персонажи тоже ветшают и умирают. Хорошо, что есть "Убик" — изобретение особо продвинутых полуживых, которое помогает противостоять неопределенной злойдейской силе. Расспространяется в баллончиках. Побеждает энтропию. Название образовано от слова "вездесущий". Следуйте инструкции на упаковке.
Дик пишет очень to the point, не рассусоливая и ни на полсекунды не притормаживая стремительный сюжет ради размышлений. Философские концепции и идеи встраивает в череду событий сжато, емко и, в общем, по ходу дела, от чего несколько создается впечатление концентрированного философского супа, замешанного на Тибетской книге мертвых (вместо топора, да). Как все люди с громадным воображением, Дик раскидывает идеи щедро, и из них ткется очень своеобразный мир, большая часть образующих конструкций которого только намечается там и сям штрихами, как многомерная декорация, и никак не разрабатывается, что оставляет небывалый простор для вопросов и читательского фантазирования.
У поэта Даны Сидерос есть хороший телеграм-канал «Стихи вместо всего» (@stixi_vmesto), где она постит разные чужие стихи... ну, вместо всего остального, что вообще можно было бы теоретически куда-либо запостить. Очень понимаю этот сантимент. Сегодня у меня стихи вместо эфира. Поэзию Дашевского, ничего не могу поделать, хочется писать вместо всего везде, к нему обращаешься, когда нужен ясный голос, прозрачный, как прохладная вода, и бездонный.
Ты, воздух, всё свое лазурь, лазурь
о духоте, клонящей в сон меня.
И яви ни в одном глазу.
Мне трудно дышать тобою, лжецом таким.
Но солнце ест глаза,
словно оно – дым
от иного огня,
который будет гореть и уже горит.
Оно наклоняет мой взгляд в предлежащий прах,
словно оно – споткнуться страх,
словно оно – стыд.
1988
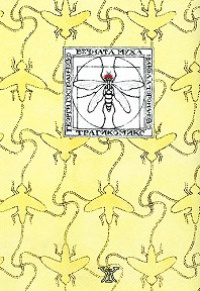
Сегодня будет читерский эфир с картинками, но я не могу удержаться. Ко всему прочему книжка нынешнего эфира еще и на болгарском. Обаятельная графическая история, написанная Георги Господиновым, нарисованная Никола Торомановым. Жанр этой остроумной изобретательной штуки авторы обозначили как «трагикомикс» — и он посвящен мухе! Здесь есть все — от книжки «Старецът и мухата» до фильма «Clockwork fly». Муха врывается во все области человеческой культуры: музыка, кинематограф, литература, религия бесконечно преломляются в мозаике фасеточных мушиных глаз. Разглядывать можно бесконечно.

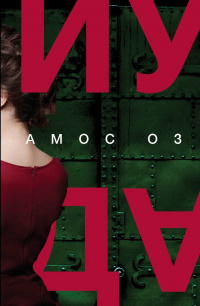
Был такой фантастический рассказ: помню его смутно, а нагуглить не получается, но вроде бы Брэдбери. Двое ученых изобретают подпольный прибор для наблюдения за прошлым. Один из них технолог, другой историк, и их совместный труд — преступление, в мире, где междисциплинарные разработки под строгим правительственным запретом. У пожилого историка идея фикс: с помощью аппарата он мечтает доказать, что карфагенцы никогда не приносили в жертву детей, никогда не сжигали их в печи, никогда, это поклеп, поклеп. Выясняется, что они с женой пережили трагедию — их собственный маленький ребенок погиб в огне дома, и они не знают, не их ли оставленная сигарета начала пожар. Обоих это страшно мучает. Фантастический рассказ, таким образом, превращается в рассказ о неврозе.
Почему-то, пока читала "Иуду", этот рассказ всплывал в памяти несколько раз. Только, конечно, здесь все происходит на уровне сознательной просвещенной рефлексии, сложно устроенной и бесконечно проговариваемой вслух. юноша Шмуэль Аш пишет исследование об Иисусе глазами евреев, и интересует его Иуда. Шмуэль убежден, что Иуда — не предатель, а первый и самый истинный христианин, который привел Учителя к Распятию, потому что верил в Него.
Древняя история накладывается на историю Эрец-Исраель и ее детей середины XX века. Историю старика, потерявшего сына в войне евреев с арабами, и мечтателя, потерявшего мечту о мире между этими народами, заклейменного предателем потому, что верил он чересчур горячо и идеалистично, историю дочери одного из этих мертвых мечтателей и вдовы другого. Все эти одиночества, живые и мертвые, собрались в доме в переулке Раввина Эльбаза, куда приходит жить в мансарду молодой пылкий Шмуэль Аш, которого наняли разговаривать со стариком, — наполняя на короткий своим огнем их угасшие судьбы. Пройдет зима, и он оставит их, а они растворятся в белоснежном Иерусалиме, застывшем во времени и в страданиях, городе-корабле с тысячами одиноких пассажиров-призраков, которые в Иерусалиме "Иуды" плывут вместе, но не могут коснуться и обогреть друг друга.
Сегодня хочу бессовестно принести сюда одно стихотворение из книги, которой еще нет в природе, но которой вы можете помочь случиться, если подпишетесь на сборник до 10 августа. Как честно написано по ссылке на предзаказ, невозможно выбрать одно "репрезентативное" стихотворение из сборника, в котором каждое — особенное, но у меня и нет такой задачи. Это стихотворение меня поразило когда-то в женином ФБ, а сейчас просто пользуюсь случаем. По-моему, оно (как и каждый из его текстов, по-своему) отражает в измерении поэзии то, что прекрасно знают все, знакомые с Женей лично. Его громадную, бесконечную способность соединяться душой с самыми трудными судьбами, вставать и идти рядом с теми людьми, чья жизнь оборвалась давно и жестоко, как если бы времени не существовало и вся боль — и эта тоже — разворачивалась бы прямо сейчас. И это один из верных способов отменить время.
Хармс
В комнате с занавешенными наглухо окнами
Под слоем осыпавшейся еще вчера штукатурки
Человек голодает мерзнет скоро сдохнет и
Останется только дым из плохо закрытой печурки
В комнату через щели заходит с улицы холод
И больше сюда уже давно никто не заходит
Человек еще позавчера был высок и молод
А теперь он стар и пурга на улице хороводит
Мимо окон на санках куда-то едут мертвые дети
Неживые взрослые елозят в снегу руками
Человек их не видит человек сидит на кровати
Но он слышит как кто-то колотит в дверь сапогами
Человек встает мечется но не умеет скрыться
Человека уводят остается лишь дым из печки
Человек крестится его папа учил креститься
Человека ведут к машине незнакомые человечки
Они видят бабу с ведром ведро как всегда пустое
Человечки не верят в приметы они как всегда на службе
Человек представляет число оно как всегда простое
Он садится сзади он мягок сгорблен простужен
Еще будет время и люди в белых халатах
Скрипит кровать и сквозняк открывает двери
Человек не знает кто живет в соседних палатах
Но ночами они плачут почти как дикие звери
А потом человек исчезает врачи говорят от голода
Его длинное тело бросают куда-то в яму но
Его кто-то видел вчера в табачной лавке за городом
Значит жизнь победила смерть неизвестным науке способом
![]()
Расклеивать объявления запрещено!
Писательская техника в тринадцати тезисах
I. Тот, кто намеревается приступить к написанию большого произведения, пусть наслаждается жизнью и, достигнув цели, позволяет себе все, что не препятствует продолжению.
II. Говори о сделанном, если хочешь, но не зачитывай оттуда ничего в процессе работы. Удовольствие, которое ты таким образом приносишь себе, всякий раз снижает твой темп. В конце концов при соблюдении такого режима нарастающее желание рассказать станет стимулом к завершению.
III. Что касается условий работы, постарайся избегать заурядной повседневности. Недостаток тишины, нарушаемой пошлыми звуками, оскорбляет твое достоинство. Напротив, музыкальный этюд или неясный звук голосов могут так же способствовать работе, как звенящая тишина ночи. Если последняя развивает внутренний слух, то первые становятся пробным камнем для слога, полнота которого поглощает даже эксцентричные звуки.
IV. Будь разборчив в письменных принадлежностях. Педантичная привязанность к определенной бумаге, перьям, чернилам приносит пользу. Не роскошь, но полный их набор – обязателен.
V. Не давай ни одной мысли остаться инкогнито и веди свои записи со строгостью чиновника миграционной службы.
VI. Не подпускай к своему перу вдохновение, и перо будет притягивать его как магнит. Чем дольше и осмотрительнее ты выдерживаешь паузу, прежде чем записать осенившую тебя мысль, тем более зрелой и развернутой предстанет она перед тобой. Речь завоевывает мысль, но властвует над нею письмо.
VII. Если тебе ничего не приходит в голову, ни в коем случае не прекращай писать. Дело чести литератора – прерываться только тогда, когда нужно соблюсти договоренность (обед, встреча) или когда произведение закончено.
VIII. Восполняй перебои вдохновения, переписывая начисто то, что уже сделано. Это пробудит интуицию.
IX. Nulla dies sine linea* – но недели можно.
X. Произведение, над которым ты не сидел с вечера до утра, нельзя считать совершенным.
XI. Не пиши концовку в привычной рабочей обстановке. Там ты не сможешь на это решиться.
XII. Порядок сочинения: мысль – стиль – письмо (Schrift). Смысл чистовой рукописи в том, что при ее составлении внимание больше сосредоточено на каллиграфии. Мысль убивает вдохновение, стиль сковывает мысль, письмо дает стилю расчет.
XIII. Произведение – это посмертная маска замысла.
* Ни дня без строчки (лат.)
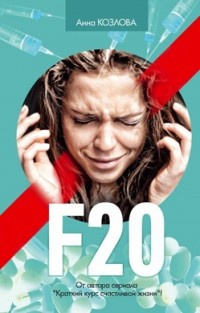
В современной русской литературе привычно зияют целые бездны, поверх которых писатели глядят куда-то в золотую даль, или в национальное возрождение, или в загадочную русско-советскую душу, или еще куда. Лично я вижу вокруг исчезающе мало литературы для себя, о себе, кого-то, кто бы разговаривал на моем языке. Фантастика, янг эдалт и поэзия — да. С внежанровой прозой все как-то очень грустно. Может быть (очень может быть), я просто плохо и мало читаю, вы меня поправьте, если что.
Повесть (это на мой взгляд, автор определяет жанр как кинороман) Анны Козловой "F20", лауреат Нацбеста-2017, вроде бы делает шаг куда-то туда. F20 — код шизофрении в Международной классификации болезни. Главная героиня вырастает и пытается вступить во взрослую жизнь, скрывая свою недиагностированную F20 ото всех, потому что по опыту младшей сестры знает, что шизофрению не лечат, а только превращают тебя в овощ, потому что больница — это ад на земле, потому что ей приходится с раннего детства решать свои проблемы самостоятельно, потому что взрослые вокруг погружены в тяжкие отношения, которым лучше было бы не случаться никогда, нищету и алкоголизм, мучительно скрывая все это от самих себя, а голоса никогда не умолкают, и ты пытаешься найти баланс между степенью потери личности, которую можешь выдержать, селфхармом и зависимым поведением, который сделает жизнь хотя бы приблизительно выносимой. И так выглядит мир очень многих людей, для которых не пишут статьи в глянцевых журналах и все вот это.
«Жизнь стоит прожить, и это утверждение является одним из самых необходимых, поскольку если бы мы так не считали, этот вывод был бы невозможен, исходя из жизни как таковой» — цитата из Сантаяны, которую запихивают в кучу учебных текстов про суицид, и которая завершает книжку. Спасибо автору за честный разговор. Но из-за концовки, честно говоря, кажется, что это этому тексту тоже роднее было бы в янг эдалт. Как если бы автор такого янг эдалта очень, очень доверял молодому читателю.
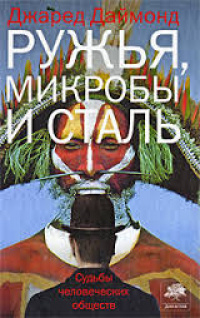
Почему именно европейцы вторглись на территорию коренных американцев и оккупировали ее, а не наоборот? Как получилось, что новогвинейцы оказались обладателями самых примитивных технологий? "Почему капитализм не появился в доколумбовой Америке, исследовательская наука — в Китае, а болезнетворные микробы — в аборигенной Австралии?" Словом, почему на разных континентах и в разных обществах история развивалась так по-разному? На этот вопрос Пулитцеровский лауреат Джаред Даймонд пытается ответить, обозрев историю человечества за тринадцать тысяч лет, — отойдя от факторов локальной культуры и расширив фокус, не пытаясь выдать за "всемирную историю" историю письменных обществ Евразии и Северной Африки. И даже он сознательно и последовательно уделяет им существенно меньше внимания, чем субсахарской Африке, Северной и Южной Америке, архипелагам Юго-Восточной Азии, Автстралии, Новой Гвиниее, островам Тихого океана. Главный тезис автора, скажем так, интуитивно-понятный — эволюция различных сообществ складывалась по-разному из-за разных условий обитания (а не из-за разницы в человеческой биологии). Но изложение захватывающих подробностей схватки людей с обстоятельствами — драматично, как "Игра престолов".

Пролистывала я тут по рабочей необходимости детективы британки Анжелы Марсонс — я не большой читатель детективов сейчас, нормальные добротные психологические триллеры такие, но, как говорится, with a twist. Они насквозь феминистические. На этом нет акцента, это заметно только потому, что они устроены как зеркальное отражение «мужской» жанровой литературы. Главная героиня Ким Стоун занимает условную нишу «положительного главного героя с неприятным характером» — угрюмая, бесцеремонная, замкнутая, одинокая, саркастичная. И с тяжелым детством, полным тайн. Но блестящий сыщик, за что ее и терпят. Но это только верхушка айсберга. Женщины-полицейские, женщины-маньяки, второстепенные и первостепенные персонажи, женщины с моральными травмами и физиологическими особенностями. Куча женщин-профессионалов: притом показано, как окружающие мужчины могут пренебрежительно относиться к их навыкам, или, наоборот, могут нуждаться в том, чтобы им показали, как правильно что-то делать. Женщины ведут сюжет и совершают важные выборы и поступки. Женщины решают конфликты между собой. Мужчины там тоже, конечно, есть, но они все на втором плане. Например, у героини нарисовывается фоном намек на романтический интерес, но мысли о нем ни в коей мере не могут отвлечь ее от чего-то по-настоящему важного — работы, жизней, которые надо спасти и т.д.
С одной стороны, не очень здорово, что это бросается в глаза, — так много оно говорит о контесте, от которого отталкивается Марсонс. С другой стороны, отрадно, когда есть такой масс-маркет. Отрабатывать еще и отрабатывать, не один десяток лет.
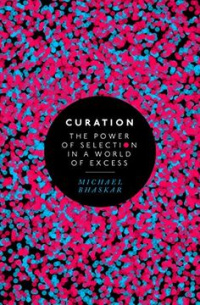
Майкл Баскар — издатель цифровых книг, соучредитель издательства Canelo. Я не знала, а это именно он создал довольно уже легендарную (как я понимаю) электронную книжку-приложение "80 дней" по Марку Твену, взорвавшую в свое время аппстор. Баскар берет слово "кураторство" и выворачивает его наизнанку с целью рассмотреть, что же оно теперь означает такое в изменившемся мире. Дело в том, что это слово выпало из своего обычного арт-музейного контекста и превратилось в бесящее всех модное обозначение, которое натягивают на все подряд. Кураторы плейлистов, кураторы блогов, кураторы ресторанного меню. Если в русскоязычной среде этого пока не так много, но ростки видны и здесь. И не зря! Считает Майкл Баскар. Раз слово есть и живет, значит, не отвешивать губу на него надо, а изучать причины такого широкого употребления и процессы, которые за этим стоят. Вкратце, следуя его изложению, — причина в перенасыщении рынка, изобилии всего, которое топит нас и заставляет иногда отказываться от выбора вообще. Всего очень много. Больше не надо. В такой обстановке важнейшей становится работа уже не самого творца или производителя, а того эксперта, который разбирается в каком-то поле и сможет вынести суждения, стать законодателем вкуса, совершить работу по отбору и оформлению, благодаря которому потребителю достанутся сливки. Мало того, по мнению Баскара, кураторский подход ко всему-всему — главнейшая современная тенденция, которая может привести к чему угодно: то ли нейросети захватят мир, то ли все спасутся в осознанном различении и заботе о качестве информации и вещей.
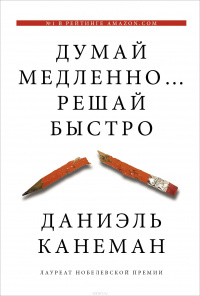
Название книжки почему-то перевели именно так, как перевели, хотя в оригинале она называется Thinking, Fast and Slow. Это, в отличие от русифицированного, отражает теорию, которую излагает Даниэль Канеман. Канеман — один из основоположников психологической экономической теории (Нобелевку в 2002 году он получил именно по экономике — но за использование психологических методов, «в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределённости»). Для того, чтобы объяснить, каким образом ошибки мышления обусловшены самим механизмом этого мышления, он выделяет две «системы». Они и есть главные воображаемые персонажи этой книги, не существующие на самом деле, но успешно работающие как модель сознания.
Система 1 — срабатывает моментально, автоматически и почти незаметно
Система 2 — сознательные умственные усилия
Хотя Система 2 считает, что распоряжается в человеческом уме она, Канеман постулирует, что именно Система 1 порождает впечатления и чувства, которые потом становятся главным источником убеждений и сознательных выборов Системы 2. Как из их взаимодействия рождается несовершенство и сложность человеческого способа думать, почему в хорошем настроении мы более склонны к логическим ошибкам, откуда у нас возникает иллюзия истины и что такое эффект ореола — все это и многое прочее увлекательно и очень внятно излагает Канеман. Пылко рекомендую книжку всем, кто внимательно относится к работе своего сознания.

Недавно почивший Анатолий Георгиевич Алексин написал самый чудесный детский детектив всех времен и народов, «Очень страшную историю». Как школьный литературный кружок им. местного писателя Гл. Бородаева едет на писательскую дачу, и там случается ужасное! или не случается. И все это записывает начинающее литературное дарование, шестиклассник Алик «Детектив» Деткин.
Мне было лет шесть, и мы с мамой потом полгода разговаривали так: «Судьбе было угодно, чтобы я не доела суп», «Острая наблюдательность подсказала мне, что ты забыла ключи» и пр. И еще я немедленно завела себе тетрадку под детективную повесть, конечно.
*
А мои родители уверяли, что увлечение детективами — «это мальчишество». О, какие
легкомысленные, поспешные выводы мы порой делаем!.. Да, «Тайна старой
дачи» меня потрясла. Там было все, что я так ценил в художественной
литературе: убийство и расследование.
*
Это был человек лет тринадцати. Ростом он был высок, в плечах был широк.
Если Принц Датский узнавал, что у кого-нибудь дома происходит важное
событие, он хватал бумагу и карандаш, убегал, чтобы побыть в
одиночестве, а потом возвращался и говорил:
— Вот… пришли на ум кое-какие строчки. Может, тебе будет приятно?
Он совал в руки листок со стихами и убегал. Большая физическая сила сочеталась в нем с детской застенчивостью.
*
От самого дня рождения я никогда не был ветреником. И никогда не вел
рассеянный образ жизни. Наоборот, постоянство было моей яркой
особенностью. Наташа нравилась мне с первого класса. Она была полна
женского обаяния.
*
А природа между тем жила своей особой, но прекрасной жизнью…
Погода была отличная! Лил дождь, ветер хлестал в лицо, земля размокла и
хлюпала под ногами… «Это создаст нужное настроение, — думал я. — Ведь
мы едем не развлекаться, а на место таинственного преступления!» —
Пушкин любил осень, — сказал промокший Покойник. — Спрашивается: за
что?..
*
«Выходной день — воскресенье», — прочитал я на облезлой табличке.
О, какие печальные сюрпризы подсовывает нам жизнь!

«Я хочу сменить систему: ничего больше не разоблачать, не интерпретировать, но обратить самопознание в наркотик и через него получить доступ к полному видению реальности, к великой и ясной грезе, к пророческой любви.
(А что, если сознание — подобное сознание — и есть наша человеческая будущность? Что если на еще одном витке спирали, в один прекраснейший всех день, с исчезновением всякой реактивной идеалогии, сознание станет наконец — снятием различия явного и тайного, видимого и сокрытого? Что если от анализа требуется не уничтожить силу (и даже не исправить или направить ее), но только ее украсить — художественно? Представим себе, что наука об оплошностях откроет однажды свою собственную оплошность и что эта оплошность будет новой — неслыханной — формой сознания?»
 Миранда Джулай — поразительная, экзотическая психованная фея, задающая людям неудобные вопросы for the art, независимый кинорежиссер, писательница, современный художник. Сборник ее рассказов «Нет никого своее» давным-давно выходил в Лайвбуке, а вот ее первый роман должен выйти осенью в Эксмо в офигительном, как обычно, переводе Шаши. Начиная читать, я ничего не знала о сюжете и, честно говоря, считаю, что так с этой книжкой лучше всего — не иметь никаких предварительных мнений, не знать, что случится за каждым поворотом страницы. Полностью отдаться тому специфическому трепету, когда понятия не имеешь, чего ожидать, но в какой-то момент, довольно быстро, осознаешь: ты в полной власти опасного и непредсказуемого автора, он ведет причудливую эмоциональную игру и в любую следующую секунду может сделать с тобой что угодно. Как в одном из перформансов Миранды, где она вызывает на сцену добровольцев и задает им самые болезненно личные, самые неожиданные, странные и неловкие вопросы, на которые им приходится отвечать перед целым залом людей. Эта книжка тоже задает вопросы, на которые вам, возможно, не захочется отвечать — вот о чем имеет смысл предупредить вместо того, чтобы описывать фабулу, знание которой вам не просто не пригодится, а ровно наоборот. Миранда дьявольски проницательна в том, что касается того, как устроены истории, которые мы рассказываем сами себе, и настоящие истории чувств, которые происходят с нами там, мы предпочитаем не заглядывать. Неподдельная, бьющая живой человеческой кровью правдивость и точность множества мелких ходов и деталей выдает привычку пристально и подолгу смотреть внутрь себя самой, с детским спокойным любопытством и беспощадностью разбирая на составляющие то, что организовывает личность. Миранда много думает о социальных условностях и потаенных людских желаниях, сексе, невротическом вытеснении и его причудливых механизмах, границах между игрой и насилием. Чтобы заглянуть в этот лунапарк вместе с ней, требуется благородное неистовство определенного сорта. Не обещаю, что вам понравится, но вы наверняка оцените интимную утонченность его аттракционов и, вероятно, узнаете кое-что о себе — если сможете себе разрешить.
Миранда Джулай — поразительная, экзотическая психованная фея, задающая людям неудобные вопросы for the art, независимый кинорежиссер, писательница, современный художник. Сборник ее рассказов «Нет никого своее» давным-давно выходил в Лайвбуке, а вот ее первый роман должен выйти осенью в Эксмо в офигительном, как обычно, переводе Шаши. Начиная читать, я ничего не знала о сюжете и, честно говоря, считаю, что так с этой книжкой лучше всего — не иметь никаких предварительных мнений, не знать, что случится за каждым поворотом страницы. Полностью отдаться тому специфическому трепету, когда понятия не имеешь, чего ожидать, но в какой-то момент, довольно быстро, осознаешь: ты в полной власти опасного и непредсказуемого автора, он ведет причудливую эмоциональную игру и в любую следующую секунду может сделать с тобой что угодно. Как в одном из перформансов Миранды, где она вызывает на сцену добровольцев и задает им самые болезненно личные, самые неожиданные, странные и неловкие вопросы, на которые им приходится отвечать перед целым залом людей. Эта книжка тоже задает вопросы, на которые вам, возможно, не захочется отвечать — вот о чем имеет смысл предупредить вместо того, чтобы описывать фабулу, знание которой вам не просто не пригодится, а ровно наоборот. Миранда дьявольски проницательна в том, что касается того, как устроены истории, которые мы рассказываем сами себе, и настоящие истории чувств, которые происходят с нами там, мы предпочитаем не заглядывать. Неподдельная, бьющая живой человеческой кровью правдивость и точность множества мелких ходов и деталей выдает привычку пристально и подолгу смотреть внутрь себя самой, с детским спокойным любопытством и беспощадностью разбирая на составляющие то, что организовывает личность. Миранда много думает о социальных условностях и потаенных людских желаниях, сексе, невротическом вытеснении и его причудливых механизмах, границах между игрой и насилием. Чтобы заглянуть в этот лунапарк вместе с ней, требуется благородное неистовство определенного сорта. Не обещаю, что вам понравится, но вы наверняка оцените интимную утонченность его аттракционов и, вероятно, узнаете кое-что о себе — если сможете себе разрешить.
Я про эту книжку еще потом напишу, наверное, от нее так просто не избавишься.

но взрослые не припомнят
а боги им не подскажут
тело-свинья не выдаст
и выдаст, а не возьмут
а выйдет душой в потемки
путями кровоподтека
а вынесет на подносе
доносчику первый кнут
Картиночный эфир. Янина Вишневская и Олег Пащенко — каждый сам по себе шаман и шаман, поющие "поверх великого ничего". Под одной обложкой это две песни — визуальная и текстовая, которые переплетаются причудливым образом, создавая экзистенциальный поэтический комикс, ультра-современная форма разговора о тварях и боге.

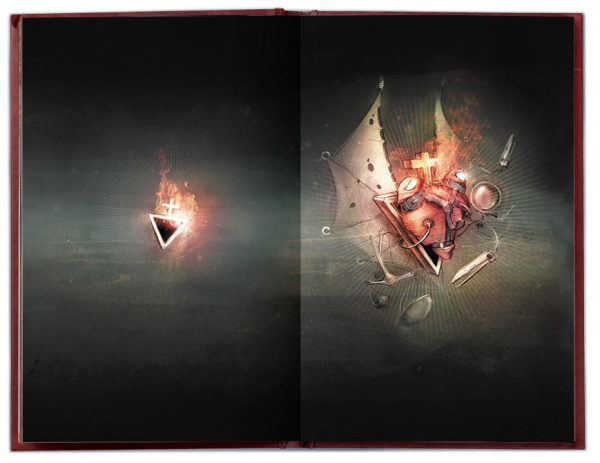


Откопала в Додо букинистику — классическую книжку Михаила Ямпольского по visual culture, исследование визуальной культуры от эпохи романтизма до начала прошлого века. Вот отрывочек к размышлениям о компьютерной метафоре сознания.
Хилель Шварц в своем очерке современной "кинестетики" справедливо указал на то, что современная культура машин, репортажной фотографии, кинематографа, синкопированной музыки и научной организации труда приучили людей к сознанию "изолированных моментов, но также и к дроблениюих собственных движений, их расщеплению в режиме множественной перспективы и бесконечного множества ракурсов". Эту атомизацию образов Шварц относит к области "кинецептов" (kinecepts), то есть реального кинестэтического опыта, который он противопоставляет сфере "кинестрактов" (kinestructs) — или кинестетических идеалов. Кинестетический идеал, по его мнению, выражает прямо противоположную тенденцию к непрерывности органического движения, ясно проявляемую в эволюции танца от фиксированных поз к подчеркнутой континуальности движения. Таким образом, отрыв "органической" континуальности от корпускулярности мгновенного зрительного восприятия выражается и во все более видимом разрыве между реальным кинестетическим опытом и его идеалом.
Гастон де Павловский в 1912 году опубликовал полуроман-полутрактат "Путешествие в страну четвертого измерения". Помимо иных уже знакомых нам мотивов (автомобиль как "новое животное") здесь описывается новая раса людей, способных видеть невидимое. Для этогоим служит специальный прибор "афаноскоп". В результате мозг новых людей заполоняет хаотический поток несущихся образов:
"Воспринимаемый в форме световых впечатлений, этот обескураживающий хаос увлекалих сознание, ломал окружавшие их афаноскопы и высвобождал в их обезумевшем мозгу настоящую бурю".
На следующий день эти сверхзрячие люди превращаются в обломки "слишком сложных машин". Катастрофа "афаноскопов" Павловского отражает несогласованность между хаосом моментальных восприятий и непрерывностью движения машины.
Новая метафорика зрения уходит корнями в докинематографическую эпоху, в период всеобщего увлечения оптическими игрушками, созданными на основе вращающихся дисков, "колес", всевозможными фенакистископами, зоотропами, праксиноскопами. Некоторые мотивы, например, "Евы будущего" Вилье, безусловно связаны с оптическими иллюзиями середины XIX века. Некоторые игрушки, такие как фенакистископ, даже внешне напоминали "модель" Иксионова колеса, аттракцион "кубистера".
Бодлер в "Морали игрушки" описывает этот прибор. На его диске нарисованы танцовщик и жонглер, расположенные по периметру вокруг центра:
"Скорость вращения превращает двадцать прорезей в одну круговую, сквозь которую вы видите отражающихся в зеркале двадцать танцующих фигурок, совершенно одинаковых и выполняющих с фантастической точностью одни и те же движения. Каждая фигурка использует двенадцать других. Она вращается на круге, и скорость делает ее невидимой; в зеркале, видимом через вращающееся окошко, она предстает неподвижной, исполняющей на месте все те движения, которые распределены между двадцатью фигурами".
Такого рода "машины" метафорически помещаются внутрь сознания. Шарль Кро, как и его друг Вилье, увлекавшийся пред-кинематографическими аппаратами и даже претендовавший на изобретение фонографа, написал трактат "Принципы церебральной механики" (1879), где попытался описать функционирование сознания через аналогии с механикой и машиной. Трактат сопровождался пояснительными чертежами, изображавшими психический механизм в виде мельницы с рукоятками и дисками. Кро писал, что его механика, его машины изобретены априори и позволяют как бы наблюдать за скрытыми от взгляда исследователя психическими функциями. Показательно при этом, что Кро в дальнейшем энергично отвергал любые "обвинения в материализме", которые мог вызывать его трактат. Для Кро речь шла о противоположном — о почти мистическом приближении к непостижимому, загадочному, тайному И тайна тут заключалась в возможности перехода от множественности атомизированных картинок (двадцать танцоров Бодлера) к некой непрерывности движения самого механизма. Иными словами, это тайна перехода от хаоса материи к сознанию, обладающему непрерывностью.

Сборник статей, выпущеный несколько лет назад Европейским университетом в Санкт-Петербурге (который сейчас лишили образовательной лицензии, что само по себе очередной позор властей). Книга посвящена анализу категорий вины и позора, как они маскируют определение границ между приемлемым и неприемлемым поведением в обществе и обеспечивают комплекс идей, с помощью которого государства осуществляют контроль. Много интересного: статья Юлии Барловой о дискурсе виновности и проблемы профессионального нищенства в восприятиях и оценках бедности в России в Новое время; статья Ольги Саламатовой «Бедные как объект дисциплинарной политики: наказания за бродяжничество и преступления против нравственности в графстве Миддлсекс в период правления ранних Стюартов»; статья Ольгой Кошелевой о провинностях и наказаниях в воспитании российского юношества в XVIII столетии, Натальи Пушкаревой — о позорящих наказаниях для женщин в России XIX — начала XX вв., и мн. др.
А вот любопытное из текста Анн-Мари Килдей «Травма, вред и унижение: реакция общины на девиантное поведение в Шотландии раннего Нового времени»:
Английские историки предпочитают использовать термин «какофония» (rough music), а не «шаривари» при описания разных форм общественного унижения, практиковавшегося здесь с конца XVI в. Какофония заключалась в жуткой дисгармонии звуков, обычно сопровождавшейся представлением или ритуалом, смысл которого состоял в вульгарном осмеянии и посрамлении тех, кто нарушил отдельные общественные нормы. Какофония имела разные формы в соответствии с обстоятельствами каждого конкретного дело, но обычно они «...являлись исключительно ритуализированным выражением враждебности» и могли наносить физический и моральный вред. Подобно грохоту или «музыке», исполнявшейся членами общины в виде лязганья крышек и горшков вблизи места жительства нарушителя для привлечения внимания к разворачивавшейся сцене действий, событие могло включать «...таскание жертвы (или ее заместителя) на жерди или осле, маскарад и танцы, сложные речитативы, грубые пантомимы или уличные представления; показ и сожжение чучел, а также все вышеперечисленное одновременно».
<...>
Считалось, что поддержка патриархальных ценностей внутри семьи служила основой для последующего подчинения государству. Следовательно, любая угроза патриархатной системе потенциально угрожала всему обсщественному и политическому порядку. С 1560-х гг. эта угроза исходила главным образом от непокорных, независимых женщин, что лучше всего подтверждалось значительным увеличением дел против таких женщин в английских судах. Женщин, нарушавших границы нормального, приемлемого женского поведения, например попытавшихся управлять своими хозяевами или мужьями, следовало укорять и напоминать им об их месте как дома, так и в обществе.
<...>
В общем, английская историография общинных позорящих наказаний выяаила несколько ключевых характеристик данного обычая. Во-первых, хотя эти случаи и имели бунтарскую сущность, их процедура совсем не была спонтанной, поскольку для эффективности какофонии ее мишень должна была бы быть признанным членом общины, а само наказание налагалось на основе сознательного решения большинства членов общины. Во-вторых, в Англии раннего Нового времени классовая иерархия, скорее всего, не полностью ограничивала какофонию плебейской культурой, как показывают примеры применения ритуала против землевладельцев и знати. Однако обычно такое оскорбление чаще всего практиковалось в народной среде. Наконец, английские историки обнаружили, что обесчещенными жертвами данного ритуала чаще становились мужчины, нежели женщины, а когда мишенью становились женщины, то позор обрушивался на их чучела, а не на них лично.
Однако подобных исследований соответствующих шотландских ритуалов данного типа общинного опозоривания еще нет. Это удивительно, так как недавние исследования показали, что благодаря специфическому соотношению правоохранительных и церковных властей в Шотландии сложился относительно уникальный контекст для возникновения уголовных инициатив и реакций на их нарушение. Например, участие шотландских женщин в криминальных деяниях было гораздо более значительным по сравнению с обнаруженными данными в других европейских странах в раннее Новое время. Шотландские женщины не всегда полагались на мужчин-сообщников, когда совершали уголовные преступления, что является обычным для других стран; скорее, они сами активно совершали преступления, даже с применением насилия.
Отчасти высокий процент упоминания женщин-преступниц в шотландских обвинительных приговорах отражает озабоченность властей женским девиантным поведением. В раннее Новое время Шотландия была глубоко проникнута кальвинизмом. Любой, нарушивший границы приемлемого поведения, мог ожидать безжалостой реакции судебных властей. Особенно это касалось женщин-преступниц, причем не только в силу плохого поведения, но и из-за несоответствия нормативным феминным качествам. В ответ шотландские власти считали подходящим создавать негативные примеры девиантных женщин посредством судебных процессов, высокого уровня обвинительных приговором и изощренных наказаний. На практике это означало, что в Шотландии раннего Нового времени функционировала система постоянного надзора, в который активно были втянуты высшие чины шотландской церкви. В тесном сотрудничестве церковь и судебная система создали особо эффективную структуру предварительного розыска, посредством которой выявляли подозреваемых, затем их арестовывали и допрашивали до суда.

Авторы «Вторжения жизни» смотрят на интеллектуальную историю XX века через частную жизнь самих филосософов. 25 известных мыслителей от Поля Валери до Нади Петёфски — и как их теория соотносится со сферой приватного. Можно читать насквозь, можно интересующие главки отдельно. Вот о Сартре:
Путаницу между миром и языком он трактует весьма невозмутимо – как дело прошлое: «Открыв мир в слове, я долго принимал слово за мир». Но во всем, что написал Сартр в «Словах» и позднейших книгах, видно, что этот самоосвободительный жест был половинчатым, нерешительным. После детства жизнь еще отнюдь не сразу ринулась в действительность. Скорее, Сартр пытается сидеть на шпагате, балансируя между жизнью и письмом. Это шаткое равновесие относится, несомненно, к самым пленительным чертам его творчества.
В раннем романе Сартра «Тошнота» (1938) голод по реальности становится ошеломляющим:
«Чтобы самое банальное происшествие превратилось в приключение, необходимо и достаточно его рассказать. Это-то и морочит людей; каждый человек – всегда рассказчик историй, он живет в окружении историй, своих и чужих, и все, что с ним происходит, видит сквозь их призму. Вот он и старается подогнать свою жизнь под рассказ о ней».
Это звучит так, как если бы герой романа толкал язык (а значит, и сам роман!) в тупик, как будто речь идет только о том, чтобы «существовать» и сталкиваться с теми вещами, которые не составляют «декорацию», а «освободились от своих имен» и предстают «гротескными», «своенравными», «колоссальными». И все же в конце книги Сартр делает ставку на одну особую форму повествования или «истории», которая должна быть «твердой, как сталь» (т. е. как жизнь!): «Скажем, история, которой быть не может, например, сказка. Она должна быть прекрасной и твердой как сталь, такой, чтобы люди устыдились своего существования». Задним числом, в тех же «Дневниках странной войны», он пишет о том, что он называет «биографической иллюзией» (предвосхищая тем самым критику ее у П. Бурдьё): «Я дошел до границы того, что называю биографической иллюзией, состоящей в убеждении, будто прожитая жизнь может походить на жизнь рассказанную». При этом Сартр остается приговорен к «своему желанию писать»: в «Дневниках странной войны» он характеризует себя как «воздушное создание», тогда как нужно было бы быть «из глины». То, что Кьеркегор пишет в «Или – или» об эстетической дистанции, о непрямом удовольствии от удовольствия, Сартр, конечно, не ссылаясь на Кьеркегора, относит к себе:
«Мои самые великие страсти суть не что иное, как нервные движения. В остальное время я чувствую наспех, а затем развиваю это на словах, тут немного нажму, там – немного натяну, и вот построено образцовое ощущение – прям печатай в книжку. Я ввожу в заблуждение, произвожу впечатление чувствительного, а на самом деле я – пустыня.
Не думаю, что слишком обобщу, если скажу, что основная моральная проблема, до сих пор меня занимавшая, является в итоге проблемой отношений искусства и жизни. Я хотел писать, в этом сомнения не было, в этом никогда не было сомнения; только рядом с этими чисто литературными трудами существовало "остальное", то есть все: любовь, дружба, политика, отношения с самим собой, да мало ли еще что».
Сегодня будет эфир с картинками, потому что в "Додо" распродажа отличных книг по живописи и дизайну, и я, конечно, не могла в этой распродаже не покопаться как следует. Очень много полезнейшх книжек, которые пригодятся всем, кто работает с изображениями и отдельно — с книгой. Вот в "Эволюции дизайна", например, 40 кейсов разбираются с точки зрения фундаментальных аспектов дизайна, стратегии и концепции, весь рабочий процесс раскладывается на составляющие элементы. Рассказывают сами дизайнеры — на что они опирались, каким образом придумывали и о чем помнить, чтобы получить выразительную и эффективнцю визуальную коммуникацию.
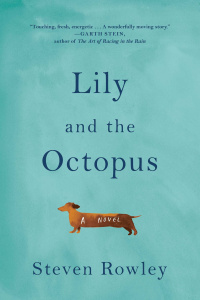
Я вообще-то активно не люблю книжки, где страдают собачки. Но Стивен Роули мою нелюбовь перехитрил.
В общем, жил-был сорокадвухлетний Тед, и жила-была у него старенькая такса Лили. Тед только что расстался с бойфрендом, с которым они шесть лет были вместе, и вообще у него все не очень. Лили теперь для него — самое близкое существо. С ней можно смотреть телик, сплетничать и гулять, и она безусловно любит Теда. Лили никогда не причинит ему боль — в отличие вот от того парня, или от матери Теда — которой он боится сказать «я тебя люблю», потому что не хочет услышать ответ.
У таксы в этой небольшой обаятельной книжке есть свой характерный голос, которым она вмешивается в повествование и общается со своим непутевым хозяином. И все бы ничего, но тут Тед обнаруживает на голове у Лили шишку в виде осьминога — это опухоль, которая означает, что собачка скоро умрет. И тут происходит странное. Тед вообще перестает думать о Лили и о ее болезни. Зато он начинает думать об осьминоге. Осьминог занимает все больше и больше места в его воображении, становится потусторонней зловещей сущностью, которая строит козни и котороую необходимо победить. Тед постоянно придумывает, как им с Лили убить осьминога, и во всех своих несчастьях прозревает его вредительское щупальце. Осьминог внезапно обретает голос. Осьминог появляется из самых неожиданных мест. Осьминог причудливо искажает пространство вокруг и в конце концов история превращается в полную фантасмагорию — Тед берет яхту и вместе с Лили плывет в море, где сражается с чудовищным осьминогом один на один.
Как мы понимаем, Тед проигрывает.
Несмотря на то, что все это очень грустно, Роули умудряется всю дорогу оставаться легким и ужасно самоироничным, метко и проницательно описывая происходящее в голове Теда, но каким-то чудом не скатываясь в сентиментальные розовые сопли. Роули этот роман написал, чтобы справиться с собственным горем, так что история автобиографичная. Рукопись отвергли 30 литангентов, пока она не попала в издательство, где все прочли, страшно растрогались и в два дня купили права на книжку за баснословные для дебютанта деньги.
«Лили и осьминог» — это честно предъявленный опыт о себе, о принятии потери, о любви в самой ее уязвимой точке, о том, как и почему мы отстраняемся от самых близких, и о том, как трудно любить кого-то живого.
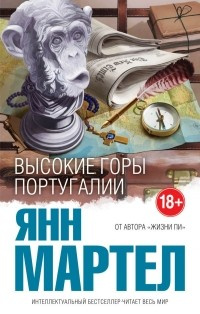
Эркюлю Пуаро нередко делают замечание по поводу его
иностранного происхождения. Он снова и снова спасает положение. Иностранец, чье
вмешательство несет спасение, – разве в нем не угадывается образ Иисуса? Эти
наблюдения заставили меня взглянуть на детективные истории Агаты Кристи в новом
свете.
Единственный современный жанр, звучащий в столь же высоком нравственном регистре, что и Евангелия, – это низкопробный детектив. Если бы мы поместили детективные истории Агаты Кристи над Евангелиями и просветили их насквозь, мы непременно заметили бы их соответствие, сходство, согласованность и равнозначность. Мы обнаружили бы в них немало совпадений и подобий в повествовании. Они точно карты одного города, притчи об одной жизни.
(А также, чем Евангелия похожи на «Убийство в Восточном экспрессе»).
Чтобы описать, как эта небольшая книжка прекрасна, необходимо и достаточно пересказать ее сюжет, а именно этого-то делать и нельзя. Гораздо веселей ее читать, не зная о содержании толком ничего и ничего не ожидая. Попробую акккуратненько пройти между этими Сциллой и Харибдой.
Надо сказать, что «Высокие Горы Португалии» строго показаны тем, у кого в организме острый сезонный недостаток Сарамаго, его беспечных отношений с тканью реальности, его тягучей узорчатой прозы (но Мартел пишет «легче» и снисходит до абзацных отбивок). С другой стороны, роман мне напоминает «Историю мира в 10 1/2 главах» Джулиана Барнса. Образы и мотивы точно так же кочуют из одной части в другую, преображаясь и связывая все происходящее в единую песню о человечестве. Только здесь части три, а время действия растягивается на один век — впрочем, текст раскрывается внутрь себя и у читателя на глазах становится всеохватным, вмещая всю любовь одного живого существа к другому, которая когда-либо случалась на этой Земле.
Три истории такие.
1904 год. У Томаша умерли любимая, маленький ребенок и отец — в одну неделю. Томаш берет драндулет своего дяди — один из первых автомобилей и, сжимая в руке дневник священника-миссионера отца Улиссеша, пускается в путь по Португалии. В дневнике написано, что отец Улиссеш изготовил некий артефакт, который, если его найти, якобы откроет всем глаза на главную истину христианства.Томаш и понятия не имеет, куда его это путешествие заведет.
Тридцать пять лет спустя. Патологоанатом Эузебью Лозора работает допоздна, и к нему является необычный посетитель с трупом в чемодане.
Еще полвека спустя. Канада. Сенатору Питеру Тови проводят экскурсию по Институту изучения приматов. Он встречается взглядом с одной из обезьян, и судьба его с того момента предрешена.
Это история о поиске Бога, и, прежде чем начать ее читать, имеет смысл вспомнить интересный факт о носорогах. Кажется, впервые азиатского носорога описал греческий историк Ктесий. Позже образ носорога трансформировался (по дороге подтянули Ветхий Завет и другие источники) и в Средневековье окончательно оформился в то, что мы знаем, как мифическое животное единорог, — символ духовной чистоты, духовных исканий, символ Христа. У Мартела в «Высоких Горах Португалии» свой остроумный и проницательный взгляд на искания — но они будут вознаграждены. Некоторым образом.
Однажды у великого фантаста Филипа Дика случилось религиозное откровение. Ему с собой вообще было 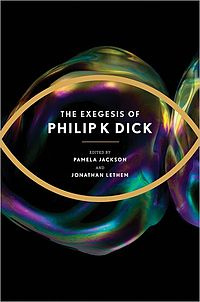 непросто: к примеру, он как-то написал письмо в ФБР, заявляя, что Станислав Лем — это несколько человек, и все коммунистические агенты. За полгода до этого, весной 1974 года он пережил операцию на челюсти. Он сидел дома и ждал курьера из аптеки с болеутоляющим. Когда в дверь позвонили, открыл и увидел девочку с крафтовым пакетом. У девочки на шее был кулон в виде золотой рыбки. Дик взглянул на кулон и мнговенно испытал Высший Смысл — это Бог, он же "Зебра", он же "Всеохватная Активная Живая Система Разума" (все эти имена Дик нашел потом). Опыт знакомства с этой штукой продолжался март и апрель. С тех пор Филип Дик не мог успокоиться, продолжая разгадывать и интерпретировать то, что он ощутил. На материале этого откровения он написал несколько романов. А еще каждый вечер он садился записывать свои религиозные и философские идеи — и писал всю ночь напролет, иногда по 150 страниц, от руки. За остаток его жизни получилось около 8 000 листов визионерского журнала. После смерти Дика его друг Пол Уиллиамз рассортировал весь этот ворох бумаг в 901 папку, где они до сих пор и пребывают, и хранил у себя в гараже. Все это так там и пылилось, безо всякой надежды на публикацию, пока не пришли молодые и безумные исследователи во главе с Джеем Кинни, которые совершили огромный труд — инвентаризовали и скопировали бумаги. Следующим поколениям уже было от чего отталкиваться, и вот, не так давно появился большой том под редакцией Памелы Джексонс и Джонатана Летема, очередных героев и фанатов, взявшихся расшифровывать и готовить "Экзегезу" к печати. Это наиболее полное издание на сегодня, но и там только одна десятая — 900 с лишним страниц, которые могут стать небывалым приключением для чьего-то еще сознания.
непросто: к примеру, он как-то написал письмо в ФБР, заявляя, что Станислав Лем — это несколько человек, и все коммунистические агенты. За полгода до этого, весной 1974 года он пережил операцию на челюсти. Он сидел дома и ждал курьера из аптеки с болеутоляющим. Когда в дверь позвонили, открыл и увидел девочку с крафтовым пакетом. У девочки на шее был кулон в виде золотой рыбки. Дик взглянул на кулон и мнговенно испытал Высший Смысл — это Бог, он же "Зебра", он же "Всеохватная Активная Живая Система Разума" (все эти имена Дик нашел потом). Опыт знакомства с этой штукой продолжался март и апрель. С тех пор Филип Дик не мог успокоиться, продолжая разгадывать и интерпретировать то, что он ощутил. На материале этого откровения он написал несколько романов. А еще каждый вечер он садился записывать свои религиозные и философские идеи — и писал всю ночь напролет, иногда по 150 страниц, от руки. За остаток его жизни получилось около 8 000 листов визионерского журнала. После смерти Дика его друг Пол Уиллиамз рассортировал весь этот ворох бумаг в 901 папку, где они до сих пор и пребывают, и хранил у себя в гараже. Все это так там и пылилось, безо всякой надежды на публикацию, пока не пришли молодые и безумные исследователи во главе с Джеем Кинни, которые совершили огромный труд — инвентаризовали и скопировали бумаги. Следующим поколениям уже было от чего отталкиваться, и вот, не так давно появился большой том под редакцией Памелы Джексонс и Джонатана Летема, очередных героев и фанатов, взявшихся расшифровывать и готовить "Экзегезу" к печати. Это наиболее полное издание на сегодня, но и там только одна десятая — 900 с лишним страниц, которые могут стать небывалым приключением для чьего-то еще сознания.
А пока вот вам смешного из предисловия Летема:
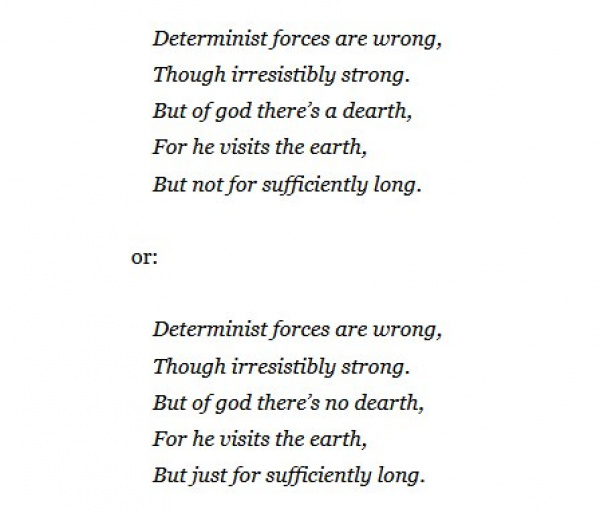
Писатель-фантаст Тим Пауэрс цитировал эти два стишка по памяти, затем объяснял:
— Он /Филип К. Дик/ мог позвонить часов в одиннадцать и сказать "Я тут кое-что понял... я понял всленную... не зайдешь?". Он, наверное, писал до шести утра, потом до одиннадцати спал. Я ему говорил: мне на работу пора, запиши, чтобы не забыть. Один раз я сказал: "Да, и не мог бы ты записать это в виде лимерика?". А когда я пришел, он мне выдал две версии.
...
Однажды он мне позвонил и говорит: "Пауэрс, мои исследования доказали мне, что я наделен силой отпускать грехи". "Так, — говорю, — и кому ты отпустил?" "Никому... кошке отпустил и лег спать".

Американские критики окрестили роман «феминистской "Золушкой"» и это, в общем, имеет смысл. Бедная служанка Джейн переживает гибель своего принца и осознает себя как личность, выучивается и становится известной писательницей. Трагическое событие ее юности остается краеугольным камнем в основании того человека, в которого она вырастет. Еще я бы сказала, что книжку можно полушутя назвать женским «Улиссом» — не по масштабу замысла и значимости, а просто потому, что весь роман разворачиваются события одного дня. Погожий мартовский денек 1924 года, то самое Материнское воскресенье, четвертое воскресенье Великого поста. Надо сказать, что большую его часть Джейн проводит на смятой постели, где только что была с молодым человеком, хозяином имения, который будет мертв всего несколько часов — и больше половины книги — спустя, разбившись на машине по дороге к собственной невесте. Тем временем мысли Джейн бегут прозрачными весенними ручейками, обнимая его, свое положение подвластной ему в жизни и направляющей его в постели, свое положение преступницы, его невесту, и догадывается ли горничная Этель, книги, истории для мальчиков, и как она училась в Оксфорде, перемешивается прошлое и будущее, и сочинение историй, и «Юность» Джозефа Конрада. Небольшая, изящная лиричная книжка, пронизанная как будто весенним солнцем.
«А если уж совсем честно (хотя об этом она и подавно не расскажет никогда и никому и уж тем более не упомянет об этом ни в одном интервью), то она, разглядывая многочисленные портреты Джозефа Конрада, которые ей удалось раздобыть — на них Конрад был запечатлен в более позднем возрасте, — в итоге в него влюбилась. Ей страшно нравились и его серьезность, и его борода, и выражение его глаз, словно видевших одновременно и что-то очень далекое, и что-то спрятанное глубоко в душе. Порой она даже пыталась себе представить, каково это было бы — лежать в постели рядом с Джозефом Конрадом, просто лежать рядом с обнаженным, стареющим Джозефом Конрадом и молчать, глядя, как поднимается кверху дымок от их сигарет, смешиваясь под потолком, словно в этом дымке и заключена некая великая истина, куда более значительная, чем та, для которой у каждого из них могли бы найтись слова».
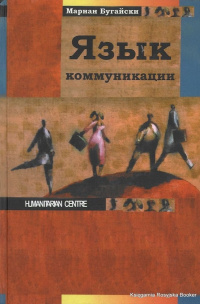
Когда язык коммунистической пропаганды понадобилось как-то назвать, а было это в 70-х годах в Польше, лингвист Михаил Гловиньский взял у Оруэлла термин "новояз". Потом, правда, решили, что явление это находится в сфере нормативной лингвистики, а понятие для науки не очень полезно, но путь этих представлений был интересный сам по себе. Гловиньский описывал новояз 4-мя пунктами, и мне кажется, это описание и сейчас заслуживает внимания:
1) Новояз предполагает и навязывает оценивание, при этом оценки решительные, не подлежат сомнению и становятся важнее, чем значения; при этом значения подчинены оценкам. С этой точки зрения это явление он называет языком одноценностным (однозначным).
2) Это синтез прагматических и ритуальных элементов. Эти факторы взаимодополняются и накладываются друг на друга, стремясь к сильному и непосредственному влиянию.
3) Новояз выполняет магическую функцию, он не описывает действительность, а создает ее. Используя новояз, мы говорим о желаемых состояниях так, будто они — реальность.
4) В большей степени, чем в других стилях в новоязе значения формируются на основе личных, арбитражных решений. Таким образом, принимаются решения — о чем можно писать, о чем нет, а так же о том, как именно следует писать.
Цитирую по книге польского лингвиста Мариан Бугайски — занятному учебнику по культуре языка, где она рассматривает позицию и проблемы языка в социальном взаимодействии общества.
Слово мракобесие, оказывается, никакое особенно не древнее и к «мраку бесовскому» не имеет отношения, хотя и звучит похоже. Ввел в широкое употребление его никто иной как Белинский, когда в своей обычной обаятельной манере обзывался на Гоголя по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов...». Вжух — и вот уже весь кружок Белинского, а затем и вся передовая русская крикика взяла хлесткое слово на вооружение, а к 60-м оно уже вошло в литературную норму. В старых текстах компонент -бесие использовали для передачи греческого -мания: были чревобесие, гортанобесие, женобесие (о значении можно догататься). Но как-то не очень была эта конструкция популярна. А потом наступил XIX век, распространились международные термины с окончанием на -manie, и как-то наконец занялось: пошли стихобесие, книгобесие, итальянобесие, славянобесие, москвобесие, кнутобесие, плясобесие. А там и Белинский подоспел.
А теперь ментальное упражнение: придумайте три смешных слова на -бесие.
И живите теперь с тем, что мы с вами здесь книгобесы.
Такие вот и другие чудесные истории про приключения языка можно найти в остроумной книжке лингвиста и филолога Ирины Левонтиной, рекомендую.
Книга эта настигла меня в тинейджерстве. У нас был в классе небольшой бунтарский кружок сюрреалистов, возглавляемый одной моей и по сию пору близкой подругой-художницей, выдавшей мне в зубы «Дневник» со словами «Это ве-ли-ко-леп-но!» (как она поступала в те годы и с другим культпросветом). Мы были дикие неуспокоенные дети, которые вдохновлялись и придумывали какие-то безумные акции вроде публичного подношения двух ржаных батонов скульптурам Дали, стоявшим в Музее современного искусства (музейным работницам пришлось объяснять наши мотивы довольно долго, каждой по очереди; весело было). Дневник я впитывала восхищенно, но на почтительном ментальном расстоянии — откуда имеет смысл разглядывать вещи невероятно красивые, но неуправляемые.
Известно и понятно, что в этом «дневнике» на всякий случай нельзя доверять ни единому слову (вероятно, паре слов можно, но это окажутся топонимы). А вот вся дневниковая часть — экцентрическое, безаппеляционно утверждающее собственную уникальность описание эмоций, намерений, всей внутренней истории, втягивающее в свою свистопляску и множество других людей, культурных персонажей и прочих — это, разумеется, ве-ли-ко-леп-ный миф, возводящийся на глазах изумленного зрителя.
Возвращаясь мысленно к этому тексту сейчас, я воспринимаю все эти невероятные фантазийно-психоаналитические дворцы как очень интересный опыт. Ведь не для публики же Дали их возводил — то есть конечно и для публики тоже, но в первую очередь это история, которую он излагал самому себе, история боговдохновенного возмутительного художника Дали. Но не только история личности — а вся система суждений, на узловатых подпорках которой держится личность, держится утверждение «я». Все, что он говорит о творчестве, об искусстве, все, что он говорит о жизни, о философии, о человеческой природе — все это сложносочиненный ярмарочный калейдоскоп, составленный им самим, чтобы через него видеть свою фигуру гротескной и величественной, потусторонней, в разноцветных плящущих огнях. Истина о мире его совершенно не интересовала — его интересовал он сам, в декорациях, которые он одушевит так, чтобы ему было не скучно. У меня за спиной каждый раз встает этот образ человека с тростью, всякий раз, когда я формирую о чем-нибудь отвлеченное суждение.

Есть такие книги, о которых ты знаешь, что они тебе необходимы, задолго до того, как они окажутся у тебя в руках, даже задолго до того, как узнаёшь об их существовании. Поэтому, когда они появляются — бросаешься к ним немедля. Эта книга из тех, которые необходимо читать дозированно и медленно, потому что большую часть ее ты читаешь в собственной голове, после того, как авторские слова замкнут твой внутренний диалог на себя.
«Фрагменты любовной речи» — книга, составленная по материалам двух учебных лет работы семинара Ролана Барта в Практической школе высших исследований в Париже, с 1974 по 1976. Захватывает — видеть, как его точный систематический ум, способный производить рассуждения поистине математически прекрасные, берет в работу речь влюбленного. Сам модус его высказывания так близко подбирается к художественному, к «литературе», что книгу действительно можно считать «романом» со своими голосами и персонажами. Барт позволяет любовной речи самой препарировать себя, давая слово всем, говорящим о любви: от «Вертера» до Лакана, от Ницше до философии дзэн. Книга выстроена по алфавиту: начинаясь с «Аскезы» («я предъявляю другому символ моего собственного исчезновения»), и до «Я люблю тебя» (не хочу сейчас заглядывать в конец, я еще не дочитала и планирую обходится с этим текстом последовательно). Каждая такая «словарная статья» такого рода на разные голоса описывает одну из фигур мифотворческого танца влюбленного. Из этих фрагментов создается совершенно особенный космос, или, если хотите, дискурс, и важно, что от первого лица.
«Необходимость этой книги, — пишет Барт, — заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве. Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам...»
Что утверждает влюбленный, когда он говорит? Он говорит: «единичный образ, который чудом отвечает особенностям моего желания». Он говорит: «я безумен, поскольку я не есмь другой». Он говорит: «прежде всего мы любим картину; все, что помогает проникнуть через обрамленность разрыва». Он говорит:
очу рассказать вам о моей любимой книге. Ее не существует.
По крайней мере, пока.
Там внутри 25 недлинных поэтических текстов, каждый из которых, рассказывает на мой взгляд, очень точную и тонкую историю о механизмах тайной жизни человеческой души, как если бы сны каждого из нас вдруг научились разговаривать и пришли рассказать нам о своих страхах, желаниях и поисках снообразным своим языком.
Сны ароде бы более-менее усвоили понятие «человеческий язык», но все еще видно, что он для них не родной и правила его чужды, были поняты формально, на слух. Слова и синтагмы у них — это странные сновидческие образы и повороты сюжета, которые складываются в притчи, смысл каждой из которой мерцает: его чувствуешь сердцем, но каждый раз, когда пытаешься облечь в трактовку — она ускользает прочь. И только мы с вами знаем, что на самом деле сны так пытаются нам пересказать сокровенные правила бытия, ужасно простые, точные и неизменные. Просто на человечьем оные совершенно не умеют звучать.
Эти тексты оформлены одушевленным морем и космосом и их причудливыми и трогательными обитателями. Картинки
делают все происходящее еще более dreamlike: как будто мы вместе сидим у
костра, сны наши рассказывают нам свои истории, и эти истории
возникают всплесками черно-белой графики прямо из языков пламени и тут
же растворяются.
Я хочу сказать большое спасибо автору, Шаши Мартыновой, и художнику Маше Югановой за эту книгу, которой не существует. Но прекрасные новости в том, что ее можно помочь материализовать на бумаге, и если вы ее заранее полюбите, как случилось со мной.
Сейчас книга собирает на издание краудфандингом на Планете.ру — можно включиться.

Опубликовано в журнале "Новая Юность"
2001, 6(51). Цитируется по сайту "Журнальный зал".

Труд начинается при подъеме, и теперь свет,
наоборот, помеха: глаз не видит, куда
ступает нога. Оборачиваться нельзя.
Мишель Серр
История эта имеет множество начал, но ни в одном из них не находит своего завершения. В разрозненном, дискретном обиходе каждого дня, уснащенном псевдосвязующими нитями надежд, иллюзий, воспоминаний, смутных усилий и невзрачных итогов, иногда наступают неизъяснимые (порой краткие, а подчас превосходящие меры ожидания) периоды, на протяжении которых вещи и события, казалось бы глухие и чуждые друг другу, сводимые воедино лишь усвоенной привычкой или волей, внезапно обнаруживают в некоторой отзывчивости тягу друг к другу, продолжая себя в ином, совлекаясь в головокружительный узор, образующий пространство неотступно возрастающего резонанса. Чаще такие изменения незаметны, хотя иногда возникновение подобных соответствий принимает угрожающий характер.
Есть основания думать, что история, точнее ее отдельный эпизод, занимающий меня, берет истоки в нескольких местах одновременно, невзирая на фактическое различие в сроках.
Однажды вечером, находясь в известном кафе, я ощутил, как мой слух сквозь гул говора с неожиданной отчетливостью различает фрагменты чьего-то разговора. Помню, что моего слуха достигло, кажется, слово "теломираз...", а через некоторое время другой голос говорит, скорее всего, о чем-то "...необходимом для восстановления генного щита". Затем звонит телефон, несут пиво, кто-то входит с дождя, сигарета падает на пол и все прекращается.
На следующий день я узнаю из газет, что вчера, судя по тем же словам, в кафе шла речь о, позволим себе сказать, новом прорыве в области генетики, иными словами - об уже возможном вторжении в область бытия, отстоявшую человека всю его историю.
Речь шла о бессмертии.
Тут же я вспоминаю, что начало этого случая (этого совпадения) лежит также еще в одном пересечении времени и места. Я вспоминаю, как (не понять, по какой причине) раскрыл книгу на статье Михаила Ямпольского "Жест палача, оратора, актера" (вполне возможно, это была вообще другая книга, другого автора и все происходило не по осени в балтийских сумерках, а весной на склонах Альп) и, пробегая глазами строки, разглядывая страницы, остановился на гравюре, изображающей палача, стоящего на краю помоста и протягивающего толпе отсеченную на гильотине голову.
Не довольствуясь тем, что ей дано, мысль понуждает воображение искать выход: помост, театр, смерть, зритель, кулисы, ужас, что, как кажется, намеренно предлагает достаточно знакомую перспективу рассуждения, будто бы на самом деле пытаясь что-то сокрыть в своей испытанной притягательности.
Несколько дней спустя неверно внесенное в поисковую систему слово вынесло меня на sitе, полностью посвященный гильотине как таковой. Случайность, обязанная ошибке.
Оказывается, д-р Гильотeн ничего не изобретал. Орудие декапитации, следует признать, существует едва ли не с 1300 года и впервые применялось в Ирландии.
Со временем это сверкающее крыло казни, как и любое приличное изобретение, стало все чаще осенять публичный театр смерти. По-видимому, лезвие этого крыла служило тончайшей гранью, созерцание которой, по словам Батая, позволяло человеку преступать пределы собственной фундаментальной разорванности, рассеченности.
Что до д-ра Гильотeна, то он, не обинуясь, предложил Конвенту шестистраничный обстоятельный доклад о целесообразной гуманности применения подобного орудия в индустрии революции. К счастью, история не преподает никаких уроков, поскольку как таковой ее в итоге просто нет.
Однако даже в этом, последовательно собранном своде малочисленных фактов оказалась сокрытой одна немаловажная частность - из пяти отсеченных на гильотине голов по меньшей мере три головы продолжают жить не менее трех-четырех секунд. Несколько позже М. Ямпольский сообщит, что "вокруг продолжающейся жизни головы после гильотинирования образовался целый фольклор. Например, история о том, как палач дал пощечину отрубленной голове Шарлотты Корде и та покраснела...".
И все же попробуем посчитать до 4-х! - времени более чем достаточно для того, чтобы увидеть свое собственное "мертвое" тело, увидеть и то, как оно колышется, проплывая в глазах людей, созерцающих не акт расчленения, но вступающих в непрерывные воды смерти, - собственное бессмертие. Но "увидеть себя мертвым" означает непреодолимый изъян некой двусмысленности.
Разве эта сюрреалистическая фигура при приближении к ней не оказывается апорией? Которую возможно понять (так, во всяком случае, мнится), введя лишь понятие бессмертия - пусть всего нескольких мгновений отчетливо "явного" существования после фактически тотального разрушения.
Более того, смерть и не-смерть в этом случае оказывается (разумеется, ненадолго) одним и тем же, невзирая на разделение, на различие, проведенное лезвием... Возможно ли это вообразить, а вслед за тем и помыслить? Или же это точно так же трудно, как помыслить Вечное Возвращение, невозможность которого происходит из неизбежности мыслить время одновременно как конечное и бесконечное?
Так или иначе, идея бессмертия на протяжении веков безраздельно властвовала над умами людей, предлагая себя в религии, науке, философии, являясь неисчерпаемой фабулой различного рода приключений. Мы могли бы обратиться, например, к тибетской "Книге мертвых", но тут, как бы параллельно, начинает разворачиваться еще одна фабула, непосредственно связанная с тем, что секунду назад было названо "бессмертием", а именно с идеей создания эмуляции бессмертия, обязанной развитию электронных технологий.
В одной из своих работ Крис Стаут, американский нейробиолог и кибернетик, предлагает создание системы, отличной (как он говорит) от криогенно-големо-франкенштейновского решения проблемы - системы, которая, попросту говоря, будет компьютерной программой. При этом, надо отдать ему должное, он говорит не о Immortality, но о Em-mortality, об эм-уляции бессмертия, что означает создание некой саморазвивающейся системы, предпосылками и основой каковой будут служить бесчисленные составляющие той или иной личности. Что безусловно со стороны может показаться жуткой затеей, "хотя я, - пишет Стаут, - сам бы не прочь пообщаться с компьютерной версией бабушки или дедушки. Да и почему они должны казаться менее реальными, нежели те, с кем я общаюсь по электронной почте?"
Оставляя в стороне технологические описания уже существующих возможностей создания такой программы, можно представить основные принципы, лежащие в разработке такого вида эмуляции. Прежде всего налицо факт того, что такое эм-бессмертие предназначено для другого, но не для того, кто ушел. Затем программе надлежит действовать как разумному агенту личности с самого начала ее же (то есть программы) интеллектуальной деятельности, впитывающей всю информацию, которую субъект обычно черпает из действительности, при всем том уже оснащенной матрицами всех психологических и социальных и пр. предпосылок, в то время как интерактивное общение/обучение будет обеспечивать связи и ассоциации между "экспертом" (то есть пользователем), программой и миром.
Возрастающая база данных такой программы будет строиться из основных личностных элементов самого пользователя (его истории), непрерывно пополняясь на протяжении всей его жизни. Более того, программа будет совершенствоваться и после смерти пользователя на макро/микро уровнях всевозможных отношений с миром и членами семьи. Из чего следует, что система будет развиваться и после смерти "носителя" тела, вбирая и усваивая новые и новые информационные потоки, шумы, ожидания и т. д. В самом начале статьи Крис Стаут пишет, что в идеале, конечно, было бы целесообразней обращаться к личности, находящейся в функциональном состоянии, но, продолжает он, медицинские технологии покуда не в состоянии этого обеспечить.
Всего год разделяет мнение Криса Стаута от события, отголоски которого коснулись меня в кафе, - о возможности уже сегодня выделить компонент, ответственный за восстановление генной защиты клеток и который, надо полагать, будет управлять временем их существования.
Хорошо помню, что, возвращаясь поздним вечером домой, я вспомнил слова Мишеля Серра о том, что "у начала нашей жизни - великая смерть", что "у начала средиземноморской, эллинской культуры - земля, которая одновременно зовется Египтом и могилой, Шеолом, хаосом или истоком...".
И тогда, быть может, стремление к "бессмертию" при всей своей теперь почти "осуществимой буквальности" есть не что иное, как стремление осознать то, что "бессмертие", как бы обязанное изымать из тьмы смерти, на самом деле предстает стремлением именно к сокрытию, погружению в тьму, тень, тогда как смерть - напротив, вырывает нас из нее на свет, а "вырвать из тьмы, - здесь Мишель Серр прибегает к известной метафоре, - нередко означает разрушить".
У меня своеобразное отношение к мирам Фрая, было и остается. Многие прошли этап, когда в его лабиринтах Ехо жилось с головой, и мне в подростковом возрасте они пришлись очень к месту и вовремя. И до сих пор приятно и отрезвляюще (хотя, может быть, этот эффект можно и обратным словом описать) туда по временам возвращаться — как напевать старую-старую любимую песенку, светлую и бесшабашную, любовь к которой ты никак не можешь никому объяснить, а просто с ней тебе вроде как все по плечу. Человек, который ее напевает, почему-то кажется тебе заслуживающим удачи.
С записями из ЖЖ, опубликованными вот уже второй книжкой — другое дело, это симпатичный жанр несистематизированного высказывания «по поводу», наиболее близкий к собственно прямому разговору глаза в глаза, за чашкой, там, кофе (или, если угодно, камры). Здесь не создается пространства, нет повествования, которое всасывает тебя в собственную игру и выплевывает на последней странице с заново прошитыми правилами совершения невозможного на подкорке. Здесь нет подпорок, все очень непосредственно по face value, с автором можно соглашаться, полемизировать, наслаждаться точностью каких-то наблюдений или близостью языка — или просто принять его приглашение посмотреть вот под эдаким углом вот в эту занимательную сторону и побыть так немножко. Вдруг поможет. Неважно, с чем.
А вот с рассказами история совсем третья. Вообще рассказы — жанр странный. Чтобы все получилось, это должна быть или поэзия, или сторителлинг, но для сторителлинга время слишком плотное, и трудно добиться того, чтобы в нем дышала жизнь, а для поэзии язык должен обеспечивать трансгрессию. Чаще не происходит ни того, ни другого, и смысл не рождается. В «Сказках Вильнюса» все это происходит на грани, иногда прорывая собственные границы, а иногда нет. А вообще, конечно, эти тексты — осколки, только не Зеркала Тролля, а какого-то иного преображающего стекла, но не всякий способен собрать себе из них очки — да и диоптрии подойдут не всем.
«Дому, в котором» уже восемь лет, и за это время в русскоязычном пространстве не появилось ничего даже близко подступающего по способности преломлять и закручивать вокруг себя реальность. Она, словно сделанная из темной материи, неизмеримо плотнее окружающего пространства. Что я об этом думаю, я уже как-то раз здесь докладывала, но жизнь любой по-настоящему сильной истории — долгая, и она продолжает нарастать сама собой.
«Дом» немедленно сплотил вокруг себя фанатов — людей, которым мифообразующий язык книги попал в сердце и через которых начал воспроизводить сам себя в материальной действительности. Игровое пространство Дома выплеснулось в Наружность, и еще ждут своего исследователя эти настоящие стаи — их игры, их жизнь, их культура.
История продолжается, и издательство Livebook понимает, что читатели «Дома» — настоящие соучастники этого мира, его парламентеры и сказочники, которые несут историю дальше. Я все это пишу как раз потому, что вышло новое издание книги — с иллюстрациями фанатов. Здесь и рисунки к «Дому» Эи Мордяковой, теперь уже известного книжного иллюстратора, которые стали в свое время ее дипломной работой, и магические картинки Наиры Мурадян, украшавшие предыдущее трехтомное издание, и работы многих других авторов — в том числе, созданные в процессе игр и конкурсов в фэндоме — сообществе поклонников книги. Каждый такой книжный проект, которых не очень много, но появляется, — на мой взгляд, важный шаг к тому, чтобы изменение роли читателей в жизни книги, которое уже очевидно на западе, и культура соучастия становились все более и более видимыми и у нас.
А еще в книжке есть глава, которая никогда раньше не публиковалась, — там очень смешной эпизод с новой воспитательницей в Доме и значимый эпизод с Табаки и Лордом, подвязывающий некоторые нити, остававшиеся в финале. Это тоже небольшой, но яркий и греющий подарок поклонникам — особенно в силу неожиданности. Никто ведь уже не ждет, что законченный роман получит продолжение, и Мариам твердо настаивает, что не имеет замысла его создавать.
Но, парадоксальным образом, эту историю есть кому жить дальше и так.
сли «Третий полицейский» — это путешествие в царство мертвых на велосипеде, то «Архив Долки» — неспешная трамвайная прогулка по остросюжетному абсурдному парку развлечений, солнечным днем, с пинтой пива в руке. Вот Комната Страха — пещера под водой, где можно поспорить с Блаженным Августином собственнолично (только осторожно, а то, как мы все помним, каких только несусветных склок не бывает между приятелями, не сошедшимися во мнениях по поводу Августина — у иных до дуэли доходило). Горки тоже имеются — не слишком крутые, в самый раз, чтобы повеселиться на очередном скате. А вот Комната Смеха, где каждый встречный — живое зеркало, причудливо искривленный человеческий нарратив.
Этим зеркальным лабиринтом выстраивается безумный альтернативный мир «Долки» — безупречно, лампово ирландский, мир, центр которого, разумеется, местный паб. Мир, где Джеймз Джойс жив, отрекается от «Улисса» и желает стать иезуитом. Где безумный изобретатель Де Селби собирается уничтожить мир, откачав из него кислород, а пока регулярно встречается для оживленной высокодуховной беседы с мертвыми Отцами Церкви, которых он нашел способ призывать с того света. Где полицейский сержант, просвещенный в Молликулярной Теории, протыкает коллегам шины на велосипедах, чтобы спасти их от страшного процесса перемешивания молекулами с машиной (знали ли вы, что местный почтальон уже на 81% велосипед?).
В этом вот мире наш главный герой, рассудительный и деятельный молодой человек по имени Мик, вполне ненадежный рассказчик — берет на себя миссию по спасению мира, а параллельно разбирается с собственной романтической коллизией и изобретательно улаживает несколько побочных интриг. Конечно, с блеском. Кажется.
Если в «Третьем полицейском» совершенно очевидно, что сама ткань реальности распадается на кусочки и перемешивается в весьма неуютном и тревожном порядке, то здесь единственный достоверный (и то с натяжкой) знак этого — свидание с Августином, остальное же происходит в бесконечных (прямо восхитительных) разговорах за выпивкой, что придает всему оттенок игрушечности. И все же этот сумасшедший зеркальный мир рассказов о мире, и сам приключающийся в нем Мик (такая «нетка», как у Набокова, непонятная сама по себе штуковина, которая обретает смысл и форму, только если отразить ее в зеркале) — сложносочиненное искривленное отражение реальности, которое любопытно разглядывать так и эдак, которое приглашает играть. Здесь все пронизанное игривой фантазией О'Брайена, текущей повсюду свободно и бурно, его острой насмешкой, и от этих завихрений духа, который веет в «Архиве Долки» для собственного развлечения, читатель получает гору удовольствия. Здесь легко смеяться.
а первый взгляд ничего не происходит. Деревенька в Озёрном крае, турист, который заехал сюда на недельку с палаткой. Владелец кэмпинга просит покрасить ему забор — почему бы и не помочь, делать все равно нечего? Продолжает ничего не происходить. Каждый вечер надо выпить в пабе с деревенскими, это — правила хорошего тона. Сделать домашнее задание для дочки хозяина Гейл, которая повадилась прибегать за помощью. Через неделю он уедет путешествовать дальше — на восток, в Индию. Но пока продолжается неторопливая жизнь в глуши, где уже кончился туристический сезон, и все как по щелчку пальцев перестают обращаться с туристом как с туристом. Эта жизнь не выглядит особенно симпатичной, но и ничего плохого в ней нет. Местная команда по метанию дротиков зовет его играть на соревнованиях. У хозяина находятся новые и новые задачки по хозяйству. Денег у него обычно не находится, но здесь по-видимому они и нужны не очень часто, и в баре, и у продовольственного магазина неопределенной длительности кредит — все живут так, практически натуральным обменом. Отношения с хозяином немножко попахивают эксплуатацией, но туристу, в общем, нравится работать и он не прочь чем-то заняться, а еще его за это пускают пожить сначала в трейлер, потом во флигель, так что нечто за труды получает и он.
Когда приближается время отбытия в Индию и герой собирает вещи и садится на мотоцикл, ты уже сердцем знаешь, что он никуда не уедет. Это его последний шанс сбежать, и он его не использует. Он забывает, забывает, забывает, что хотел когда-то куда-либо уезжать, путешествовать, смотреть мир. Он забывает, что не собирался здесь жить. Он забывает, что существует сама возможность уехать. А она очевидно существует — размеренная, упорядоченная кафкианская безысходность, замкнутость этого тихого пасторального мира на самом себе дрожит и просвечивает. Не сразу понимаешь, но это не непреложные законы местной литературной действительности, и не Замок. Отсюда можно уехать. Стоит только захотеть. Поняв это, начинаешь уже по-другому смотреть на героя, который шажок за шажком сдает самого себя этому миру с его правилами, как он растворяется все больше с каждым "почему бы и нет", как его собственная творческая воля, которой и было-то не слишком много, плавится и тихонько гаснет, как свеча — процесс, сделанный Миллзом так тонко, что перехода почти не получается уловить в каждый конкретный момент, просто все свое в нашем туристе постепенно смывается прочь, и он сам наблюдает за этим, ничего не пытаясь предпринять. На этот его взгляд наблюдателя до последнего смотришь с надеждой — вдруг он проснется, вдруг из этого места вырастет желание, сопротивление, что угодно. Но нет, это место в нем остается пустым и чистым, и вот он уже свой в этом застывшем мире, он его полноценная часть. Были они смуглые и златоглазые. Опыт отдачи себя не из самых приятных — но завораживающий. Закрываешь книгу и остаешься медитировать на бесконечное множество версий, что именно здесь произошло, как и почему.
Озёрный край, неторопливое течение дней, деревенская пастораль, не изменилось ничего.

Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро! Кто достигнул состояния сознания, близкого к природе «необработанного куска дерева» и способен получать удовлетворение от самых обычных вещей, естественных и непритязательных, научился действовать не задумываясь и при этом достигать желаемых результатов, тот поступает мудро. А это, оказывается, один и тот же известный нам медведь.
По крайней мере, так думает Бенджамен Хофф, американский писатель, который питает слабость к Лесам и Медведям. Он увидел в нашей любимой детской сказке идеальную иллюстрацию к идеям даосизма — и подробно, живо и весело это излагает. Каждая история толкуется как эпизод на пути к принятию естественного хода вещей и гармонии с миром. Сова олицетворяет оторванный от жизни ум, Тигра — яркий пример незнания собственных возможностей, Пятачок — воплощение «дэ», действенной добродетели. А Винни-Пух — целостный, независимый ум, спокойно и пассивно отражающий действительность, голос детского разума, который мудрее взрослого.
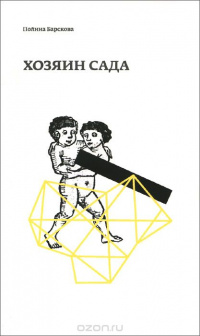
Но война никогда не закончится
Что ж ты бьешься как праведник в ломке
В новом сборнике стихов Полины Барсковой война никогда не закончилась. А люди, их живые тела и дыхания закончились ощутимо, бесповоротно. Память слишком велика для одного человека, она наваливается отовсюду, она входит в поэта и овладевает им, но поэта слишком мало, слов слишком мало, все они недостаточны, недостаточны для перед чужими жизнями и смертями, которые наполняют тебя изнутри огромной мешаниной звуков, осколков историй, дышащей зыбкой красной тьмой. Чувствовать себя немым, как Калибан, который поверит твоим ночным голосам и примет тебя за себя.
Быть с ними, теми, кто умер, хотя они умерли (да, «были и умерли»), потому что они умерли, отдать им себя взамен, потому что больше нечего отдать, нечему отдать.
Я теперь им подобна и жива и мертва
Куда не обернешься в сейчас, там все то же самое — белоснежный снег, неживой свет, нежизнь, незначение, надежное новое «нет», нет никакого сейчас, потому что вчера была война и завтра была война, и вырвав мгновение в белизне и пустоте отстутствия смерти, невозможно почувствовать его как свободу, как блаженство — только стыд.
Она была вчера она наступит завтра
Она у нас одна она одна всегда
Но обязанность поэта — продолжать носить в себе обжигающую кипящую жизнь, даже если она отрицает жизнь. То немеркнущее знание всем своим мясом, что прошлая жизнь была не менее живая, чем настоящая, что она остается не менее живой, чем настоящая, но если она исковеркана и оборвана, то как может быть настоящая? Носить их в себе обе одновременно, этот диахронический срез с острым краем, оставляющий кровящую ранку на языке.
Смысл поэта быть везде
...и всегда, даже если везде и всегда не поместимы в одного человека, другого смысла нет там, где память властвует безраздельно, но ее невозможно отменить.
Гора
День притворившийся сегодня
Казнит теснит структурой студня
Съешь меня сожри essen
Катится к кладбищу автобус
Там гробовщик из тЪятра Глобус
Творит своих песен
Холодным вечером мы обсуждали стати и пригрешенья
твоих подружек, наутро ты выдала мне огромную
фиолетовую футболку с надписью МОЯ ЖИЗНЬ –
МОЙ ВЫБОР, мы пошли гулять в крепость возле моря,
я закурила — задумалась и не сразу заметила, что
сидящая на мостовой старуха разговаривает с моей
футболкой: выбор? Разве у меня когда-нибудь был
выбор? Тащишь себя день за днем, как умеешь, лни
очень тяжелые и очень большие, как камни, и ты такой
же — большой и тяжелый. При чем здесь выбор?
ВЫБОРА НЕТ — А КАМНИ ЕСТЬ
Над крепостью поднималась гора, под крепостью
лежало море.

Русскоязычный сегмент читательской аудитории четко разделился на тех, кто полюбил эту книгу, тех, кого она бесит, и тех, кто фыркает — лучше бы читали (нужное подставить). Я не могу себя причислить ни к первым, ни ко вторым, но когда реакция на книгу настолько бурная, очень интересно посмотреть, из чего она сделана и для чего.
Многие из тех, кого книга бесит, писали о ее манипулятивности — о том, как она последовательно нажимает на больные точки, и какими ходульными при этом выглядят персонажи, послушные инструменты в руках автора. Литература и предназначена для того, чтобы делать что-то с нашей головой, да, но когда механизм так прозрачен, не перестает ли он работать? Для кого как. Однако некоторые инструменты невозможно использовать исподволь, они разоблачают сами себя, их действие по самой их внутренней логике, по определению откровенно и властно предъявляет себя, да, может быть описано как грубое. Но нельзя сказать, что их использование здесь устроено просто.
Cергей Кузнецов написал в одной из бесконечных веток обсуждения в ФБ, что Янагихара использует технику порнографии — конструирование такой сказки, которая добьет читателя до определенной физиологической реакции, поднимет определенное чувство. Мне в процессе чтения приходила другая, родственная, ассоциация, и это — фанфикшн. Я хочу немного подумать о романе, пользуясь тем инструментарием для анализа фанфикшн, который предлагает в своей отличной статье Наталья Самутина, исследовательница читательских практик и культуры соучастия. Приводимая ниже цитата — оттуда.
Фанфикшн — когда люди пишут любительские тексты по мотивам оригинальных произведений — уже вполне себе известная, преимущественно женская социокультурная и литературная практика, которой серьезно занимается множество исследователей по всему миру. О том, что фанфикшн устроен довольно интересно и замысловато, и не может быть сведен к «графомании», каковой его часто клеймят, о том, как он снимает барьеры между чтением и письмом, делающие письмо «элитарным», можно прочесть в тексте Натальи Самутиной. Он развивается в общем потоке смещения ключевой роли в литературном процессе от автора к читателю. Этот новый тип современной литературы полностью выведен за рамки литературы как индустрии, но исправно поставляет авторов в мир «настоящих книг», см. уже хрестоматийный пример «50 оттенков серого» (и многие другие).
Некоторые ключевые штуки никаким образом нельзя вынести за пределы мира фанфикшн:
— напряжение и драйв, которые возникают именно от соотнесения фанфика с исходным текстом, по которому он написан, «каноном»;
— коммуникацию и жизнь сообщества вокруг текстов и через тексты, с собственным языком и правилами, историей и развитием.
Но кое-что можно. Меня интересуют два характерных приема.
Условность
Читательское удовольствие от текста — штука многосоставная. Если пользоваться классификацией Риты Фелски, автора книги «Для чего используется литература», то она строится на четырех модусах вовлеченности: узнавание себя, зачарованность текстом, знание и шок. Фанфикшн создается исключительно для удовольствия читательниц, поэтому и все делает для того, чтобы повысить зачарованность текстом.
Точно как и там, в «Маленькой жизни» на зачарованность работает все. Простота языка — его роль транзитивна, он должен только глубже погрузить читателя в текст. На это работает и четкое донесение до читателя, что его ждет, перед тем, как он откроет книгу вообще, он должен желать именно такого впечатления. В фанфикшне для этого разработана оригинальная классификация и система подробнейших предуведомлений, что за текст — веселый, грустный, романтический, мучительный, про каких персонажей, какого жанра и т.д. Максимальное соответствие текста заранее осмысленному желанию читателя повышает градус «зачарованности».
Условность во многом работает на это так же, как в порнографии: все очищено от «искажений» реалистичности, все нарисовано жирными мазками, чтобы оставить чистую эмоцию, чистую физиологическую реакцию. Или, как здесь, чистую остроту драмы.
«Маленькая жизнь» начинается и живо, и реалистично — ровно настолько, чтобы успеть влюбить читателя в персонажей, и дальше очень медленно, сперва незаметно, начинает наращивать условность. Если несчастье — то трагедия, которая ломает жизнь. Если богатство — то баснословное. Если чувства — то сильные и яркие, а тонкая нюансировка только демонстрирует и смакует их остроту и глубину, но никогда не нарушает эстетику «психологизмом» (который мог бы вызвать не чистые радость или горесть, а смешанные чувства, что жестко избегается). Конечно, акцент на чистых чувствах. Контрастность выкручена до предела.
Главный герой красив — хотя он не верит в это, так он искалечен физически и душевно, — он так невероятно умен и талантлив, что все не перестают этому поражаться, он так много страдает, что сочувствие невозможно переносить (и очень скоро становится невозможно извлекать для читателя, к чему я в конце вернусь). Его окружают люди необыкновенно щедрые, благородные и любящие. Или чудовища, вышедшие за грань человеческого, — их бесчеловечность никак не рефлексируется, они точно так же выполняют свою функцию по отношению к героям и прячутся обратно за занавес.
В романе умышленно нет исторического контекста. Он предельно детализированно описывает жизни героев — их работу, их социальный круг, подробности их жизни, квартир, одежды, поездок, это детали ради деталей, lifestyle porn. Даже рассуждения о математике и искусстве, сами по себе умные, опосредованно выполняют эту же поддерживающую функцию — создать атмосферу, фон, который будет приносить удовольствие. Янагихара создает эту часть так же скрупулезно, с умом и на высоком уровне качества, как и все остальное. То же самое делается в фанфикшне (и в порно, и в любовных романах, и в хорроре): создается пространство, в котором читателю будет нравиться находиться. Автор располагает тебя включиться в текст психофизически, создавая явно безопасные декорации, которые обещают эмоциональный аттракцион, приключение чувств. Располагает к сладострастному восприятию текста — какого рода наслаждение бы не последовало за этим (шок — такое же наслаждение, как мы помним). Ты пускаешься в это, закрыв глаза и вверившись автору — иначе оно бессмысленно.
Слэш, чувствительность и интересы женщин
В фанфикшне существует распространенный жанр слэш, когда описываются гомосексуальные отношения между персонажами, которых зачастую не было в каноне. Вопрос, почему женщины пишут и читают слэш, как только уже не анализировался. Казалось бы, женское сообщество, нацеленное всецело на собственное читательское удовольствие, могло бы, наконец, начать рассказывать о себе. Вот и у Янагихары — в ее мире, созданном женщиной, почти нет женщин. Среди множества персонажей есть несколько второстепенных и третьестепенных — женщин, они еще более схематичны, чем остальные, и исполняют служебную функцию для внутреннего развития персонажей-мужчин. Поэтому, конечно, сразу вспоминаешь все великие истории дружб, в которых действуют только мальчики, а отождествляются с ними многие поколения людей любого пола. «Три мушкетера». Девочки, у которых нет девочковых ролевых моделей, вот это все. Однако выясняется, что со способами рассказывать о себе не все так просто.
Мне кажется логичным вот это предположение.
Генри Дженкинс утверждает, что привлекательность слэша для женщин — авторов и читателей фанфикшн — в том, что он переворачивает привычный гендерный порядок и позволяет ввести в поле повествования (осмысления, переживания) те конфигурации действий и эмоций, которые отрицаются или находят недостаточное выражение как в традиционных медийных репрезентациях мужского и женского, так и в самой повседневности: «Слэш противостоит наиболее репрессивным формам сексуальной идентичности и предлагает утопические альтернативы имеющимся гендерным конфигурациям». Так, слэш позволяет рассказывать истории о героях-мужчинах, с которыми привычно и легко отождествляться читателю любого пола — и притом наделять этих персонажей эмоциональностью и душевной уязвимостью, закрепленной в современной культуре за внутренним миром женщин.
Янагихаре, которая очистила свою сказку от всего — от реалистичности, от исторического времени, — был, кажется, необходим и этот прием, чтобы вплести внутренности читателя в свою историю.
По крайней мере в одном «Маленькая жизнь» точно делает то, что нам бы (в России особенно) хотелось, чтобы делала всякая современная история. Человеческая сексуальность для нее — дело второстепенное. В тексте регулярно упоминается или обнаруживается, что те или иные персонажи геи, лесбиянки, бисексуалы, эта часть жизни описывается буднично и между делом, все это просто есть, это просто часть жизни, не более значимая, чем другие. Эта линия продолжается очень последовательно, когда отношения Виллема и Джуда сначала выходят на уровень семейной пары, а потом, когда выясняется, что Джуд не может заниматься сексом, эта область оказывается не такой уж и значимой по сравнению с глубиной их привязанности, их дружбы. Это одна из самых прекрасных штук в романе, на мой взгляд, и, странным образом, тоже отвечает внутренней логике слэша. При несомненной важности порнографической функции, слэш больше сосредоточен на описании эмоциональных взаимодействий и утверждает превосходство не секса, но человеческой близости, в которой секс может быть одним из важных этапов раскрытия — но не собственно смыслом отношений.
Узнавание
Всем этим инструментарием Янагихара пользуется, но пользуется со своими целями.
Текст сосредотачивается на развитии травмы — очень анатомически точно и подробно, хотя и тоже опуская все, что могло бы вызвать иные эмоции, кроме чистого сострадания. Превращая героя в сложновыстроенный, но шаблон, автор позволяет читателю отождествиться с ним наиболее полно. Отношения Джуда и Виллема — травматика и человека, который любит его, — составляют кабину этого космического корабля, в которой читатель с удобством располагается с собственными чемоданами и чемоданчиками багажа.
Янагихара не отступает от своей педантичности нигде. То, как работает травма, описано детально, дотошно, внимательно, со всей возможной выразительностью. Читательское наслаждение от текста, сфокусированное всеми описанными выше способами, направляется на сострадание, цепляется за него крючком — и тащит.
Повествование вводит тебя в определенного рода транс (если ты ему позволяешь, разумеется). «Когда мы полностью захвачены текстом, мы больше не способны поместить его в контекст, потому что он и есть контекст, императивно диктующий условия своего восприятия, он нас абсорбирует», — пишет Рита Фелски. Остальной мир перестает существовать, зато правила невроза, если работают внутри тебя, если тебе есть, чем соотнестись, проступают так, как если бы твою жизнь составляли только они. В какой-то момент чтения ты понимаешь, что сочувствие к Джуду ты больше не способен из себя вынуть, но тебе и не до того — книга перестала быть для тебя про это, ты вообще находишься не в истории, история разворачивается под тобой, а твое сознание параллельно захвачено собственной историей отношений с другими людьми.
Я ни разу за книжку не плакала от жалости к Джуду, но пару раз да. И было это от жалости к себе. А потом к другим.
Тогда он взглянул на Джуда, и его охватило то чувство, которое он иногда испытывал, когда думал, по-настоящему думал о Джуде, о том, какая у него была жизнь: можно было назвать это чувство печалью, но то была печаль без жалости, печаль куда огромнее жалости, которая, казалось, вмещала в себя всех несчастных, надрывающихся людей, все незнакомые ему миллиарды, проживающие свои жизни, печаль, которая смешивалась с удивлением и благоговением перед тем, как люди повсюду изо всех сил стремились жить, даже когда им приходилось очень трудно, даже в самых ужасных обстоятельствах. Жизнь так ужасна, но мы все ее живем.
А еще потом ты «просыпаешься».
 Это такая книжка об общении со стариками, которую не получится просто прочесть один раз. Она коротенькая и страшно емкая, и предназначена для того, чтобы держать на столе и открывать всякий раз, когда вы чувствуете, что дух ваш ослаб и нет никаких сил держать себя в руках со старыми родителями. Всё потому, что она исходит из одного очень простого, как все основные вещи, знания, которое автор добыл, работая учителем резьбы по дереву в доме престарелых. Это знание делает нам больно, поэтому мы успешно прячем его от себя.
Это такая книжка об общении со стариками, которую не получится просто прочесть один раз. Она коротенькая и страшно емкая, и предназначена для того, чтобы держать на столе и открывать всякий раз, когда вы чувствуете, что дух ваш ослаб и нет никаких сил держать себя в руках со старыми родителями. Всё потому, что она исходит из одного очень простого, как все основные вещи, знания, которое автор добыл, работая учителем резьбы по дереву в доме престарелых. Это знание делает нам больно, поэтому мы успешно прячем его от себя.
Саша Галицкий пишет о вещах, которые поначалу звучат жутковато. Так не принято говорить. Не принято говорить: старики — это инопланетная раса. Врите им. Манипулируйте ими. Не воспринимайте их, как полноценных людей. Принимайте за них решения. Не слушайте, что они говорят. Не пытайтесь построить с ними отношения, как будто они не старики. Держите внутреннюю дистанцию — как если бы вы были ученый и собирали космические камни, и у вас была необходимая техника безопасности, вы — только в специальных перчатках, камни — только в непроницаемой упаковке. Иначе никак, иначе повредишь и себе, и им.
Но чем дальше читаешь, тем больше понимаешь, что все, что тебя коробит, — от твоего собственного малодушия. Людям, которые живут с ощущением бессмертия, очень трудно смириться с существованием стариков. Хочется сделать вид, что это просто такие очень вздорные люди, которые почему-то ведут себя странно и неприятно. Хочется чувствовать обиду, потому что это, хотя и очень тяжко, все равно легче.
Ну, потому что страшно, всем страшно. Каждый раз. В какую честную панику подростков вгоняет двадцатилетие, потом тридцатилетие, и так далее? Теперь надо представить, что больше ничего не осталось. Это очень неприятно, но иначе нам неоткуда вынуть из себя сострадание, которое необходимо, чтобы не сойти с ума от боли и злости со своими же родителями, которые внезапно перестали быть теми людьми, какими мы их знали в детстве и вообще очень долго.
Старость — это третье агрегатное состояние, не дети, но и не взрослые. Старость — это стагнация, необратимые изменения восприятия. Старость — жизнь с фактом своей близкой неотвратимой смерти, наступление которой ты чувствуешь на себе в прямом эфире. Конечно, все меняется. Конечно, очень многие вещи перестают иметь значение. Конечно, ты уже инопланетянин для всего, что происходит вокруг, и говоришь на другом языке. Почему, на каком, как это устроено и что нам с этим делать — об этом и пишет Саша Галицкий.

Мифология ultima Thule, крайней Туле, восходит к греческому купцу и выдающемуся путешественнику Пифею, жившему в четвертом веке до нашей эры. Уроженец античной колонии Массалия, находившейся на месте современного Марселя, он совершил плаванье в семь тысячь миль в районе Британских островов и побережья Балтийского моря и описал его в книге «Об океане», до наших дней не дошедшей. Именно там описывается самый северный предел обитаемого мира, пленявший воображение греков, — остров Туле. По поводу достоверности изложенных сведений споры велись с самой античности, и не очень понятно, была ли Туле Исландией, Норвегией или Гренландией. Но постепенно представление о Туле поэтизировалось, его начали представлять как символическую границу мира, таинственный, блаженный остров, предмет грез и устремлений. Туле превратилась в значимый феномен мировой культуры и, пройдя чередой трансформаций, стала воплощением тяги к неизведанному, потерянного первобытного рая.
Спустя тысячи лет Север позвал к себе Астрид Венландт, франко-канадскую журналистку. Она считает себя парижанкой, но большую часть детства провела среди лесов Квебека. Канадские инуиты (самоназвание эскимосов), причудливые легенды которых вошли ей в кровь, с тех пор подрастеряли свою культуру. «Ее растворили в себе виски, холестерин и социал-демократия», — так она пишет.
Впервые приехав в Россию на курсы русского языка, Вендландт, которая всю жизнь разрывалась между Францией и Канадой, неожиданно нашла свою третью родину именно здесь, и с тех пор возвращалась снова и снова. Во время поездки в Воркуту для встречи с шахтерами, она увидела в метели фигуру оленевода-ненца — это один из малочисленных коренных народов русского Севера. Очарованная этим видением, она положила себе непременно вернуться еще раз, непременно отправиться в Арктику на поиски потаенных сокровищ культуры, затерянных в холоде. И сделала.
Взгляд Вендлант как человека, влюбленного в Россию, заинтересован и доброжелателен. Как журналистка, она остро очерчивает социальные, экономические и бытовые подробности жизни современных ненцев. Как мечтатель, она огорчается, когда видит, что цивилизация вовсе не обошла их стороной. В тундре, куда она приехала за «аутентикой», все жаждут смотреть телевизор по вечерам. «Телевидение – извращение. Оно берет вас в заложники. Оно заполняет ваш секретный сад и ограничивает ваше воображение»
Получившаяся по итогам книга — добротный, симпатичный травелог, если вас интересует тема, а по временам превращается в панегирик Крайнему Северу. А потом — в описание метафизического путешествия прочь от городов и цивилизации навстречу древнему и первобытному знанию. Мечта о духовных поисках такого рода давно, разумеется, выкристаллизовалась в продукт, успешно продаваемый тоскующим городским жителям. Тем интереснее, наверное, свидетельства людей с реальным опытом.

Хорошо бы мы все умели любые тексты воспринимать так, как будто мы ничего о них не знаем, как будто имена авторов для нас если и встроены в систему представлений, то все же не обросли Всем, Что О Них Говорят, — так, что их собственного лица толком не разглядеть и голосов не слышно. Рассматривать и оценивать идеи по face value.
«Один из немногих современных мыслителей, кто оказался прав», — такими словами о Берлине начинает свое предисловие к «Истории свободы» Александр Эткинд. «Гостем из будущего» Берлина называет «Поэма без героя» — он познакомился с Анной Ахматовой в 1945 году, приехав в Ленинград, и для обоих ночь в разговорах стала важным впечатлением. Для него, англичанина, родившегося в Риге и пережившего в Петербурге послереволюционные годы, сиониста, русофила и либерала — Россия всегда была миром идей и текстов. Настолько, что первым делом по приезду он кинулся отыскивать книжный магазин.
Его живой немеркнущий интерес к русской интеллектуальной истории определил и характер его философско-политических идей, и направление научной работы — славистика, и окрасил его письмо множеством деталей, не свойственных его оксофордским коллегам. Одновременно эмиграция Берлина, его положение снаружи, позволило ему создавать вдумчивые, уравновешенные тексты — с выдающимся уровнем любви и понимания, притом до сих пор невероятно цитируемые и влиятельные. С трудом возможно так очистить свой взгляд, оставаясь изнутри культуры, — мыслителей и интеллектуалов XIX века мы все еще воспринимаем через неизбежную призму советского восприятия. Сколько младенцев оттуда мы выплеснули вместе с водой? Эссе в «Истории свободы» посвящены и советской интеллигенции, писателям, взаимодействию со Сталиным — но мне больше интересна часть про XIX век. Здесь на сцену выходят Герцен, Бакунин, Тургенев, Толстой — и их осмысление человеческой свободы, прочитанное и осознанное по достоинству идей, с чистого листа.
ы похороните меня живьем?
Ты не живьё, сказал Томас, не забыл?
Дети Мертвого Отца тащат его на тросах через некое вполне условное пространство, чтобы похоронить. Мертвый Отец огромен, своенравен, гневлив — и ярость его смертельна, но в то же время милостив, чадолюбив, вечен, всесилен. И мертв. Одна нога у него полностью механическая — и в ней располагается административный центр его действий, ведь он необъятен и лежа занимает собой многие улицы. Пенис его так велик, что его можно, как мост, перекинуть через реку. Мертвый Отец непрестанно работает на общее благо. Мертвый Отец управляет всем — силами природы и силами рынка, а так же и тем, что думает Томас, и тем, что он всегда будет думать.
В пути Мертвый Отец разговаривает со своими детьми, садится с ними обедать, дает поучения, принимает поклонение, обижается, как ребенок, и бессильно подчиняется их приказам. Постепенно, постепенно он сдает Томасу атрибуты власти.
Мертвый, но по-прежнему с нами, по-прежнему с нами, но мертвый.
Бартелми кропотливо совершенствовал свое умение обращаться с текстом — нет такого приема, который был бы ему не подвластен, нет такой области языка и нарратива, где он не ставил бы эксперимент над читателем. В результате текст напоминает хрустальную шкатулку с изощренным механизмом внутри — прозрачный, не скрывающий никаких своих мотивов, постоянно обнажающий сам себя и свое устройство, тем не менее настолько сложное, что первое время можешь только завороженно его наблюдать. Понимаешь его далеко не после первого прочтения — но чувствуешь тут же, как если бы авторская интенция транслировалась тебе в голову сразу на уровень ощущений, минуя сознание.
XX век — век мертвых отцов, в политике, культуре, психоанализе. Их непосильный груз мы приволокли и сюда, в некоторой надежде отыскать для них достаточно большую яму. Мертвый Отец не хочет верить, что мертв, но он слабнет, слабнет, но он с нами. По Бартелми, задача детей всякий раз — сделать чуть меньше гнусностей, чем поколение отцов. Не перестать воспроизводить их — мы обречены воспроизводить. Но всего на йоту меньше.
Отцовство можно если не покорить, то, по меньшей мере, «отвергнуть» в этом поколенье — совместными усильями всех нас вместе.

Я умираю
потому что ты не
умерла вместо меня
и мир
всё ещё любит тебя
Я пишу это потому что знаю:
твои поцелуи
рождаются маленькими слепыми
в тех местах где песенки
дотрагиваются до тебя
Я не хочу стать всем
в твоей жизни
я хочу потеряться среди
того о чем ты думаешь
когда прислушиваешься к Нью-Йорку
засыпая.
Перевод Станислава Львовского
14
Благословен будь ты, кто среди бессчетных, снесенных прочь в ужасе, дозволил некоторым страдать вдумчиво. Кто набросил полог на дом, дабы немногие могли опустить очи долу. Благословен будь Ишмаэль, кто научил нас покрывать себя. Благословен ты, кто одел дрожащий дух в кожу. Кто возвел изгородь переменчивых звезд вокруг мудрости своей. Благословен будь учитель моего сердца на его престоле терпенья. Благословен ты, кто очертил ножом круг вокруг желанья, вокруг сада — мечами пламенными, а вокруг земли и неба — словами. Кто в кошмарной геенне прикрывал пониманье, и до сих пор хранит ее, прекрасную и глубоко сокрытую. Благословен ты, кто услаждает томление меж нами, Благословен ты, кто привязывает руку к сердцу, а волю — к воле. Кто начертал имя на вратах, дабы она могла его отыскать и войти в чертоги мои. Кто защищает сердце чужестранностью. Благословен ты, кто опечатал дом плачем. Благословен будь Ишмаэль на все времена, кто покрыл лицо свое дикой пустыней и пришел к тебе во тьме. Благословен будь завет любви между тем, что сокрыто, и тем, что явлено. Был я как тот, кого никогда не ласкали, когда ты коснулся меня из имени своего, и перевязал рану невежества милосердием. Благословен завет любви, милосердия завет, бесполезный свет за ужасом, бессмертная песнь в доме ночи.
«Книга Милосердия», перевод Максима Немцова
Почему я пишу
Владея всем

paulbaileyart.co.uk
Из греческой антологии
Бремя любви тяжело, если даже несут его двое.
Нашу с тобою любовь нынче несу я один.
Долю мою и твою берегу я ревниво и свято,
Но для кого и зачем - сам я сказать не могу.
Надпись на солнечных часах
Дорого вовремя время.
Времени много и мало.
Долгое время — не время,
Если оно миновало.
* * *
Т. Г.
Когда, как темная вода,
Лихая, лютая беда
Была тебе по грудь,
Ты, не склоняя головы,
Смотрела в прорезь синевы
И продолжала путь.
* * *
Владеет морем полная луна,
На лоно вод набросившая сети.
И сыплет блестки каждая волна
На длинный берег, спящий в бледном свете.
А кипарисы темные стоят
Над морем, не пронизаны лучами, —
Как будто от луны они таят
Неведомую ношу под плащами.
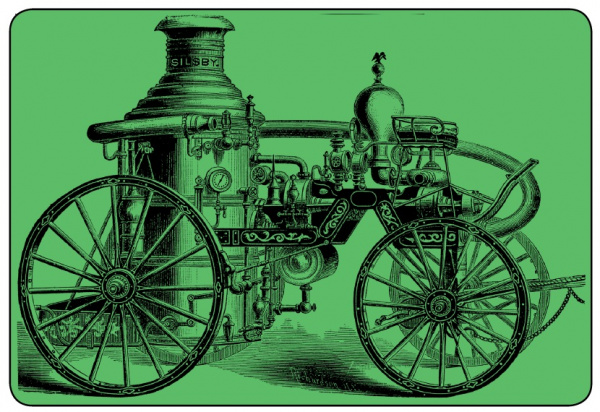
Как можно видеть на сопроводительной иллюстрации, пожарная машина «Силзби» — великолепное и грациозное порождение человеческой изобретательности. Впечатляющей всего она, конечно, красного цвета, но и зеленый тоже сойдет — особенно если вам ее подарил джинн из китайского домика в шесть футов высотой, неожиданно возникшего за ночь на вашем заднем дворе, куда вы отправились как-то раз с утра с достойной целью покрутить обруч. Все равно очень баснословно, как говаривала девица Матильда джинну, когда он докладывал, что его баснословное богатство немного-то радости ему приносит. Но обед, нет спору, побасеннее и пославнее!
«Немножко не то пожарное авто» — приключения девицы Матильды в китайском домике, сопровожденные классически исполненными гравюрами с подписями такой степени безбашенности, что а) сразу понятно, откуда черпал вдохновение паблик Married To The Sea б) трудно поверить, что это придумано совсем даже не сейчас в интернетике, а целых уже 45 лет назад, задолго до того, как определяющая сила медиа железной рукой установила картинку со смешной или абсурдной подписью как наиболее популярный и емкий юнит коммуникации. Твори Бартелми сейчас, у него, с его острейшим чувством нерва современности, любовью к краткости и играм с формой, была бы гигантская аудитория в социальных сетях.
А возможно, как и тогда, он играл бы на опережение — во что-то новое, и понимали бы его не все.
Затейливая эскапада девочки Матильды —
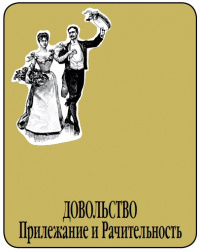
— Эскапада — это то, чего не ждешь, — объяснил джинн. — Такое, что удивляет, угождает и ужасает одновременно.
— Как хороший сон, — сказала Матильда.
— затейливая эскапада девочки Матильды с китайскими акробатами, пиратом, котопродавцем, кустарными летающими машинами и слоном-с-половиной — своеобычный оммаж «Алисе в Стране чудес» в духе XX-го века. Про такие книжки говорят, что они детские только условно, но я вижу примерно миллион вещей, от которых здесь будет в восторге ребенок, начиная с того, что в «Авто» понапихана уйма восхитительных незаурядных слов (переводчику Максиму Немцову спасибо), с каждым из которых в меру впечатлительное дитя способно носиться и доставать окружающих недели полторы как минимум.
Вот «Мертвый отец» того же Бартелми, которого мы издаем в серии «Скрытое золото XX века» — это уже настоящая затейливая (или затейная) эскапада для взрослых. Но это уже другая история, и мы расскажем ее в другой раз.
В отл ичие от Кутзее, о котором речь была в прошлом эфире, Том Стоппард делает все, чтобы читатель понимал, в какую игру он играет, и чувствовал себя полноправным соучастником. Точнее, видимо, сказать «зритель», потому что «Аркадия» это театральная пьеса. Как талантливый сторителлер и драматург, Стоппард выстраивает текст на внутренних рифмах и символах, которые воспринимаешь последовательно и в которых раскрывается его послание. Но текст этого послания — прозрачен, четко сформулирован, осознанно заложен и может быть считан. В лучших традициях британского классического детектива Стоппард разбрасывает подсказки, кусочки пазла, предоставляя нам вполне праздное, но радостное удовольствие самим складывать их в цельную картину. Эта система зеркал, в которых отражаются и трансформируются образы, не ставит своей целью нас запутать — это просто машина, необходимая для того, чтобы через собственное устройство явить нам авторскую идею. Ее можно и нужно понять, и она от этого не перестает работать именно так, как задумано, а напротив, раскрывается в процессе.
ичие от Кутзее, о котором речь была в прошлом эфире, Том Стоппард делает все, чтобы читатель понимал, в какую игру он играет, и чувствовал себя полноправным соучастником. Точнее, видимо, сказать «зритель», потому что «Аркадия» это театральная пьеса. Как талантливый сторителлер и драматург, Стоппард выстраивает текст на внутренних рифмах и символах, которые воспринимаешь последовательно и в которых раскрывается его послание. Но текст этого послания — прозрачен, четко сформулирован, осознанно заложен и может быть считан. В лучших традициях британского классического детектива Стоппард разбрасывает подсказки, кусочки пазла, предоставляя нам вполне праздное, но радостное удовольствие самим складывать их в цельную картину. Эта система зеркал, в которых отражаются и трансформируются образы, не ставит своей целью нас запутать — это просто машина, необходимая для того, чтобы через собственное устройство явить нам авторскую идею. Ее можно и нужно понять, и она от этого не перестает работать именно так, как задумано, а напротив, раскрывается в процессе.
Как во многих других текстах Стоппарда, в «Аркадии» — две временные линии, которые всю пьесу танцуют одна с другой. Начало XIX века, час восхода английского романтизма, лорд Байрон, эпоха Просвещения изживается романтическим мифом, райский сад в эпоху всеобщего Разума разлагается под влиянием культа Чувств, девочка-подросток со способностями к математике показывает своему юному учителю смерть Вселенной. Наши дни, несколько ученых пытаются найти и выявить смысл — каждый в своей области исследований. Их ведет наитие, будто они начинают видеть какие-то неуловимые очертания смысла, еще чуть-чуть — и они соберут пазл. Это зыбкое предвкушение пленяет их и влечет за собой, заставляя грешить против научного метода, и в конце концов против самой Истины, по велению сердца. Тем не менее, кого-то из них этот интуитивный поиск приводит к озарению, к прорыву, к прозрению в устройство природы. Позже, в «Береге утопии» Стоппард будет много говорить о том, что и эта интуиция — иллюзия, но сейчас он только выкручивает на полную громкость ту мелодию, которая пронизывает мир, как время от времени издалека все же слышится тем, кто одержим поиском смысла, и заставляет нас почувствовать ее неизбывную печальную красоту. За дар слышать эту мелодию человек расплачивается сознанием, что живет в распадающемся мире, конец которого сам приближает каждым своим поступком, каждым своим дыханием. Чувства привносят во вселенную тепло. Любовь увеличивает энтропию. Наше стремление друг к другу питает второй закон термодинамики. Прекрасный, гармоничный порядок Разума извечно обречен — и мы сделаем всё для этого.
Взрослый человек Симон, и с ним мальчик шести лет, Давид, прибывают на новую землю. Перед этим им дали новые имена, а воспоминания о прежней жизни стерлись из их памяти. Симон Давиду не отец, а только опекун. Он, как и все переселенцы (здесь никто не рождается, все приплывают на корабле), не помнит ничего о прошлом, но твердо уверен в том, что его задача — найти мать мальчика, которая ребенка непременно тут же вспомнит. Она не вспоминает. Или вспоминает? Так или иначе, она соглашается стать ему матерью. В городе, где они поселились, похоже, победил социализм. Люди в меру благожелательны, в меру бесстрастны. Труд и образование в почете, еды нет почти никакой. Желание что-то изменить — малопредставимая для порядочного человека гордыня. Принятие — не просто добродетель, а основное правило жизни. Жизнь здесь пресна, как хлеб, который им приходится есть каждый день, ибо нечего больше есть. Мальчику плохо дается учеба, мальчик видит вещи, каких не видит более никто, мальчик сопротивляется тому, что его окружает, изо всех сил. Вероятно, он принес какой-то новый Закон. Пока он выглядит, как страшно избалованный ребенок с переизбытком воображения.
Эта книга ужасно раздражает читателя. С самого начала все обладает отчетливо кафкианским привкусом, но не во всех случаях ты можешь ткнуть пальцем в то, что именно здесь не так. Герои отчетливо артикулируют свои мотивы, герои не перестают разговаривать друг с другом и обсуждать то, что меж ними происходит, как нормальные взрослые и невзрослые люди. Но все это явственная неправда. Все, что они говорят и делают, двигается мотивами и причинами, полностью отличными от того, что они говорят вслух или даже осознают, их поступки алогичны, абсурдны. Внутренние правила этого мира ощущаются как принципиально чуждые, механизм скрыт от глаз, устройство энигматично. Этот разрыв между внешними и внутренними связями ощущается как фоновый диссонанс, который постоянно досаждает тебе весь текст. Нечто, за что ты не можешь ухватится, что не можешь сформулировать. Это как загадочный «трещины», в которые все время боится провалиться мальчик. Из-за этого у него проблемы с математикой — он начинает представлять числа, а между ними являются ему разрывы, бездны, готовые поглотить его.
Хорошо же, тогда ты берешься за символический пласт: обращаешься к названию и пытаешься провести параллели с Библией. И здесь тебе ждет точно такой же лабиринт тупиков, как и с сюжетным пластом, мучительно нескладываемый кубик-рубик — ни один персонаж не отсылает впрямую к определенному прообразу, ни одна метафора не доведена до конца, в каждой аллегории не хватает значимых фрагментов, что-то смутно маячит везде, но определенности и связности во всем этом нет и не предвидится. Ты хочешь понять авторскую игру и разделить ее, но это невозможно, и это чудовищно бесит.
Одна нить, впрочем, вынимается из этого клубка: мальчик знает, что мир этот устроен не так, и люди, которые следуют за ним, подспудно чувствуют, что он прав, — хотя сами они не видят того, что видит он.
В остальном ни единого ответа не находится в романе, только бесконечные вопросы, вопросы, которые досадно царапают и раздражают, возникают один за другим и не уходят, и, когда ты закрываешь книгу, не вынимаются из головы.

«Следить за формой зачастую приятнее, чем за содержанием. Однако беды в том нет, ибо правильно организованная форма наполняется содержанием самостоятельно».
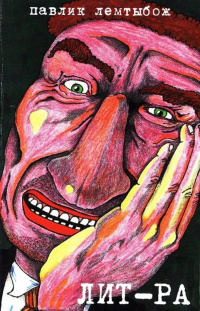
Так оно на самом деле и есть, и всё, что пишет и рисует Павлик Лемтыбож (он же Павел Власов, питерский поэт, музыкант, барабанщик и автор текстов группы «Сказы леса») — ясное и безапелляционное тому подтверждение. Каждый его коротенький текст — это такой безумный кубик-рубик, который складывается перед тобой в прямом эфире. Не только нет ни у самого кубика, ни у рук, которые бойко его трансформируют, никакой внутренней потребности придерживаться каких-нибудь специальных кубиковых правил, но и самой геометрической формы мало-мальски, а если приглядеться — вовлечены они вместе с вами, зритель, в нечто несусветное. При каждом щелчке кубик становится то резиновой уточкой, то невозмутимой консьержкой Аграфеной Львовной, то теологическим озарением. То есть в целом ведет себя для кубика-рубика как-то вполне безответственно. И все они вместе, уточка, Аграфена и озарение, как будто бы пришли к тебе в гости с некоторого похмелья и рассказывают, что человечество натворило с собой и с другими за всю свою историю, а тебе, хоть ты этого и не сознавал, расхлебывать. И, конечно, возникают определенные вопросы к себе и к человечеству, и некоторая лирическая нотка проскальзывает в твоем «Ах!», а все-таки очень, очень, ОЧЕНЬ смешно. И не можешь не думать каждые пару минут: «Вот! Вот же как человек умеет делать языком!..». Что, мы понимаем, во всех отношениях выдающееся качество и редкость. Так-то.
«А буде кто опять окончит письмо своё словом «так-то», — того тут же брать в часть, давать 40 шпицрутенов, вешать на спину туза и ссылать, на хер, не медля ни часу на станцию Морда».
Повествование движется к катастрофе, это становится понятно с первых страниц. Марк приближается к ней с двух сторон: вот он, условно взрослый мужчина с бутылкой виски, летит из Бостона в Москву. «Эйр Франс». В сумке у него пистолет. В Бостоне — Мэри О'Брайен, ее муж Мартин О'Брайен, их дочка Лиззи. И удивительное небо, какого здесь у нас никогда не бывает, прозрачное, резкое.
Вот он, маленький мальчик, смотрит, как его одноклассница и подруга Маша сидит на парте впереди и пишет олимпиаду. Он тоже: Петя разменял один рубль двадцать пять копеек серебром на медь. У Марка и Мэри О'Брайен есть общее прошлое — бывшее общим для многих и многих: автоматы с газировкой, траурная ленточка на рукаве в день смерти Брежнева, «Крамер против Крамера» в кинотеатре, пепси-кола и торт «Наполеон» на дне рождении. Через все настоящее, что грохочет и свистит вокруг них, в самый миг своего рождения уже умирая и становясь прошлым, вьется ниточка их личной связи. Марк — фотограф National Geographic. Он не может фотографировать людей — и даже смотреть на снимки с людьми. Особенно на детские фотографии знакомых. На фотографиях — мертвые люди, мертвые дети.
У Марка и Мэри О'Брайен нет ни настоящего, ни будущего. Начинающий подросток Лиззи почти не говорит по-русски. Мартин — ветеринар и прекрасный, прекрасный, настоящее счастье. Небо прозрачное, резкое. Мэри говорит «Oh, Gosh».
Эти дети, которыми они были, не принадлежат истории, они живые, все в них живое и дышит, живое заключается в том, что умирает каждую секунду, мертвое выдирает себе зубами история и абсорбирует, и длинное гладкое мертвое тело ее полнеет и ширится.
Остается только бесконечная бездомность и неприкаянность, два совершенно разных неба — здесь и там, история изгнания из Рая в детальных бытовых зарисовках, которые невротически накручиваются в тугую пружину, чтобы скрыть, что обнимают пустоту и не могут ее ухватить: вот мы идем делать trick-or-treat, вот Кейп-Код, вот «грузинские» шашлыки на йогурте, вот пароходик идет вокруг Манхэттена, вот ты лежишь ничком на кровати в черной засасывающей воронке исторической необходимости, дуб — дерево, воробей — птица, Россия — наше отечество, самолет, пистолет.
Среди рассказчиков, которые выходят за охранительные рамки художественной прозы и начинают говорить от первого лица, о себе и о личных, важных вещах, встречаются разные. Бывают рассказчики скрытные — ты смотришь на текст, который должен быть откровенным, и понимаешь, что эта завеса ничуть не более (хоть и не менее) прозрачная, чем, например, роман. Нет сомнений, что любое произведение — прежде всего завеса, но плотность и узорчатость могут различаться. Есть рассказчики, безжалостные к себе (и зачастую к окружающим). Честно сказать, не так уж часто авторы безжалостных текстов рассчитывали, что их о кто-нибудь прочтет. Этгар Керет ни то и ни другое.
«Семь тучных лет» Этгара Керета — семь лет, прожитых между рождением его сына и смерть его отца. Он как канатоходец, натянувший веревку между двумя зданиями Всемирного торгового центра. Пока он идет, есть только впечатления «сейчас», с которыми нужно справиться, но потом приходит осознание, что он видел огромную панораму под ногами. Отец, переживший Холокост, — это связь с прошлым, с историей, определяющей его сознание. Сын — повод задуматься о будущем и о настоящем, постоянное напоминание, что ему жить в том мире, который создается теперь.
В коротеньких историях, из которых состоит книжка, речь в основном о вполне незатейливых жизненных происшествиях. Они рассказаны с тем мягким юмором и тем оттенком горечи, какие возникают у людей очень внимательных к другим — и к себе. Но в этих историях сквозит ветер.
Многие говорят, и это кажется мне совершенно справедливым, что никакой человек, пишущий стихи, — не поэт 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Он вот может быть, как Маша Юганова, художник, иллюстратор, книжный дизайнер, и вообще заниматься чем угодно и думать о чем угодно дни напролет. Но время от времени случайные вещи складываются для него таким образом, что будто бы в этом слышится голос некой далекой песни — обрывочный фрагмент без начала и конца. Каждый человек, пишущий стихи, по-своему работает с тем, что удалось таким образом расслышать или подглядеть. Маша вчера на презентации своей новой книги в «Додо» сказала, что она, в отличие от «нормальных поэтов», с этим не работает — дали подсмотреть за занавесочку, и спасибо большое. За занавесочкой — ночной ветер, теплый дождь и река, над которой носятся черные сумасшедшие птицы, и они дышат нам оттуда потаенной жизнью. Голос Маши подхватывает это дыхание и сливается с ним в общую песню.
На повороте обнаженной трассы
Остаться и навек забыть,
О том, что солнце разомкнуло пальцы
И целый лес поднялся на дыббы.
Остановиться и навек остаться,
В кармане куртки разбирая крошки.
Остаться здесь. И наконец забыть,
Как ты смеешься.
*
Море выносит камень
Оставляет его в песке
Камень кричит «мама»
На своем каменном языке
Стучит и пятится, боится остановиться
Огромная ночь в вышине молчит
Словно уснувшая на лету птица
Как опрокинутый синий кит.
*
Лучше уеду
к незнакомому деду.
Антропософу.
Чем глотать тут ночами кофе.
Пусть даже антропофагу —
подмосковному людоеду.
Хоть так проявлю отвагу.
Наконец-то — роман Пинчона о современности. Мы уже прошли с ним XX век, и вот он снова на переднем крае осмысления культурного опыта, вскрывает нашу действительность, реконструирует ее по тем правилам, по которым мы привыкли ее воспринимать, и предъявляет публике наглядную модель. С этой своеобразной до мурашек моделью не знаешь, как быть, слишком она похожа на оригинал, но вывернутый наизнанку — микросхемами наружу. «Край навылет» исследует то, что окружает нас прямо сейчас, — интернет-реальность, терроризм, конспирологию — и это, конечно, невероятно интересно.
Романы Пинчона всегда — трансгрессивный трип в пространство личного и общественного человеческого сознания.
Понятно, что любой срез реальности, который кто-либо воспринимает, не существует сам по себе как нечто цельное — а составляется полифонией сюжетов и голосов (в том числе и голосов в голове). Пинчон это качество нарочито вытаскивает на передний план: смотрите, вот маловероятная история, состоящая из миллиона маловероятных историй помельче, которые немного чересчур связно сплетаются друг с другом. Эта излишняя связность, эта чрезмерная упорядоченность похожа на то, что испытывает человек на кислоте: все вокруг раскладывается на вполне случайные детали, которые складываются потом заново в новый невиданный узор. Бытие становится стройным там, где оно отродясь таким не бывало. Пинчон строит повествование так, чтобы сами герои его вынужденно заподозрили, что что-то здесь не так: реальность, данная им в ощущениях, не просто рассыпается на части. Это мы уже пережили еще с модернистами. Проблема в том, что новые паттерны, в которые она собирается, — слишком неправдоподобно четкие и в своем роде красивые, чтобы иметь естественное происхождение. Совпадение? Не думаю. Поэтому миром Пинчона правит паранойя: персонажи не могут не заподозрить заговор, чужую волю или некую метафизическую технологию в подкладке — сконструированность несусветной связности, в которую оказываются вовлечены. Но и читатель не уходит обиженным — и читатель, который видит всю картину целиком, понятия не имеет, что совпадение, а что — нет, и входит в этот же параноидальный модус сознания.
Человеческий мозг устроен так, что не может жить без связности, поэтому создает ее везде, где возможно. Мы рассказываем истории. Мы всегда рассказывали истории. Сегодня, с развитием медиа, истории транслируются невероятно широко и невероятно быстро, количество создаваемой информации все растет и проникает в нашу жизнь все глубже, истории, рассказанные другими людьми, окружают нас везде, и во многих мы становимся персонажами, не замечая того, тогда как другие в то же время сплетаем сами. Политика, пиар, маркетинговые стратегии, механизмы социальных сетей, игровые технологии. Усилия человечества по приданию реальности смысла работают все эффективней и дают все более причудливый результат. Мы живем в дополненной реальности — и речь не только о ловле покемонов, ловля покемонов всего лишь визуализирует правила, по которым всё функционирует уже и так. Настоящее и искусственное могут подменить друг друга в любой момент и становятся неразличимы, в пределе — равноценны. Встречайте реальность, дополненную одновременной работой множества человеческих сознаний.
«В действительности оказалось все наоборот. Гораздо больше детей в сказках нуждались взрослые. Но теперь все сказки для немцев закончились».
Все началось с чемодана в Государственном музее «Аушвиц-Биркенау». Так рассказывал Паул Гласер, когда был в «Додо» в прошлом году. На чемодане была фамилия Гласер, чемодан был из Нидерландов — и Паул, который родился и вырос в Голландии, увидев этот чемодан, решил узнать, как его родственники пережили Вторую мировую войну. Поиски привели его в Швецию, к Розе, родной сестре его отца. Паул, собрав дневники своей тети, ее письма, стихи, фотографии, смог восстановить ее историю. До концлагеря Роза — яркая, обаятельная и предприимчивая девушка — держала танцевальную школу. Когда евреям запретили владеть собственным делом, она устраивала тайные уроки на чердаке. В концлагере она давала уроки танцев эсэсевцам. Ее родителей убили, над ней экспериментировал доктор Менгеле, она работала в зондеркомандах. Через весь бесконечный ад, который ей пришлось пройти сначала в одном концлагере, потом в другом, она несла танец и какую-то невероятную твердость духа. «Танцующая в Аушвице» — документальное свидетельство о человеке, который в непереносимых обстоятельствах твердо решил выжить — и выжил. Из тех, что очень трудно читать, но необходимо.
«Размышляя на эту тему, я неизменно прихожу к одному и тому же выводу: я не верю ни в Бога, ни в государство. Что же остается мне тогда? Только вера в людей. После войны все рассуждают о праведниках и злодеях, но кем они были на самом деле? Конечно, войну учинили уголовники и военные преступники. Но если бы немцы выиграли войну, кем бы они тогда были?..»

Вчера Хулио Кортасару исполнилось 102 года. По этому поводу — два стихотворения в переводе Виктора Андреева.
ЧИТАТЬ СЛЕДУЕТ
С ВОПРОСИТЕЛЬНОЙ ИНТОНАЦИЕЙ
Ты видел
ты истинно видел
снег звезды шершавые руки ветра
Ты трогал
ты подлинно трогал
хлеб чашку волосы женщины которую ты любил
Ты жизнь ощущал
словно удар в лицословно мгновенье паденье бегство
Ты знал
каждой порой кожи ты знал
вот глаза твои руки твои сердце твое
необходимо от них отказаться
необходимо выплакать их
необходимо придумать их заново
БУДУЩЕЕ
Да, я знаю: тебя не будет.
Тебя не будет ни на улице, ни в ночном электрическом
шорохе
фонарей, ни в выражении лица,
когда читаешь меню, ни в улыбке,
смягчающей вагонную тесноту подземки,
ни в книгах, данных тобой, ни в "до завтра".
Тебя не будет ни в моих сновидениях,
ни в моих — непривычных тебе — испанских словах,
ни в номере телефона,
и в цвете перчаток — тебя не будет.
Любимая, я буду сердиться - не из-за тебя,
буду покупать конфеты — но не для тебя,
буду ждать на углу — но не ты придешь,
буду произносить слова, какие только придут на ум,
буду съедать то, что принесет официант,
буду видеть сны, какие станут мне сниться,
но я знаю: тебя не будет —
ни здесь, во мне, в камере-одиночке, где я еще удерживаю
тебя,
ни там, в мотке мостов и улиц,
Тебя не будет — нигде, нисколько, ты не станешь даже воспоминанием,
я буду думать о тебе —
но думать о тебе: лишь тщетно пытаться вспомнить тебя.
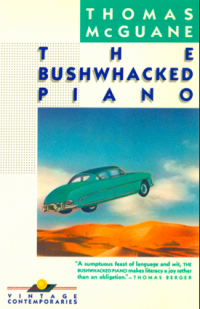
Вот молодой разгильдяй и укурок Николас Пейн. Его отец хочет, чтобы Пейн взял его практику, работал и стал нормальным человеком. Его мать уже ничего от Пейна не хочет. Его девушка Энн хочет жизненных впечатлений, которые трансформировались бы внутри горна ее утонченной художественной натуры в произведения искусства. Ей в целом нравится, что Пейн такой цельный и аутентичный в своей незамутненности, только немного раздражает, что Пейн ненавидит Шопенгауэра. Но она нашла способ извлечь толк и из Пейна — в рамках своего арт-проекта она фотографирует его в самых неловких ситуациях и неприятных состояниях духа. Родители Энн, богатейшие люди, хозяева гигантского ранчо, хотят, чтобы Пейн испарился и перестал существовать в познаваемой вселенной — ну или хотя бы на этом материке. Предприниматель по фамилии Кловис, которому только что ампутировали половину тела, хочет, чтобы Пейн строил и продавал вместе с ними башни для летучих мышей, потому что летучие мыши, как он уверяет, — лучшее средство от насекомых, переносящих заразу. Чего хочет Пейн — никто не знает, в первую очередь сам Пейн, потому что Пейн — Беспечный Дух Охламонства и американской дороги, он может быть звездой родео, гениальным авантюристом по летучим мышам или сидеть и втыкать в огромное звездное небо, жуя бутер с арахисовым маслом, что ему до них до всех вообще-то.
Все вместе это непередаваемый дорожный балаган на просторах американского юга и начала 70-х, язвительный и смешной, аж искры летят.
Прим. гл. ред.: Этот эфир подготовлен в рамках издательской Додо-феерии "Скрытое золото ХХ века". Скоро из всех утюгов Галактики.
Не знаю, как у вас, а у меня есть свой внутренний Кафка. Он кидается из самоуничижения в восторг, нездорово одержим размышлениями о предмете воздыханий, изводит близких детальными описаниями своей внутренней жизни и крайне болезненно воспринимает все подряд. И да, ненавидит телефон. С другой стороны, трепетно соединяется с умами почивших писателей тоже он, так что пусть, пожалуй, остается.
*
Кстати, из Вашего письма я уяснил, что и по праздникам, оказывается, пишу неразумно много. Сердце у меня, полагаю, в относительно полном здравии, но выдерживать муку, когда пишется плохо, и счастье, когда пишется хорошо, для человеческого сердца вообще нелегко.
*
Я совсем замучил Макса, чуть ли не выворачивая ему руки во всех пражских улицах и переулках, но этот дуралей из всего телефонного разговора почти ничего не запомнил и ни о чем, кроме Твоего смеха, рассказать не может. Как же, должно быть, Ты уже свыклась с телефоном, если можешь даже смеяться в трубку! А мне при одной только мысли о телефоне уже не до смеха. Иначе что помешало бы мне добежать до почты и пожелать Тебе доброго вечера? Но целый час ждать, когда тебя соединят, от волнения вцепившись руками в скамейку, потом, когда, наконец, выкрикнут твое имя, опрометью бежать к телефону, ощущая, как все в тебе дрожит, слабым голосом просить к телефону Тебя, не зная, хватит ли духу вообще Тебе ответить, потом благодарить Бога, что три минуты наконец истекли, и возвращаться домой, мучаясь теперь уже поистине неутолимым желанием поговорить с Тобой наяву, – нет, лучше уж и не пробовать. Впрочем, сама возможность – флером прекрасной надежды – остается, какой у Тебя номер, боюсь, Макс его уже позабыл.
*
Знаешь, «Ты» все-таки не такое верное подспорье, как я думал. Сегодня, всего лишь на второй день, оно себя уже не оправдывает.
*
Из двух книг, которые, возможно, даже не успели еще до Тебя дойти, одна предназначается для Твоих глаз, другая для Твоего сердца. Первая и вправду выбрана несколько своевольно и немного наугад, есть много других книжек, которые надо было бы подарить Тебе прежде этой, так пусть же она будет порукой тому, что между нами уже и своевольное позволительно, ибо способствует непреложному. Что же до «Воспитания чувств», то эта книга уже много лет близка мне, как, быть может, близки еще только два или три человека на свете; когда бы, на какой бы странице я ее ни раскрыл, она поражает меня мгновенно и захватывает с головой, и в эти минуты я неизменно ощущаю себя духовным сыном этого писателя, правда, сыном бедным и беспомощным.
Я уже как-то докладывала тут про целительное воздействие Пратчетта на мою голову. Я странный поклонник — у меня много нечитанных его книжек. Но как раз из-за этого эффекта я и не тороплюсь, применяя его к мозгу только тогда, когда бессильно все остальное.
Серия Пратчетта про девочку-ведьму Тиффани Болит, на мой взгляд, должна быть во всех списках лучших книжек для детей. Если вдуматься, серия не так уж принципиально отличается от книжек Пратчетта для взрослых. Во всяком случае, интонация его нисколько не меняется — и это тоже правильно. Как во всех хороших книжках про обучение магии, главное, что узнает Тиффани, — кто она такая и как устроен мир. Кое-какие правила ведьмы она уже зазубрила:
Всегда поворачивайся лицом к своему страху.
Всегда держи под рукой достаточно денег, не слишком много, и леску.
Даже если это не твоя вина, это — твоя ответственность.
Ведьмы разбираются с вещами.
Никогда не стой между двумя зеркалами.
Никогда не гогочи.
Делай, что должно.
Не лги, но необязательно всегда быть честной.
Никогда не желай.
Особенно не загадывай желаний на звезду, что попросту астрономически тупо.
Открой глаза, затем открой глаза снова.
— но кое-чему еще придется научиться. Что разговоры про космический баланс, круги и волшебные палочки — это игрушки. Красивые звезды на шляпе не сделают тебя ведьмой. Звезды — это просто, люди — трудно. Что нет порядка, которым все должно быть. Есть только то, что случается, и то, что мы делаем. И ведьмы делают то, что можно сделать, чтобы помочь. Что магия — это простые каждодневные вещи. Что ведьме необязательно приходить к людям, но если они время от времени смотрят в сторону ее дома думают «А что бы сделала Бабушка Болит?», «А что бы она сказала, если б узнала?» — это магия. Что только лучшая ведьма способна сделать так, чтобы люди помогали друг другу сами. Что магия — в человеке, а не в вещах. Что если ты не знаешь, когда быть человеком, то не знаешь и когда быть ведьмой. Вообще-то довольно поразительно: всё, что Пратчетт хочет донести до читателя, он всегда артикулирует примерно по слогам — вкладывает в уста персонажей или говорит сам, самым наипрямейшим образом. Еще какое искусство — говорить «просто» и не звучать ни на толику банально, не звучать нарочито, не звучать нравоучительно.
И конечно, главное, чему Пратчетт не устает поражаться: способности человека рассказывать истории самому себе. Брать гигантские, раскаленные шары газа, что неистовствуют в далеком космосе, вырезать их из фольги и наклеивать себе на шляпу. Вставать по утрам.
Хорошая ведьма умеет рассказывать истории, вот еще что. Людям и себе самой.
История Артура — Артура Конана Дойла — и Джорджа — Джорджа Идалджи — произошла в действительности. Идалджи был юрист в деревне Южного Стаффордшира, англичанин в первом поколении, сын индийца и дочки местного викария, человек уважаемый и высокообразованный, и где-то в 1903-м его приговорили к семи годам исправительного труда за убийство скота. Там случилась долгая некрасивая история с анонимными письмами и лошадьми, которых стали находить мертвыми то там, то здесь, — и в этом обвинили Идалджи, несмотря на его невероятно слабое зрение, едва ли позволявшее шастать по округе ночью и ускользать незамеченным. Дело было настолько высосанным из пальца, что никто до последнего не верил, что приговор будет обвинительным. А вот шеф-констебль местной полиции Энсон, к примеру, считал Идалджи более чем подходящим кандидатом для производства ночных массакров: потому что у того была «походка, словно у пантеры» и «кошачьи глаза, сиявшие странным светом».
Развернулась масштабная общественная кампания, в которую как раз и включился Артур Конан Дойл, на тот момент по известности уступавший разве что Киплингу. Он действительно поехал в Южный Стаффордшир, побывал на местах преступлений, познакомился с Идалджи — пока того еще не посадили, — разговаривал со свидетелями, и вообще, провел собственное расследование, о котором с пылом докладывал газетам. Он-то был как раз уверен в невиновности Идалджи и абсурдности обвинений. Конечно, публика следила за этим делом с огромным интересом — сам автор Шерлока Холмса пробует его метод на практике! Не в последнюю очередь благодаря его участию, удалось добиться помилования — правда, часть срока на тот момент Идалджи уже отбыл.
Судя по аннотации, можно подумать, что книжка Барнса — такой остросюжетный детектив, но это не так. Барнс сначала обстоятельно рассказывает историю Идалджи вплоть до приговора, потом перемещает ракурс на неторопливое изучение внутренней жизни Артура Конана Дойла, жена которого Мэри Луиз тихонько умирает от туберкулеза, а он в это время тайно влюблен в свою будущую вторую жену. Барнс говорит, что это «современный роман, рассказывающий о прошлом», и что он не очень-то стремился следовать документальной основе до последней буквы. И, насколько автору интересен яркий и значимый в общественной (и судебной тоже) истории Англии прецедент о победе над расовыми предрассудками, настолько же ему интересно и другое: как мог быть устроен изнутри один из самых ясных умов своего времени, вмещавший в себя и такое острое социальное зрение, и истовую веру в спиритизм.
Сегодня будет эфир с картинками для всех, кому дождливо и невесело. Мне редко-редко нравятся штуки, сделанные специально, чтобы вдохновить потребителя, — чаще всего они просто не удаются, и остается в них только благостность и самодовольная навязчивость. Но некоторые, случается, работают. Нил Гейман, наверное, один из самых вдохновляющих современных — не только писателей, но и человеческих существ (из представленных в публичном поле медиями). Этот человек придумал Сэндмена, «Американских богов» и ожившую Тардис в «Докторе Кто»! Однажды он прочитал напутственную лекцию студетам-выпускникам Университета Искусств в Филадельфии — о том, каково создавать искусство, как это мучительно, несносно и совершенно необходимо. И конечно, умудрился сказать обо всем, что важно, и именно так, как нужно, и к тому же весьма коротко. Речь вышла книжкой, которую издательство Livebook выпустило по-русски, и к которой замечательная художница Эя Мордякова нарисовала кавайных маленьких Нилов Гейманов в обаятельных тентаклях. Рекомендую.

Ты должен творить.
Я серьезно. Муж убежал с политиком? Твори. Твою ногу сломал а затем съел мутировавший боа-констриктор? Твори. У тебя на хвосте налоговая? Твори. Кот взорвался? Твори. Кто-то в интернете считает, что все, что ты делаешь, глупо, вредно и было сделано до тебя? Твори. Из этого обязательно что-нибудь получится, и в конечном итоге время ослабит хватку, но это будет уже не важно. Делай то, что умеешь лучше всего. Твори.

Первая проблема любого, даже самого незначительного успеха — постоянное ощущение, что ты совершил что-то такое, что сошло тебе с рук, и теперь в любой момент тебя могут вывести на чистую воду.

Поэтому будьте мудры, ведь миру не хватает мудрости, а если вы не можете быть мудрым, притворитесь мудрецом, и ведите себя так, словно вы — он и есть.

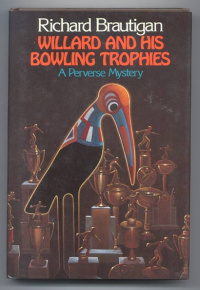
«Сумбур и безумье — игральные кости любви», читает вслух Боб. «И все окончится ничем», читает вслух Боб. «Откусывает от огурцов», читает вслух Боб из «Греческой антологии» — сборника древних текстов, от которых ничего не осталось, кроме оборванных строчек. Бог весть, что они значили и как звучали внутри стихотворений, стеревшихся из коллективной памяти? Боб и Констанция любят друг друга, но всё однажды пошло не так. Этажом ниже Джон и Патриция собираются в кино, оставляя в гостиной Уилларда, птицу из папье-маше, окруженного кегельбанными призами. Где-то братья Логаны, три простых парня, у которых эти призы были украдены пару лет назад, идут по их следу. Эти три линии развиваются параллельно, постоянно перебивая друг друга в самых неподходящих местах, и никак не связаны — только причастностью к странной птице из папье-маше. Роковой причастности! Судьбы здесь вершатся нипочему. Исток превратностей не проясняется ни сначала, ни потом. Персонажи не знают, что они — часть общей истории и никогда об этом не узнают. Да и принцип, по которому они становятся частью общей истории — вызывающе, намеренно случаен: смотрите, они оказываются связаны просто потому, что я, автор, выбрал связать их. Нет никакой связности. Нет никакой причинно-следственной логики. Есть только Уиллард.
Бротиган по-чеховски находчиво и тонко рисует симфонию ежесекундных выборов и чувств, которые составляют человеческое несчастье. Это симфония скупца — ему достаточно самой лаконичной невыразительной документации мелочей, которая превращается, будучи последовательной, в средство выразительности сама по себе. Время для этих целей замедляется до полной невыносимости: все происходит, пока не происходит ничего. При этом исполнение тоски и безысходности умудряется быть умопомрачительно забавным.
Все в лапце Уилларда, птицы из папье-маше.
Прим. гл. ред.: Этот эфир подготовлен в рамках издательской додо-феерии "Скрытое золото ХХ века". Скоро из всех утюгов Галактики.
Сергей Москалёв смотрит на окружающий мир с таким бережным и устойчивым вниманием, что тот под его взглядом становится прозрачным-прозрачным, как дымка на рассвете. Тогда в нем можно разглядеть контуры внутренних связей, обычно замутненные: между людьми, их эмоциями, волей и процессами, в которые они вовлечены. Конечно, ухватить удается лишь отдельные сиюминутности, из которых складывается очень занимательный калейдоскоп. Им можно пользоваться, когда кажется, что в глаз попал осколок зеркала тролля, — и чтобы поправить зрение, и для профилактики. Но самое важное даже не это, а возможность сонастроить свой взгляд и развить собственное внимание к миру.
Почему стоит записывать посещающие нас умные мысли? Мы не находимся на верхних этажах своего сознания. Лифт иногда поднимается туда, двери открываются, мы что-то видим, двери закрываются, и мы едем вниз, в свое обычное состояние. Внизу увиденное наверху забывается. Записывая, мы присваиваем то, что дается нам проблесками: записная книжка становится выносным умом, к которому можно обращаться.
*
Вместо того, чтобы ускорить в себе «наблюдателя», человек начинает притормаживать мир вокруг себя. Это становится формой тихого насилия: мир стремиться стать быстрее и связнее, и чье-то нежелание не может остановить эти процессы.
*
Пока относишься к человеку как к учителю — учиться у него. Если начинаешь относиться к нему как к приятелю — перестаешь учиться и просто проводишь время, и свое, и его.
*
Милосердие — воспринимать человека как целое, не делить его на части и не играть сравнениями. В таких отношениях мелкие несовершенства не портят целого, ведь любой человек — результат миллионов совпадений, которые от него не зависят.
Сегодня будет эфир с картинками.
Есть такая сказка, а может, и не сказка... Подзаголовок у книжки такой: «Три истории, рассказанные Умберто Эко и проиллюстрированные Эуженио Карми — для детей, для взрослых, для всех, кто нуждается в сказках».

Придумывая сказки для детей, Эко считает необходимым не рисовать фантастические декорации иного мира, а быть предельно близким к реальности как она есть — как мы ее тут себе устроили. Первая сказка — рассказывает об атомах, которые так не хотели убивать людей, что выпрыгивали из атомных бомб.

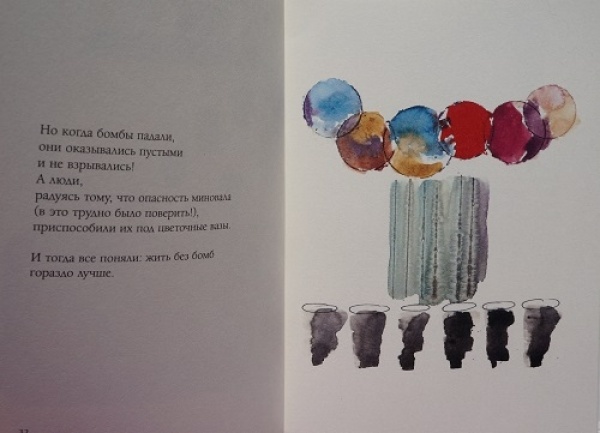
Вторая сказка — о том, как три космонавта, русский, китаец и американец, которые терпеть друга не могли, прилетели на Марс, познакомились с марсианином и выяснили, что не только они втроем похожи друг на друга, хоть и говорят на разных языках, — но и марсианин не так уж от них отличается, ведь ему тоже может быть жалко птичку.

В третьей истории инопланетные Гномы Гну мягко отказываются от предложения принести им свет земной цивилизации, показывая землянам, что именно они собрались принести. Может, говорят, мы лучше сами к вам прилетим? Почистим планету от экологических отходов, там?

Эти три сказки — чудесные, гуманистические, против войны, ксенофобии и безответственного отношения к окружающей среде — в целом приглашают сразу думать и разговаривать с родителями по существу и о важном. Странно было бы ожидать меньшего от Эко. Но мне кажется, в книжке есть еще одна история, не менее важная, чем все то хорошее и нужное, что написано в ней буквами. А именно картинки Эудженио Карми. Они сделаны, с одной стороны, с полным пониманием формата детской книжки, для разглядывания детьми (что они, судя по отзывам, делают вполне увлеченно, радостно и с пониманием). А с другой — они сделаны современным художником, который осознает, что находится в контексте современного искусства. И ребенка вводит туда же — в мир, где «Черный квадрат» был уже 100 лет назад, где совсем другая визуальность и другое мышление об искусстве, чем условно «классические». А такое среди детских книжек, издающихся у нас, — громадная, экстраординарная редкость.
О первой части трилогии Кирила Бонфильоли — «Не тычьте в меня этой штукой» — я вам докладывала в прошлом году. Маккабреи не сдаются! Маккабреи возвращаются — и уже успев хорошенько собраться с духом перед лицом Смерти, обнаруживают, что она вовсе не горит желанием пока что собирать от них неприятности и на Том Свете тоже. Издательство Livebook, спасибо ему большое, все-таки выпустило на русском всю трилогию Маккабрея. Боже, храни Маккабрея!
Испытания, которые нашему изумительно ушлому арт-дилеру предстоит пережить во второй книге, еще более великолепны и жестоки в красоте своей смехотворной нелепости, если такое вообще представимо. На этот раз у Судьбы, которая одновременно влюблена в него и безжалостна, есть имя, и это — Иоанна, прекрасная молодая жена нашего героя. Как порядочному джентльмену, Маккабрею приходится стать рыцарем без страха и упрека для своей Дамы Сердца, отважным (ну, в рамках здравого смысла) и беспрекословным (да, но у всего есть свои пределы, знаете ли). Сказали — убей Ее Величество Королеву Елизавету Вторую, надо убить. Сказали — езжай проходить обучение в женском Педагогическом колледже, хочешь-не хочешь, а придется живо спасаться по лесам от учебной, однако весьма достоверной охоты на свою достойную шкуру. Сказали — провези через границу полкило героина... Нет, нет и опять нет! Ну, вы поняли.
Наш подневольный цареубийца и приключенец в узах суровой матримонии, как истинный рыцарь, понятия не имеет, зачем он делает то, что в данный момент делает, что вокруг происходит, кто эти люди и откуда взялась китайская разведка, но проходит свой хлопотный квест со смирением (в некоторой части случаев) и достоинством (опять же, в рамках здравого смысла), следуя зову сердца, горящего священной любовью в его груди. Или это пятки? Или это там у него дистанционная бомба?
Непросто быть Маккабреем. Зато читателем козырно.
Если и есть в мировой литературе точный и лаконичный рассказ природе любви людей к своему богу, то это «Мы так любим Гленду». Из случайных людей, необъяснимым для них самих образом, складывается «кружок» — не почитателей актрисы, нет. А только тех, кто любит ее, и это важнейшая точка невозвращения. Герои Кортасара — люди, удивительно ясно отдающие себе отчет в своих желаниях, они не скрываются от самих себя, они не боятся смотреть в глаза тому, что растет в их сердце, они не меряют себя общественной меркой. Они ни на миг не сомневаются в своем праве быть и чувствовать так, как чувствуют именно они. Они шагают за своими желаниями — и не рефлексируют, как это выглядит чужими глазами, им нет дела до социальной приемлемости. Это, в частности, позволяет им отыскать друг друга среди тех, кто просто восхищается Глендой. Они — другое дело. Они любят ее.
Клан, карасс, который спонтанно образуется вокруг Гленды, чем больше сплачивается, тем сильнее ощущает свое право на своего бога. Они отдают себе отчет в том, что она всего лишь человек, неидеальный и способный на ошибки, и в этом смысле Гленда им неинтересна. Но им — им видно ее божественный потенциал, поэтому они обязаны сделать из нее тот идеал, коим она уже и так является в их сердцах. Очистить ее сияющий образ от искажений и затемнений. Эта работа делает их самих богами. Именно этого они и искали. Они наконец сотворяют нечто большее, нежели они сами. И в конце остается только одно — подарить ей окончательное совершенство, которое уже никто не сможет испортить, даже сама Гленда.
Во дни уныния, раздоров, тревожных метаний, беспросветной мути и общей промозглости помогает поржать. С этой целью полезно употреблять тексты Дмитрия Горчева — ежедневно на ночь, в небольшом, строго дозированном объеме в несколько страниц, чтобы подкорректировать в организме уровень наиважнейшего нейромедиатора «похуин». Убедиться, что с людьми кончено, идеалы попраны, надежды нет, выпить тоже кончилось, а уже полвторого, всё какое-то дурацкое, и это. Очень. Смешно. Проморгаться, выдохнуть, лечь спать.
Александра Сергеевича еще раз с днем рождения.
Подземный Пушкин
Подземный Пушкин отличается от наземного так же сильно, как крот отличается от мыши.
Мышь — существо относительно симпатичное: домовитое, но слишком уж суетливое. А крот угрюм, целенаправлен и думает исключительно о том, кого бы сгрызть. Весьма неприятный.
Вот и Подземный Пушкин тоже был неприятен: именно он написал такие произведения как «во глубине сибирских руд», «пир во время чумы», «каменный гость», «буря мглою» ну и прочую всякую поебень.
Логично было бы предположить, что «мороз и солнце день чудесный» написал Наземный Пушкин — но нет! Наземный Пушкин занимался исключительно игрой в карты, еблей баб и стрельбой с дантесом.
А кто тогда написал все остальные произведения Пушкина? Вот это никому, совершенно никому так до сих пор и не известно. Возможно даже, что их никто не написал.
И что любит побыть один — взрослым тоже очень не нравилось. Им не нравится даже, когда взрослый хочет побыть один, — когда ты с другими, им понятно, что ты затеваешь. Ты затеваешь то же, что они.
Йен Макьюэн, как многие взрослые писатели до и после него, написал детскую книжку для своих собственных детей — так родилось множество замечательных детских книжек. Интересно, что когда писатель рассказывает сказки чужим детям, иногда начинают вообще происходить чудеса — «Питэр Пен», «Алиса в Стране чудес», «Мэри Поппинс».
Питер из «Мечтателя» — родная душа, воплощение всех задумчивых и медленных детей, которые вечно витают где-то не здесь, игнорируя реальность если не полностью, то уж во всяком случае настолько, чтобы постоянно влипать в неприятности. Как успевать по математике, если, начав решать пример, в итоге весь урок пытаешься вообразить себе самое большое число из всех самых больших чисел во вселенной? Как не забыть в автобусе маленькую сестру, если в это время ты спасаешь ее от диких зверей в темном лесу?
Макьюэн рассказывает о всяких чудесах, которые случаются с Питером, и исподволь мягко намекает: раз никто не видит, какое волшебство происходит у тебя в голове, надо им рассказать, если хочешь, чтобы тебя поняли. Хороший совет, многим взрослым бы пригодился.

Но что на этом темном этаже,
где даже лифт боится задержаться,
что там за дверью, в глубине, в душе,
где даже пятна света не ложатся,
где капелька по капельке течет
ночная тишина и поволока,
где проволока тонкая сечет,
едва коснешься звездного порога,
где повилика вьется по стене,
холодная и влажная на ощупь,
и палевых ресниц не видно мне,
и не проникнет голос твой извне.
Площадка этажа пуста, как площадь,
как площадь в некончающемся сне.
Наталья Горбаневская
На первый взгляд "История мира" выглядит как десяток разрозненных историй под одной обложкой, но считается романом, и не просто так. Не говорю, что здесь при ближайшем рассмотрении даже можно обнаружить героев, которые появляются или упоминаются в каждой части отдельно — наверное, я не буду открывать, кто именно, чтобы не испортить читателю удовольствие обнаружить их самостоятельно. Это "роман" об истории мира — своеобразный роман о своеобразной истории мира. Эта история мира лишена линейной хронологии, достоверных критериев реального и выдуманного, она складывается сразу во всех направлениях одновременно, поэтому персонажи и декорации могут быть любыми. Но некоторые элементы повторяются. Барнс берет древнейшие истории — о человеке и бескрайнем море и о жертвоприношении, рассказанные тысячу раз всевозможными способами, разлагает их на составляющие и собирает заново. Иона во чреве кита, Потоп, Ной, "Титаник", плот "Медуза", картина "Сцена кораблекрушения", суд, Бог, каннибализм... Насколько мелко можно раздробить фрагменты человеческого Повествования, насколько хаотично раскидать, чтобы убедиться, что они все равно продолжают рассказывать? Барнс анализирует историю до точки отсутствия какого-либо смысла — как с той девушкой, которая пустилась путешествовать на лодке, испугавшись атомной войны, и покончила с реальностью — но человек, с его склонностью находить паттерны, закрывает глаза на предъявленную бессмысленность, берет оставшиеся разрозненные детали и снова складывает в узор. Это история мира для квантов, которые случайно перемещаются в бескрайнем пространстве, в измерениях, которые попеременно и одновременно существуют и не существуют, и самое поразительное в них то, что ими продолжает рассказываться История.
Я уже как-то докладывала здесь, зачем я хожу в пространство Фрая, и что оно такого делает с читателем — если тот, конечно, доверчив и беззащитен (каким следует, как говорится в этой книжке, быть в любви, но и в чтении иногда небессмысленно). «Надежда — глупое чувство» — кажется, самая известная цитата из этих текстов, но сами-то они всегда — всегда! — о торжестве надежды. Точнее, конечно, даже не так: о торжестве идеализма, о победе неукротимого, вдохновленного любовью желания, чтобы все сложилось правильно, — вне зависимости от того, какими окончательными и бесповоротными кажутся обстоятельства. Совершенно дурацкой готовности в случае нужды поставить на кон свою свою жизнь и совершить невозможное, чтобы переделать неотменимые законы мироздания, — и мироздание, несколько удивившись, с видимым удовольствием подчиняется. (А что, так можно было?..) В конечном итоге, всегда об отмене смерти как самого безнадежного из законов. Конечно, магия в нашем мире не работает. С поправкой на это, правила игры примерно те же. Если по ним играть, разумеется.
Есть такая техника — когда наклеиваешь по дому множество записок самому себе. Чтобы наткнуться взглядом в неожиданном месте и вспомнить, например, не повышать голос на своего ребенка. И в этой книге у меня был богатый улов таких записок, весь в эфире привести видится невозможным — но кое-что не удержусь.
*
Когда приходится выбирать между разными способами объяснить происходящее, я стараюсь руководствоваться принципом: правда — это то, что мне по душе. И вряд ли ошибаюсь чаще, чем те, кто делает наоборот.
*
Настоящее обучение это не только передача знаний, но и — возможно даже в первую очередь — опыт счастливого равноправного взаимодействия с другим существом, во всем тебя превосходящим, но одним своим присутствием поднимающим на эту недосягаемую высоту. И вовсе не из соображений благотворительности, а просто потому что разговаривать с равным гораздо эффективней, чем неразборчиво выкрикивать инструкции, свесившись вниз головой со своих алмазных небес. И проще, и интересней. И веселей.
*
«Притворись невозможным» — это просто такая веселая игра, в которую всякое стоящее дело любит играть с человеком, только и всего.
*
Собственно, любое дело при должном подходе — полной самозабвенной самоотдаче — становится магией. И открывает нас Миру. И изгоняет смерть.
 Нет, это не научпоп. Это художественная книжка. Но чтобы сразу не было вопросов к названию, эффект Ребиндера — это когда что-нибудь вроде бы мелкое и незначимое внезапно ломает что-то гибкое. Ну, капля олова — стальную пластинку. С человеческой биографией такие штуки тоже происходят сплошь и рядом.
Нет, это не научпоп. Это художественная книжка. Но чтобы сразу не было вопросов к названию, эффект Ребиндера — это когда что-нибудь вроде бы мелкое и незначимое внезапно ломает что-то гибкое. Ну, капля олова — стальную пластинку. С человеческой биографией такие штуки тоже происходят сплошь и рядом.
Эксперимент, который в этом ключе ставит автор, (по образованию — ага, химик) начинается после революции и оканчивается в начале нового века, через довоенные годы, войну, эвакуацию, оттепель, брежневскую эпоху, эмиграцию. Драматичный XX век и поколенческий переплёт — жанр знакомый, и его есть за что любить: мы сдаемся автору в его эксперимент, проживаем несколько чужих жизней сразу, и выходим из него немножко другие. Все, кому такие приключения чувств милы, обратите внимание на эту небольшую, лирическую книжку со странным названием.

«Я-то надеялся, что как обозреватель я просто смешон, но в этом жестоком мире, где так много людей лишены чувства юмора, мрачны, не способны мыслить и так жаждут слепо верить и ненавидеть, нелегко быть смешным. Так много людей хотели верить мне».
Есть вещи, которые мы можем начать осмыслять только с очень дальней дистанции. Например, очень трудно вместить в сознание бытовую шизофрению. Рудольф Гесс, комендант Освенцима, который чередует по громкоговорителю классическую музыку и призыв бригад по уборке трупов, такое. И дальше по шкале убывания иллюстративности. В целом, то, как просто и естественно желание к насилию совмещается в нас со способностью вставать утром и идти по своим делам. Осмысливать этот сложно устроенный ужас необходимо — и нам сейчас все еще непросто, несмотря на весь разработанный после Второй мировой критический инструментарий, социологический, психологический, философский, всякий.
Но это если мы беремся думать некий ужас, от которого мы сами отстранены. Каких-то других людей, историю, которая уже произошла не с нами, к которой мы так или иначе имеем опосредованное отношение. Чем проще окружающий наш мир распределим в дихотомию «добро — зло», тем сложнее нам отслеживать зло в себе самих, ту часть нас, как говорит Воннегут, «которая желает ненавидеть без предела, ненавидеть с Божьего позволения, которая находит любое уродство таким привлекательным, которая с радостью унижает, причиняет страдания и развязывает войны».
Ну вот, а Говард У. Кэмпбелл-младший, пропагандист и двойной шпион, который ожидает суда за свои преступления против человечества во время Второй мировой войны, все прекрасно знает. Он знает, что у него есть оправдание и нет оправдания. Он знает, что, родись немцем, был бы искренним нацистом. Он не может осмыслить зло, потому что для этого ему надо шагнуть изнутри зла и оказаться снаружи. Но он отчетливо знает и видит, что пребывает в самом сердце зла, и не может перестать это видеть. Парадоксальным образом это не дает ему одновременно не только вместить в сознание происходящее и придать всему смысл, найти внутреннюю логику, но и построить себе защитную иллюзию, которая встала бы между ним и ужасом. И это, вероятно, один и тот же процесс. Он видит происходящее тем яснее и резче, чем меньше он способен притвориться — убедить прежде всего себя, что у всего этого существует некое связное, действительное значение. Но он может свидетельствовать — что он и делает всю книгу, беспристрастно перечисляет факт за фактом. Он человек с абсолютно незамутненным рассудком, отдающий полный отчет во всем, что происходит, в том, что зло — близко, близко, внутри него, и он смотрит на это зло и говорит «это зло», и это окончательный и абсолютный тупик, из которого нет выхода.
P. S.: Секта читателей «Голос Омара LIVE» 11 мая будет обсуждать роман с поэтом, писателем, знатоком фантастики Марией Галиной. Присоединяйтесь.
Достоинство рода человеческого — в нашем стремлении знать, а наша видовая уникальность отражена в достигнутых тысячелетними усилиями успехах в разгадке таинства — таинства природы.
Оглядываясь на историю человеческого постижения, мы видим череду гениальных открытий, которые выстроились одно за другим в торжествующем параде. Такое разветвленное генеалогическое древо с портретами сияющих умов в рамках: вот Галилей, вот Ньютон, вот Резерфорд, вот Шрёдингер. Млодинов, рассказывая, как наши умы прошли путь от чего-то вроде крыс до ученых, которые изучают устройство крыс в лабораториях, чертит совсем другую схему. Представьте, как путь познавательных идей выглядит изнутри — это бесконечный клубок надежд, предположений, сомнений, ошибок, тупиков. Каждый новатор проводит с этим клубком много лет, пытаясь нащупать именно ту нить, которая приведет к прорыву. Но вот нюанс: пока не дойдешь до конца — если когда-нибудь дойдешь, — не узнаешь, за ту ли нить ты схватился, или она однажды оборвется у тебя в руках. А может быть, и вообще никогда не узнаешь. Но известно, что единственный способ прийти куда-то — решительно выбрать нить и начать идти, нащупывая путь, не обращая внимания на неудачи и препятствия. Может пройти много лет или даже целая жизнь прежде, чем ты выйдешь к свету. Или не выйдешь.
По сути дела, говорит Млодинов, смотрите: любой настоящий ученый — это искренний и добросовестный одержимый псих, чрезвычайно приверженный поиску истины и с огромной верой в свою навязчивую идею. Любой настоящий ученый, оказавший влияние на развитие науки, — это везучий псих, чья интуиция и невероятное стечение обстоятельств случайно открыли сокровища ему и тем, кто пришел следом. Сперва надо вообразить несусветные вещи — предметы, падающие в теоретическом мире, где нет сопротивления воздуха, невидимые частицы, взаимодействующие друг с другом по сложносочиненным законам. Надо позволить своей фантазии изучить все, что сказано другими, и перевернуть взгляд — причудливым, часто скандальным образом. Надо поднять свою интуицию на флаг и нести его доблестно, не избегая открытого обсуждения и критики своих выпестованных идей. И тогда, возможно, существует некий призрачный шанс, что ты совершишь прорыв в понимании законов вселенной, в жизнях людей и нашем образе мыслей, и твое имя останется в истории в рамочке. Или нет — и тебя будут считать фриком. Но чтобы этот шанс появился, сначала нужно стать фриком.
Человеческое стремление к знанию — блестящая авантюра, в которой мыслители поколениями ставят на кон собственные жизни — за один маленький, но бесконечно драгоценный Шанс узнать, без малейшей уверенности, что он исполнится. Это предприятие мысли завораживает, и заставляет почувствовать себя в кои-то веки на одном корабле с человечеством, братством фриков, мчащемся сквозь холодный космос, — неизвестно куда, неизвестно зачем, но отважно и отчаянно стремясь к постижению ради самого постижения. И с небольшим шансом на удачу.

Сейчас, когда вокруг происходит так много малопостижимого уму, что проживать все это не успеваешь, время от времени как-то срываешься и спрашиваешь воздух — ну как так можно-то?.. Для особенно интересного эффекта душеполезно читать и перечитывать кейзы "как так можно", которые, как недолго казалось, остались в прошлом. Уже так давно и наглядно не кажется, что озвучивать кажется излишним. И все-таки впечатление фантастическое.
Жорес и Рой Медведевы — братья-близнецы, родившиеся в 1925 году. Один — ученый-генетик, другой — педагог, автор работ по истории, оба публицисты и участники диссидентского движения. В этом сборнике две части: книга и Что Было Потом. Первая — труд Жореса Медведева, одновременно участника и очевидца драматической борьбы генетической науки с линией партии в период лысенковщины. В 1962-м, под названием "Биологическая наука и культ личности", эта книга широко разошлась в самиздате.
Что Было Потом: автора госпитализировали в психиатрическую больницу, вменяя психопатию на основе симптомов "повышенная самооценка" и "плохая адаптация к социальной среде", и в конце концов лишили советского гражданства. Именно эту историю рассказывают братья Медведевы уже на два голоса — во второй части сборника, мемуарах "Кто сумасшедший?". Хороший вопрос — кто. Правда, страшноватый.
Рок Бриннер — рассказчик потрясающего обаяния, если бы его видели, вы бы убедились сами. Импозантный джентльмен начинает говорить, и ахаешь от прямого прикосновения к истории XX века, во-первых, и от того, как мастерски сплетенные байки плавно перетекают одна в другую, цепко удерживая твое внимание всепобеждающим артистическим произволом.
История, рассказанная с отправной точки на Дальнем Востоке (со всякими ужасно занимательными документальными реалиями), — разворачивает перспективу до степени "немножко другой глобус". И это глобус начала прошлого века, где возможности безграничны, где желание исследовать и покорять мир бьет ключом — во всяком случае, так было с семьей Бриннеров. Вот такая вот версия XX столетия через призму еще одной семьи, людей необыкновенно подвижных и ярких, людей дела и неиссякаемой жизненной силы.
Род начинается в швейцарской деревушке, откуда дедушка Жюль Бринер, когда ему было 16, сбежал корабельным коком на пиратском судне, чтобы в конце концов стать Юлием Ивановичем, выдающимся владивостокским промышленником и общественным деятелем; потом был Борис, человек бизнеса с не менее практическим и авантюрным складом ума, — ему и его семье пришлось драматически бежать в эмиграцию; потом Юл — звезда Голливуда со своим сложным путем художника, магнетический вожак Великолепной Семерки и король Сиама, каждый раз во время интервью журналистам придумывавший себе биографию заново. И наконец Рок — вдумчивый наблюдатель за эпохой, человек, который соединил их жизни в хорошую историю и рассказал ее.
Если замереть и не двигаться, и почти не дышать, и быть очень-очень тихим, то, может быть, не спугнешь — звук рассвета над неохватным Онего, которое расстилается под твоим окном, скоморошьи напевы, которые, глядишь, вот-вот расслышатся здесь через много-много лет назад...
Мариуш Вильк — поляк, когда-то приехавший в Россию корреспондентом. И до этого у него уже была биография человека приключающегося: изучал филологию во Вроцлавском университете, был доверенным лицом Леха Валенсы и стоял у истоков движения «Солидарность», дважды сидел в тюрьме по политическим причинам, уехал в Германию, потом в США, где преподавал журналистику. И вот потом в Россию, документировать развал СССР. Повидав разного на Абхазской войне, Вильк отправился на Соловецкие острова — и остался. И прожил там 9 лет. А потом переселился в богом забытую деревню в Северной Карелии. Купил деревянный дом, починил, и жил еще многие годы — за это время он основательно изучил культуру Русского Севера и русский язык, и все это время писал, писал «Северные дневники», выходившие по-польски в польском журнале, и переводившиеся на русский Ириной Адельгейм.
Вильк — наблюдатель осознанно и выпукло небеспристрастный. Все, что он находит для себя ценного в обычаях, традициях, устных и письменных текстах культуры, в которой он оказался, он вынимает бережно, отряхивает, ограняет, чтобы посверкивало, — и встраивает в свою собственную личную внутреннюю историю. Описания Вилька документальны только до определенной степени — вовсе не это для него самое главное. С одной стороны, он сбежал в снежные простор и тишину, чтобы нащупать тропу к самому к себе, отрезав как можно больше мира и углубившись в то ускользающее, что от него здесь осталось. С другой стороны, там, где нет сюжета, кроме поиска, сам поиск неизбежно становится сюжетом. Весь открывающийся Вильку Север — его художественный материал, его палитра для акварельных зарисовок с исчезающей натуры, которые неуклонно складываются в автопортрет.
С самого начала нас мы странным образом гораздо больше знаем о вещах, чем потом, — как раз из-за того, что мы почти ничего о них не знаем. Всего вот этого, дурацкого и ненужного, мы не знаем. Мы смотрим на вещи и видим видим вещи, не встроенные пока еще в сложносочиненную и, согласитесь, саму по себе весьма абсурдную систему причин и следствий. Зато мы знаем действительно важное. Что настоящий поезд только тот, который в пути. Чем пахнет неукладывание спать. Как не потерпеть сокрушение. Что тюльпаны поливает тюльпанный кит. Что изгороди возникают из овец, которые остановились слишком надолго и вросли в холм навсегда. Как именно правильно класть снег за воротник. Сколько есть всего на свете, во что можно зарыться. Что если лететь очень быстро, можно обогнать собственную грусть.
Ребенок Василий очень близко к началу нас, и там интересно и весело, и важные вещи — это важные вещи, а ерунда — это ерунда. (Апельсины и буква "у" — это важно, а прямые линии и крабы — ерунда.) Там ты всесильный — ну, не совсем, потому что это, понятное дело, было бы скучно, но ты можешь заниматься всем, чем захочется, и тебя по временам до самых кончиков ушей переполняет изумление и благодарность к штукам вроде деревьев, которые потрудились отрастить все, что там на них свисает и оттопыривается, и стать такими неодинаковыми и замечательными.
Ты как будто всегда немножко во сне, потому что правила того, что вокруг происходит, причудливы и таинственны, зато есть вещи, в которых ты совершенно уверен. Скажем, если ты ребенок Василий, ты ни за что не перепутаешь себя с другим каким-нибудь ребенком — ты что, дурак, что ли? Ребенок Василий видит вещи готовыми непрерывно изменяться, видит, что все-все вокруг может в любой миг стать чем угодно, и вещам это нравится — никто не понимает их так же хорошо. Возможно, им нужно иногда об этом напоминать.
Но если зайти поглубже, закрыть глаза и покружиться, ненадолго перестаёшь понимать, где находишься. И вот эту минуту-другую, пока голова не построит маршруты, честно и по-настоящему страшно — почти по-настоящему, потому что есть такое место в голове, которое в это время строит тебе маршрут.
Много всякого знает хороший ребенок Василий, но я уверена, если вы немножко погуляете с ним, вы и сами кое-что припомните.

Интеллектуальная автобиография — всегда страшно интересный жанр в исполнении выдающихся авторов, когда они экспериментируют с формой. Андрей Белый рисовал майндмэп до того, как это стало мейнстримом. В его Мемориальной квартире на Арбате можно в подробностях рассмотреть это графическое разноцветно-карандашное панно во всю стену под названием «Линия жизни» — ужасно здорово. Можно проследить по стрелочкам, что он писал и с кем дружил, работая в «Мусагете», какой музыкой увлекался и какими философами зачитывался в университете, посреди увлечения кем начал исследовать ритм, как хронологически пересекались у него Пушкин и «эсотеризм», и так далее, и так далее.
А Чеслав Милош написал словарь.
Вот эта статья на букву «С» помогает мне иногда прийти в себя. С — Сознание:
«Допустим, сейчас у меня ясное сознание, и я с жалостью и ужасом вспоминаю свои фазы помрачения. Однако не совсем понятно, что с этим делать. От того, чтобы марать бумагу своими откровениями, меня удерживает чувство стыда — это все равно что явиться на бал в ночной рубашке. К тому же я знаю, что так и не скажу правду — ведь она многогранна, но стоит ей войти в слова, как она тут же начинает подчиняться законам литературной формы.
Впрочем, я должен отдать должное состоянию помрачения, когда мой ум, одержимый какой-нибудь страстью, работал словно белка в колесе. В конце концов, многие мои стихи были зачаты там, в мрачных коридорах глупости, или, что характеризует их несколько лучше, напоминают о том, как одна часть нашего естества покоряется, а другая, высвобождаясь, сохраняет дистанцию».
Завтра — 12 марта — будет год, как не стало сэра Терри, и я хочу вспомнить о нем немного вслух. У каждого свой личный способ напоминать себе о правилах игры — и настоящем смысле этой игры. Романы сэра Терри всегда были и остаются моим способом заземляться — соединяться с тем существом во мне, что умеет играть как следует. Какой невероятный подарок нам всем — эти длинные прекрасные легкие тексты, в которых можно некоторое продолжительное время прямо быть, и где взгляд на экзистенцию устроен так, что ты вроде бы видишь ее ясней и четче, а с другой стороны, парадоксальным образом, тебе легче ее принять. И откуда-то берется маленькое зернышко, из которого прорастает готовность встретить новый день с достоинством, подобающим человеку. Странному существу в маловероятной и довольно идиотской ситуации — у которого нет другого выхода, кроме как смеяться и быть очень храбрым.
***
Господин Тюльпан поднял дрожащую руку.
— Наверное, именно сейчас вся жизнь должна пробежать у меня перед глазами? — спросил он.
— ВСЕ НЕМНОГО НЕ ТАК.
— А как же?
— ТОТ ОТРЕЗОК МЕЖДУ ТВОИМ РОЖДЕНИЕМ И ТВОИМ УМИРАНИЕМ... ОН И ЕСТЬ ТВОЯ ЖИЗНЬ, ГОСПОДИН ТЮЛЬПАН, КОТОРАЯ ПРОХОДИТ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.
***
— Я ПОДВЕЗУ ТЕБЯ ДОМОЙ, — после некоторой паузы сказал Смерть.
— Спасибо. А скажи…
— ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ ТЫ НЕ СПАСЛА ЕГО?
— Да! Солнце взошло бы? Как всегда?
— НЕТ.
— Перестань. Неужели ты думаешь, что я в это поверю. Это же астрономический факт.
— СОЛНЦЕ НЕ ВЗОШЛО БЫ. — Она повернулась к Смерти.
— Послушай, дед, эта ночь выдалась очень напряженной! Я устала, хочу принять ванну, и выслушивать какие-то глупости я сейчас совсем не в настроении!
— СОЛНЦЕ НЕ ВЗОШЛО БЫ.
— Правда? И дальше что?
— МИР ОСВЕЩАЛ БЫ ПРОСТОЙ ШАР ГОРЯЩЕГО ГАЗА.
Они еще немного помолчали.
— Ага, — наконец сказала Сьюзен. — Игра слов. Знаешь, я раньше считала, ты не умеешь шутить.
— Я САМАЯ СЕРЬЕЗНАЯ СУЩНОСТЬ, КАКАЯ ТОЛЬКО МОЖЕТ БЫТЬ. А ИГРОЙ СЛОВ ОБМАНЫВАЮТ СЕБЯ ЛЮДИ.
— Ну хорошо, — вздохнула Сьюзен. — Я все-таки не дура. Ты намекаешь, что люди без… фантазий просто не могут? Что они просто не выживут?
— ТО ЕСТЬ ФАНТАЗИИ — ЭТО СВОЕГО РОДА РОЗОВЫЕ ПИЛЮЛИ? НЕТ. ЛЮДЯМ НУЖНЫ ФАНТАЗИИ, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ ЛЮДЬМИ. ЧТОБЫ БЫЛО МЕСТО, ГДЕ ПАДШИЙ АНГЕЛ МОЖЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ С ПОДНИМАЮЩИМСЯ НА НОГИ ПРИМАТОМ.
— Зубные феи? Санта-Хрякусы? Маленькие…
— ДА. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В КАЧЕСТВЕ ПРАКТИКИ. ДЛЯ НАЧАЛА СЛЕДУЕТ НАУЧИТЬСЯ ВЕРИТЬ В МАЛЕНЬКУЮ ЛОЖЬ.
— Чтобы потом поверить в большую?
— ДА. В ПРАВОСУДИЕ, ЖАЛОСТЬ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ.
— Но это не одно и то же!
— ТЫ ТАК ДУМАЕШЬ? ТОГДА ВОЗЬМИ ВСЕЛЕННУЮ, РАЗОТРИ ЕЕ В МЕЛЬЧАЙШИЙ ПОРОШОК, ПРОСЕЙ ЧЕРЕЗ САМОЕ МЕЛКОЕ СИТО И ПОКАЖИ МНЕ АТОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ ИЛИ МОЛЕКУЛУ ЖАЛОСТИ. И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ… — Смерть взмахнул рукой. — ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ТЫ ПОСТУПАЕШЬ ТАК, СЛОВНО В МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ ИДЕАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК, СЛОВНО СУЩЕСТВУЕТ… СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ, МЕРКАМИ КОТОРОЙ МОЖНО СУДИТЬ.
— Да, но люди вынуждены верить в это, иначе зачем еще…
— ИМЕННО ЭТО Я И ХОТЕЛ СКАЗАТЬ. — Она попыталась собраться с мыслями.
— ВО ВСЕЛЕННОЙ ЕСТЬ ТАКОЕ МЕСТО, ГДЕ ВОТ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ МИЛЛИОНОВ ЛЕТ ПОСТОЯННО СТАЛКИВАЮТСЯ ДВЕ ГАЛАКТИКИ, — ни с того, ни с сего вдруг произнес Смерть. — НЕ ПЫТАЙСЯ УБЕДИТЬ МЕНЯ В ТОМ, ЧТО ЭТО СПРАВЕДЛИВО.
— Да, но люди об этом не думают, — возразила Сьюзен.
«Где-то там есть кровать…»
— ПРАВИЛЬНО. ЗВЕЗДЫ ВЗРЫВАЮТСЯ, МИРЫ СТАЛКИВАЮТСЯ. ВО ВСЕЛЕННОЙ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ МАЛО МЕСТ, ГДЕ ЛЮДИ МОГЛИ БЫ ЖИТЬ, НЕ ПОДВЕРГАЯСЬ ОПАСНОСТИ ПРЕВРАТИТЬСЯ В СОСУЛЬКУ ИЛИ, НАОБОРОТ, В ДЫМЯЩИЙСЯ КУСОК МЯСА. ОДНАКО ВЫ ВЕРИТЕ… ЧТО, ДОПУСТИМ, КРОВАТЬ — ЭТО ОЧЕНЬ ДАЖЕ НОРМАЛЬНАЯ И ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕЩЬ. ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ ТАЛАНТ.
— Талант?
— ДА. ИНАЧЕ ГОВОРЯ, ОСОБАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ГЛУПОСТИ. ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ НАХОДИТСЯ У ВАС В ГОЛОВАХ.
— Послушать тебя, так мы абсолютные безумцы, — покачала головой Сьюзен.
«Мягкая теплая кровать…»
— НЕТ. ВАМ ПРОСТО НУЖНО НАУЧИТЬСЯ ВЕРИТЬ В ТО, ЧЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ИНАЧЕ ОТКУДА ВСЕ ВОЗЬМЕТСЯ? — заключил Смерть, помогая ей взобраться на Бинки.
— Эти горы, — сказала Сьюзен, когда лошадь поднялась в воздух. — Они настоящие или просто тени?
— ДА.

Я бы не сказала, что «Когда Бог был кроликом» — выдающаяся книжка, она кажется немножко незавершенной, в ней провисает сюжет, и все это ничем не оправдано. Но есть два плюса, которые делают ее все равно ужасно симпатичной. Во-первых, какое-то особенное свойство у британского взгляда — тот порой едва различимый оттенок ненормальности, который возможен только тогда, когда людям необязательно воспринимать себя всерьез, чтобы воспринимать себя всерьез. С этими людьми приятно провести время. А второе — здесь есть честная и оттого местами и правда удавшаяся попытка влататься в кожу подростка, человека, который безоглядно и решительно пытается разобраться со всеми самыми важными вопросами бытия разом, обладая для этого еще более слабым и нестабильным инструментарием, чем взрослые (хотя и эти, прямо сказать, не блещут). Учитывая, что врубиться в это удивительное измененное состояние сознания — не впадая в сюсюканье с одной стороны и иронию с другой — отдельная нетривиальная задача, Саре Уинман за ее ясность и за девочку Элеанор Мод спасибо.
— Вы что, не понимаете? — объясняла я в тот же вечер гостям своих родителей, толпящимся вокруг тарелки с фондю.
Они замолкли, и в комнате слышалось только деликатное побулькивание духовитой смеси "грюйера" и "эмментальского" в кастрюльке.
— Тому, кто знает, зачем жить, все равно как жить, — торжественно объявила я и важно добавила: — Это же Ницше.
— А тебе уже пора спать, а не рассуждать о смерти, — сказал мистер Харрис из тридцать седьмого дома. После того как в прошлом году от него ушла жена ("к другой женщине", шептались у нас), он все время был в дурном настроении.
— Я хочу стать евреем, — объявила я, и мистер Харрис окунул кусок хлеба в кипящий сыр.
— Поговорим об этом утром, — предложил отец, доливая вина в бокалы...
Страсть к сочинительству объединяет самых разных людей. Например, возьмем хозяйку книжного магазина Фавиолу, которая умеет различать крики заброшенных книг — в жалости своей она все дни напролет мечется от одной позабытой книги к другой, стараясь прочитать хотя бы немножко из каждой, чтобы утишить их страдания. Или банковского советника Франсуа Конта, с которым однажды начинают происходить события совершенно необъяснимые. Или румынско-французского писателя Матея Вишнека. Или кошку, которая подружилась с бестелесном сгустком энергии (и они на пару решили выселить из квартиры человека). Или мсье Пантелиса, которого неотступно преследует горбун — придуманный им самим персонаж. Все они обитают в фантасмагорическом Париже, где никто не умирает, и что угодно может стать текстом. Они дописывают друг за другом одну и ту же книгу — эту самую, которую вы держите в руках.
*
Виктор Гюго был сумасшедшим, который считал себя Виктором Гюго.
*
— Вы автор или персонаж? — спросил Жорж.
— Понятия не имею, — ответил Франсуа. — Я этой ночью слышал столько разных разговоров, что меня уже ничем не удивить. Может я уже стал персонажем, кто его знает.
*
Язык — это в конечном счете наша манера одеваться, чтобы быть видимыми друг для друга. Тот, кто молчит, остается навечно невидимым.
*
Слово, не способное на любовь, — это слово "родина". Все, что оно умеет, — это требовать любви к себе (но его, на самом-то деле, никто не любит). Слово "родина", демагогичное и злобное, бесстыжее и садистское, удовлетворяет свою похоть тем, что систематически посылает других на смерть, да еще требует, чтобы они испытывали оргазм в тот момент, когда умирают за него.
*
Но бывают и истории любви втроем, крайне изысканные: например, между словами "прошлое", "настоящее" и "будущее". Такой тип верного тройственного союза встречается, однако, редко. Впрочем, другие слова недолюбливают эту троицу. "Прошлое", "настоящее" и "будущее" образуют полностью замкнутый круг, а если вспомнить, как они плохо гнутся, трудно представить себе их взаимные ласки и поцелуи.
*
Нас всех следовало бы арестовать за то, что мы на самом деле думаем. Но разве мы уже не арестанты, давным-давно, все, в этой стране?
Эта история начинается как литературный детектив, продолжается как авантюрный роман и при этом остается всю дорогу документальным исследованием.
Журналист Том Риис пытается выяснить, кто же на самом деле автор культового романа 1930-х "Али и Нино", истории любви мусульманского юноши и девушки-христианки. Эта необыкновенно значимая для азербайджанцев книга, часть национального наследия, написана Курбаном Саидом, совершенно загадочным непонятно кем. Каждый второй встреченный культурный бакинец утверждает, что знает настоящего автора, и это — его родственник. Розыски Рииса заводят его наконец в старый многоквартирный венский дом, к шести кожаным записным книжкам, перевязанным голубой ленточкой, — дневникам бакинского еврея, Льва Нусимбаума, более пятидесяти лет пылившимся в ящике.
Они-то и стали основой для "Ориенталиста" — романа о блистательном авантюристе начала XX, выдававшем себя за мусульманского аристократа, знатоке Востока, журналисте, биографе Сталина и Николая II, эмигранте, тайну чьего происхождения не знала даже его невеста. О писателе, чьим лучшим творением стал невероятный миф о себе самом, честно прожитый от начала до конца.
Вот и моя очередь делать эфир ради иллюстраций. Есть такой испанский художник и сказочник Иван Барренетксеа, книжки с картинками которого в последнее время выпускает, спасибо им, детское издательство «Поляндрия». Он создает миры аутичных увлеченных чудаков, очень своеобычные и нежные. Моя любовь к нему началась с «Ботанистики Натуралис Ботануса Дульсимера».

Это конечно, детская книга, хотя она принесет взрослым гору удовольствия.
Барренетксеа, здесь и автор, и иллюстратор, с большим вкусом и душой все придумал и нарисовал: перед нами настоящая энциклопедия необыкновенных растений, выведенных ученым мужем Ботанусом Дульсимером. Грушус аэростатикус, например, выглядит точь-в-точь как воздушный шар, в корзинке которого плотно сложенный ученый муж Дульсимер умещается едва-едва, но мужественно продолжает вести дневник наблюдений, болтая ногами высоко над землей.


Всем, кому нравится: поиграться в очарование позитивистского идеализм
Я посвятил Её Величеству Ботанике всю жизнь, но впервые, о любезный читатель, дерзаю представить на твой суд некоторые сорта растений, выведенных мною лично. Я осмеливаюсь высадить их на всеобщее обозрение, дабы книга эта стала зерном, из которого взойдут ростки нового, а там, глядишь, созреют и плоды! Ведь в будущем, дорогой читатель, всё, наверное, станет другим. И парусные суда, бороздящие океаны, и кареты с телегами, что громыхают нынче под твоими окнами, и, как знать, друг мой, может быть, даже и сама книга.
Ботанус Дульсимер

Другая прекрасная книжка с его картинками — «Кит и охотник», трогательная сказка Паломы Санчес Ирасабаль про неутомимого грозного-прегрозного охотника в звездных носочках и ночном колпаке, который охотился-охотился на кита, но в конце-концов оказался слишком мечтателем, чтобы в самом деле кинуть этот ужасный гарпун.

«Моби Дик» у ребят не задался, но такое все милое, сил нет. Живой и чувствующий мир Барренетксеа — даром, что нарисованный, — очень чудаков бережет и обращается с ними тепло и по-намечтанному.
Мальчик Леша умеет превращаться во все на свете. Вот такой волшебный он мальчик — прямо во что хочет, в то сразу и превращается. В батон, чтобы не идти в магазин за хлебом. В летающую тарелку, чтобы не ссорились возлюбленные. В дедушку, если хочет, чтобы ему уступили в автобусе место (но ненадолго). В двойку. В маму. В Пушкина. В подъемный кран.
Не очень легко, конечно, быть мамой волшебного мальчика Леши — то превратится он в солнечный зайчик, то в тигра, то в воздушный шарик, сплошные хлопоты. Но Леша хороший и добрый мальчик, и он всегда-всегда старается только порадовать маму — защитить ее от плохого начальника, или доставить радость находки, превратившись в огромный белый гриб. И мама мальчика Леши — очевидно, волшебная мама. С волшебным терпением.
Например:
Раз Лёша пошел в кино. На фильм "только для взрослых". Его, конечно, пропустили, потому что он превратился в большого лысого дядю. Но кино неинтересное. Леша скучал-скучал, а потом взял и превратился в синего кита от нечего делать. Кит своей огромной головой загородил весь экран. Зрители возмутились и вывели кита из зала...
Так Лёша и не посмотрел кино, которое детям "до шестнадцати" смотреть не разрешается.
Жил был мальчик Леша. Он умел превращаться во все, во все! Вот раз превратился в голубя, уселся на подоконник и постучал клювом в окно. А мама как закричит:
— Кыш! Чего уселся? — Она его, конечно, не узнала. Леша и говорит:
— Я же твой сын, Леша, а ты — моя мама Лида! Тут мама все поняла и дала сыну семечек поджаренных. А Леша стал в воздухе, перед окном, разные фигуры выписывать, высшего пилотажа. Соседи смотрят-удивляются. А мама им говорит:
— Это не чужой голубь. Это мой сын — Леша! У него необыкновенные способности. Я его отдам в английскую школу, в музыкальную и в фигурное катание!
Нелегко осознать что любовь ли горесть лишь бумажки боны наобум приобретенные и срок им истечет хочешь не хочешь и их аннулируют без всякого предупреждения заменят тебе другим каким-нибудь наличным выпуском божьего займа
У Сартра есть статья о том, как в «Шуме и ярости» Фолкнера работает время. Фолкнер, говорит он, конструирует роман так, что в нем не существует будущего — ни у кого из героев не существует будущего. Квентин, самоубийца, рассказывает о своем последнем дне в прошедшем времени, как человек, который вспоминает. Из когда он это вспоминает? Получается, что, когда он ведет рассказ, он уже должен быть мертв. Это, говорит Сартр, такой способ средствами литературы показать, что он действительно уже мертв. Квентин живет лицом назад, взгляд его зафиксирован на прошлом, а самоубийство, которое вроде бы еще предстоит, — неотменимо, как свершившийся факт. В некотором смысле каждый из них живет лицом в прошлое. Человек, говорит отец Квентина, это сумма климатов, в которых приходилось ему жить. Человек, говорит отец Квентина, это совокупность его бед. «Так отец говорил. Человек — это сумма того и сего». Все реальное уже случилось, и взгляд каждого из персонажей недвижно замер на чем-то, что уже произошло. Будущего нет. Без будущего и у прошлого не может быть смысла. «Жизнь — это повесть глупца, рассказанная идиотом, полная шума и ярости, и не значащая ничего».
Сартр говорит, что Фолкнер неправ. Что жизнь, конечно, абсурдна, но не поэтому! (По-моему, это само по себе очень смешно).
Я не смогла просто так пройти мимо его рассуждения. Справедливо наблюдение, что все герои одержимы каким-нибудь свершившимся фактом, они фанатически, снова и снова, силой своего дыхания вкладывают жизнь в голема, который уже давно обратился в прах, и танцуют с ним бесконечный танец. Справедливо и указание на то, что эта трагедия искусственна, что она как таковая вообще-то не свойство человеческого сознания. Сознание по своей сути, по тому, как оно устроено, всегда опирается на то, что будущее существует. (Но это не мешает «искусственным» отчаянию и человеческому безысходному сражению со временем присутствовать повсеместно.)
Человек, конечно, состоит из причин, определяющих его. Но не только — в некотором смысле он «состоит» еще и из следствий, которые производит, и вот где-то внутри того неуловимого момента, в котором человек сам производит следствие, и залегает великий человеческий Шанс.
Меня всю дорогу во время чтения романа занимала иная вещь, возможно, одно с другим некоторым образом соотносится. Обычно цитату из Шекспира, откуда взято название («повесть глупца...») на уровне формы повествования относят к первой части из четырех. В той, которую рассказывает идиот в буквальном смысле — слабоумный Бенджи, который не умеет расшифровать знаки реальности, не осознает причинно-следственной связи: огонь в камине красивый — руке больно. У него в голове отрывки прошлого без начала и конца хаотично перемешаны, все, что произошло, продолжает происходить одновременно и таким образом в некотором смысле все еще происходить, происходить всегда. Но ведь это не совсем справедливо. На смену Бенджи приходит внутренний монолог несчастного Квентина — и разве для него хоть что-то из его прошлого действительно прошло? Разве его воспоминания точно так же не живут в нем постоянно, разве он способен к движению? Разве, в конце концов, он может осмыслить и рассказать, что именно с ним происходит? Не очень-то. Следом Джейсон — мнимая «расчетливость» Джейсона таит в себе чудовищные бездны обиды и ненависти, искажающие мир вокруг себя, как черная дыра, рациональности здесь обыщешься и следа. Есть точно такая же одержимость, выраженная только радикально иначе, и точно такая же неспособность ясно осмыслить и пережить происходящее. Они все отчуждены от себя-в-настоящем. Они все отгорожены от действительности сюжетом, в корне безвылазно мистическим, в котором они пребывают. Каждый новый рассказчик все лучше прячет свою неспособность собственно рассказать. Они все — «идиоты», потому что сам язык несостоятелен чуть менее, чем вой глухонемого.
Последний, четвертый, рассказчик в романе — автор.

Эти книжки составили ребята из команды QI (Quite Interesting) — искрометной британской телепередачи, которую ведет Стивен Национальное-Достояние-Великобритании Фрай. Это сборники реальных фактов окружающего мира, о возможности которых вы, зуб даю, даже не задумывались.
"Столько-то фактов..." можно открывать, когда встал не с той ноги и требуется чему-то срочно удивиться или рассмеяться, чтобы сместить точку зрения на окружающую действительность — и читать с любого места и в любую сторону. Достоверность всего-все-всего, что там утверждается, — на совести составителей, но я уверена, остановиться, перестать гипнотизировать курс рубля и пойти быстренько пересобрать свою реальность с точки зрения попы броненосца бывает просто-напросто бесценно. Вот и теперь.
Несколько случайных восхитительных фактов, которые вам необходимо знать прямо сейчас:
*
Если подуть броненосцу в попу, он подпрыгнет на три фута. (0,91 м)
*
Норвежский драматург Генрик Ибсен (1828-1906) держал у себя на на письменном столе в пустой пивной кружке скорпиона.
*
В индонезийском слово «jayus» означает анекдот настолько скверный и плохо рассказанный, что от этого становится смешно.
*
Если накормить улитку «прозаком», она теряет способность прилипать к поверхностям.
*
Английское название омелы «misletoe» — происходит от англосаксонского «какашка на палке».
*
Если прокопать тоннель сквозь Землю и прыгнуть в него, ровно через 42 минуты и 12 секунд вылетишь с другой стороны.
*
Лунная пыль пахнет порохом.
*
10% всех фотографий в мире сделано за последние 12 месяцев.
*
Двум последним носителям мексиканского языка зок уже за 70, и они не разговаривают друг с другом.
Владимир Яковлевич Пропп в «Исторических корнях волшебной сказки» говорит, что за волшебной сказкой стоит исторический факт — реально существовавший обряд, который со временем сделался непонятным и ненужным. Люди забыли, из чего он вырос, чему служил, и начали считать его избыточно, непомерно жестоким. Был обычай приносить девушку в жертву реке, насущный обычай, к которому не было вопросов, — от этого священного действа зависело плодородие земли, — в сказке герой спасет девушку от чудовища. Потому что в какой-то момент окончательно перестало быть ясно — ну зачем все-таки ее попусту губить-то, то есть появилось вот это вот попусту, которого раньше не было и быть не могло. Так профанация ритуала состоялась. Он перестал работать. Осознанная необходимость превратилась в абсурдное и бессмысленное зло. Сказка — это такая песнь одновременно разоблачения и мистификации.
Литературные, или художественные, сказки — странная штука. Некоторые бывают космически сильными и талантливыми, занимают умы и покоряют души, но они продолжают выполнять ту же самую функцию. В сути своей они пересказывают наново и закрепляют тот перелом в человеческом сознании, произошедший очень давно. Но лучшие из них (разумеется, лучшие из них — страшные) — как особенно некоторые в этом сборнике — на грани прорыва обращаются к нам-сегодняшним и напоминают о том, что было что-то такое в нас самих, от чего мы предпочли избавиться, о чем мы предпочли забыть. И забыть, что мы забыли.
А настоящие сказки нашего времени бог весть как будут выглядеть — или что ими окажется. Потому что для их появления нам потребуется забыть что-то новое.
«Человечество есть мириады преломляющих поверхностей, окрашивающих белое сияние вечности. Каждая из этих поверхностей преломляет преломление преломлений преломлений. Каждое “я” преломляет преломления других преломлений преломлений “я” других преломлений… Это лучезарное сияние, это чудо и мистерия, однако частенько нам хочется проигнорировать или уничтожить те грани, которые преломляют свет по-другому, чем мы».
Рональд Лэйнг
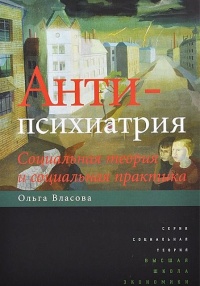
Италия — единственная страна в мире, где нет психиатрических больниц. Вместо этого есть центры психиатрической помощи и психиатрические отделения в соматических больницах, налажен уход на дому, построена продуманная система реабилитации и социальной адаптации, профессионалы сопровождают и поддерживают больного настолько, насколько ему это необходимо, создаются разветвленные возможности для работы и интеграции в общество. Никого не имеют права госпитализировать принудительно. Отсутствует юридическое понятие невменяемости душевнобольных. То есть, человек с психическим расстройством продолжает и распоряжаться своей жизнью, и нести ответственность за свои действия.
Вдохновитель и автор итальянской психиатрической реформы Франко Базалья не успел увидеть ее воплощение: последняя государственная психиатрическая больница была закрыта спустя 30 лет после принятия «закона Базальи» в 1978 году. Но, разрабатывая реформу, он, человек с гениальной исторической интуицией, отдавал себе отчет, что быстро ничего не случится. В конце концов, на тот момент Италия жила по закону аж 1904 года «О психиатрической помощи», где человек с психическим заболеванием определялся через понятия «опасность для себя и окружающих» и «общественный скандал». Общественный скандал! Но зато настолько вопиющим все это было на фоне современности, что радикальные меры получили единогласное одобрение и настоящий шанс воплотиться в жизнь, и вот.
Базалья считал психиатрическую больницу, как любой социальный институт, в первую очередь средством контроля. Казалось бы, больницы созданы для того, чтобы помогать и лечить — но это декларируемая идеология, а по сути психиатрическая больница рождалась и работает как практика изоляции, исключения маргиналов из общества. Поэтому здесь не может быть модернизации, говорил Базалья, единственный выход — полное упразднение. В основе социальных институтов лежит цель мистифицировать насилие, не изменяя при этом его настоящей природы, а насилие направлено единственно на то, чтобы защитить доминирующую социальную группу. «Больницы, тюрьмы, лечебницы, фабрики и школы — места, где ведется война, а специалист — главный преступник». Специалист рассматривается как агент преступлений мирного времени, совершаемых с тем же успехом от имени идеологии здравоохранения, как и от имени идеологии наказания и исправления.
Как видите, это вольное провидческое дыхание 60-х вложило жизнь в невероятный гуманистический прорыв.
Впервые посмотреть на психиатрию по-новому пришлось в начале XX века: после Первой мировой войны стало особенно трудно не замечать ужасающих противоречий, которые она воплощала. В ходу была теория дегенерации, человек с психиатрическим расстройством утрачивал дееспособность и право на человеческое обращение до конца жизни. Движение экзистенциально-феноменологической психиатрии взглянуло на патологию как на иной модус существования, способ человеческого бытия, вернуло больному реальность его личного опыта — одним словом, вернуло больному статус человека.
Следом, в 60-х—70-х придет антипсихиатрия, которая сделает следующий шаг, обратится обществу со словами: «Это вас здесь надо исправлять в первую очередь». Совсем не все ученые, творившие в русле антипсихиатрии, любили этот ярлык, и во многом они не сходились между собой, но их объединял трагический образ больного как «козла отпущения» и его социально-философская реабилитация. Психически больной становится для них воплощением свободы и подлинности в обществе, условие участия в котором — несохранение этих самых свободы и подлинности, а болезнь рассматривается как неизбежный продукт социального устройства, более того, как его функция. Нет, антипсихиатры в основном не говорили, будто за самой болезнью не стоит биологических изменений, но для них было критически важно перевернуть классическую психиатрическую парадигму рассуждений с ног на голову, чтобы показать, насколько она далека от действительности человека.
Уникальная действительность человека, человека с психическим расстройством, и ее социальная обусловленность, — вот что в первую очередь интересовало антипсихиатров. Они исследовали этот опыт как путешествие, в которое структура общества сталкивает личность, как процесс перерождения — Рональд Лэйнг, к примеру, считал шизофрению «позитивной возможностью человеческого бытия», возможным путем обновления сознания. Особенно важно было вернуть больному роль активного действующего лица, в протест классической психиатрии, отчуждавшей человека от собственного опыта и собственного тела. Необходимо было уйти от повсеместной инфекционной метафоры, в которой болезнь завладевает человеком, он становится пассивной ее жертвой и перестает существовать как личность — Фуко замечает в «Истории безумия в классическую эпоху» (наверно, самой известной книжке из всего антипсихиатрического корпуса), что безумие в этом смысле фактически заступило на смену проказе.
Томас Сас в «Мифе душевной болезни» говорит о том, что понятие «психическое заболевание» — всего лишь семантическая стратегия, которая медикализует совсем иного происхождения проблемы. Уточняя свою мысль, Сас поднимает на поверхность вот какое важное противоречие: психиатрия действительно всегда придерживалась двойного стандарта. С одной стороны утверждается, что психическая болезнь вызвана внутренними биологическими причинами, болезнь тела, с другой — что проступок, нарушение поведения, которое требует наказания — например, заключением. Другой важный его тезис — развернутая религиозная метафора, в рамках которой охота на истеричек — отзвук средневековья в психиатрии, диктуемый тем, что, по мысли Саса, как и все социальные институции, она организована по религиозному принципу. «Медицина или психиатрия для Саса больше не имеют прикладных целей и не ориентированы на поддержание здоровья и избавление от болезней, они формируют смысл и цель жизни, поэтому здоровье становится целью само по себе. Здесь мифология и религия идут рука об руку».
Удивительно, какие радикальные философские концепции и революционные практики были возможны на общем тогдашнем подъеме (60-е!). За социальной критикой практика, разумеется, последовала: знаменитые эксперименты, Кингсли-холл — психиатрическая больница как коммуна и культурный центр, и многие другие. Мало какие из них оказались удачны, особенно в долгосрочной перспективе. Но, как и парадоксальная антипсихиатрическая теория, вскрывшая болевые точки социальной повседневности, эти эксперименты взломали мировоззренческие горизонты, продемонстрировали альтернативу, и после них уже ничего не могло быть прежним.
«В каком-то смысле антипсихиатры совершили профессиональную измену: они говорили не от имени врачей, а от имени больных и стояли только на их стороне. Они описывали мир больных, указывая всем на их страдания, они стали не лекарями, а вестниками безумия, используя свои знания и статус не для того, чтобы огородить от них общество, а для того, чтобы вновь столкнуть их».
В своей исследовательской работе Ольга Власова рассказывает обо всем этом во всех противоречиях — и осмысляет как движение внутри самой психиатрии, взорвавшей ее русло и и повернувшей на путь к переосмыслению целей, практик и собственной истории, к обновлению и перерождению.
Глаз и душа требует особенно тонкой настройки, чтобы видеть красоту там и так, как ее видит Джим Додж, даже не так, не просто настройки, а определенного уровня внутренней зрелости, и я знаю, что мне до него еще много и вдумчиво жить, если вообще настигнет. В сердце должно стать так безмолвно, чтобы самая тихая жизнь пела тебе покой и любовь во весь голос, чтобы выразительно звучал каждый камень, падение листа, лай собаки. Но некоторые стихи Доджа я и сейчас слышу на высокой ноте. Сегодня канун праздника, но сумрак не отступает и не перестает быть тревожно, и поэтому я хочу вспомнить стихотворение, полное невыразимой победной любви, и отправить ее всем, кто это читает. Давайте побеждать. Любви.
Находка любви
Перевод Шаши Мартыновой
После взрыва в Оклахома-сити
собак-спасателей
свезли самолетами вместе с кинологами
со всех Штатов.
Но когда собаки не смогли найти
ни одного выжившего,
они впали в уныние,
и после очередного дня без единого
живого спасенного,
даже если собаки искали,
все было без особого толку.
И тогда кинологи принялись по очереди
прятаться в руинах,
чтобы собаки нашли их живыми.
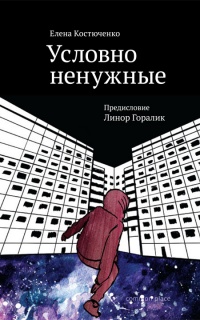
Москва, например, — невротический город. Мы заходим в метро, проходя по лестнице мимо листовочника — у них разные стратегии, некоторые делают одинаковые махи руками перед носами прохожих, кто-то просто без остановки повторяет "возьмите, пожалуйста", — мимо беременной с опухшим лицом, сидящей на полу в переходе перед пакетиком, мимо ларьков — впрочем, их почти все позакрывали, мимо работников метро — один со сканером, останавливает мужчин с объемными сумками, другой в будке. Сколько кругов социального ада и чистилища скрывается за всеми этими людьми с их уникальными, единичными жизнями. Кого-то десять лет держали в рабстве в супермаркете. Кто-то подростком упал в шахту лифта ховринской заброшенной больницы и сломал шею. Пока мы не смотрим в их сторону, их не существует. Жить в мире, где никого из них — и бесчисленного множества других людей — не существует, и это выбор, который большинство из нас совершает день за днем.
«Свет внимания» — цитата из Питера Хёга, по ассоциации с романом которого «Условно пригодные» назван этот сборник. Цитата целиком приводится как эпиграф к предисловию, написанному Линор Горалик. Речь идет, с одной стороны, о том, что следует направлять «свет внимания» на источник боли. С другой стороны, это взято из текста, который повествует ученик школы-интерната, и он пытается раскрыть заговор взрослых, поставивших время себе на службу в целях подавления и тотального контроля.
Елена Костюченко — человек бесконечного мужества и стойкости, мне кажется. Ее свет внимания сфокусирован на огромном море боли, которое мы обычно держим в слепом пятне. Он освещает правду людей, о которых мы выбираем ничего не знать, о наших современниках, людях нашей страны, нашего города, соседях, прохожих. Таким образом она возвращает им отнятое существование. Вот они — во всей своей непререкаемой действительности, со всем своим неотъемлемым правом быть, во плоти, дышат. Они — часть реальности, в которой мы находимся, хотим мы этого или нет. Кто-то из них это мы.
Я не знаю, что мы будем с этим делать. Что мне с этим делать.

Реальность текста существует только там и только такая, где — и каким образом — она соприкасается с сознанием читателя. (Об этом весь наш читательский клуб «Голос Омара LIVE» — из того, что происходит прямо сейчас, к примеру.) Поэтому, несмотря на то, что я считываю политическое в том, что пишет Цветков, это мне странным образом интересней едва ли не меньше всего. Пусть это и не отменяет удовольствия от считываемого. Думаю, я неправильный читатель Цветкова.
В любом тексте я отыскиваю, вынимаю во внутреннюю копилку и люблю то, что приближает этот текст к поэзии. Я готова выдать poetic license всему, что мне в качестве таковой нравится, задумывалось оно так или нет.
Цветков устраивает читателю поэзию там, где ожидалась реальность, и в крупном, и в мелочах, и особенно это выразительно на контрасте с честной социальной сатирой и радикальным марксизмом — как всегда магия лучше всего, когда неожиданно проглядывает из-под повседневности. Это делается очень прозрачно, без желания намеренно усложнить или затемнить речь, а как раз наоборот — с тем, чтобы наконец поговорить с читателем на языке, максимально близком к тому, как оно есть на самом деле.
Под «поэзией» я имею в виду такой слом или такое преображение повествовательности, прорыв в такую ее форму, которая отвечала бы ничему другому, как мифу или откровению.
Думаю, то, что я называю «поэзией», Цветков бы как раз назвал «революцией».

Павел Когоут — один из тех, кто составлял Хартию-77, диссидент со сложной историей, драматург, по большому счету. На русский, кроме пары пьес, переводили только один роман «Палачка», изданный «Текстом» в 90-х. Роман, по-моему, вполне гениальный. Местами — чудовищно смешной, теми же местами — просто чудовищный. И в целом о чудовищах.
Пятнадцатилетняя девочка Лизинка, ангельское дитя, не одаренное ничем, кроме прекрасных золотых локонов и общей эфемерности, не может поступить в колледж. Родители в растерянности и панике. Но респектабельный жизненный выбор и яркие карьерные перспективы находят ее через двух приятнейших ученых господ, профессора Влка и доцента Шимсы, преподающих в особенной закрытой школе. Господа заявляют, что Лизинка по всем параметрам просто рождена была для обучения в их исключительном и секретнейшем учреждении...
Ах, дорогие родители, радутесь! Вашей девочке суждено стать первой в мире палачкой!
Мучить и убивать, да что вы, из каменного века? Все совсем не так примитивно! Палачество — особенное искусство, требующее как усердия и отточенного навыка, так и таланта. Это искусство. Почти хирургия. И, конечно, квалифицированному «исполнителю» необходимы глубочайшие познания в психологии и физиологии. И не забудьте о профессиональной этике! Профессор Влк, широко размахивая исторической эрудицией, горячо рассуждает на тему важной общественной роли палачей и необходимости сложной профессиональной подготовки, что родители, несмотря на сопротивление интеллегенствующего папы, отпускают Лизинку учиться и необходимости полноценной профессиональной подготовки. Для того, чтобы достойное дело, дело его жизни, не позорили дилетанты, профессор Влк, сам виртуоз и энтузиаст, и открыл специальное учебное заведение. Его выпускников ждет блестящее будущее. Родители, несмотря на вялое сопротивление интеллегенствующего папы, отпускают Лизинку учиться. Такая обаятельная профессура. Люди явно понимают и предмет, и детей, и как управлять колледжем закрытого типа. И профессия древняя и благородная, а в наши дни снова становится востребованной. В конце концов, не дворником.
Дальше начинается такой, знаете, «Понедельник начинается в субботу» напополам с «Гарри Поттером». В мире, где детей учат убивать и мучать, потому что сменилось правительство и на профессию снова появился спрос. О эти учебные будни, о эта страсть к познанию, напряженная учеба, азарт первых экзаменов. О эти юные умы и руки, постигающие премудрости заплечного дела. «Кто хочет вешать, должен ведать». О тонкие отношения между небезразличными учителями и пытливыми учениками. О эти подростковые влюбленности, драматические коллизии внутри узкого коллектива.
Запашок повешенного, который с самого начала сопровождает повествование, к середине книги нарастает, а затем быстро превращается в кромешный смрад. Если вы начнете читать, будьте готовы к тому, что издевательский производственный роман-антиутопия перерастет в тошнотворную оргию. Что нет, всё это не остановится в точке, где уже некуда отвратительней, — увидите, найдется. Всё, что требуется для его художественной цели, автор сделает — в том числе и с вами — совершенно бесстрашно.
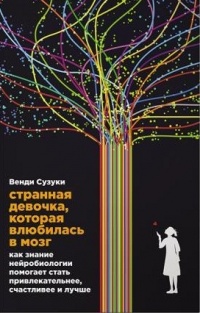 Вот у вас есть guilty pleasure — если говорить о книгах? То есть что вы читаете с вот этим вот странноватого рода чувством удовольствия, когда никто не видит? У меня в эту категорию идут все тексты вроде «Как все успевать и оставаться в своем уме», «Пять простых шагов к величию», «Три вопроса, которые нужно задать себе, чтобы найти цель в жизни», «И рыбку съесть, и на люстре покататься: почему не надо выбирать что-то одно» и т.д. «Золотой закон личной эффективности: просто закройте эту статью и работайте дальше». Собственно книги — почти никогда, потому что это же куча времени! Можешь не читать — не читай. Всегда есть что-то, что ты не можешь не прочесть. Но вот давеча приключилось: я не удержалась, потому что — ну нейробиология же. Нейробиология это очень интересно. И сама по себе и, отдельно, как потенциальный источник информации о том, как лучше «договариваться» со своим мозгом изо дня в день, чтобы, знаете, нормально все делать и нормально все было. Тут-то «Странная девочка» и попалась мне на глаза. «Как жить и выжить», взгляд нейробиолога. Комбо.
Вот у вас есть guilty pleasure — если говорить о книгах? То есть что вы читаете с вот этим вот странноватого рода чувством удовольствия, когда никто не видит? У меня в эту категорию идут все тексты вроде «Как все успевать и оставаться в своем уме», «Пять простых шагов к величию», «Три вопроса, которые нужно задать себе, чтобы найти цель в жизни», «И рыбку съесть, и на люстре покататься: почему не надо выбирать что-то одно» и т.д. «Золотой закон личной эффективности: просто закройте эту статью и работайте дальше». Собственно книги — почти никогда, потому что это же куча времени! Можешь не читать — не читай. Всегда есть что-то, что ты не можешь не прочесть. Но вот давеча приключилось: я не удержалась, потому что — ну нейробиология же. Нейробиология это очень интересно. И сама по себе и, отдельно, как потенциальный источник информации о том, как лучше «договариваться» со своим мозгом изо дня в день, чтобы, знаете, нормально все делать и нормально все было. Тут-то «Странная девочка» и попалась мне на глаза. «Как жить и выжить», взгляд нейробиолога. Комбо.
Доктор Венди Сузуки изучает паттерны мозговой активности, лежащие в основе механизма долговременной памяти. У Венди Сузуки прекрасная лаборатория в Нью-Йорке, Анни Лейбовиц фотографирует ее как женщину, добившуюся выдающихся вещей на своей стезе, Венди Сузуки — известный на весь мир ученый. Но в 40 лет ей приходит в голову, что больше в ее жизни ничего нет, и что ее это, пожалуй, не устраивает. Тогда она решает поменять образ жизни, заниматься спортом и разобраться с эмоциональной жизнью — что и проделывает, анализируя каждый свой чих в этом направлении с точки зрения работы мозга. Нет, не читайте, пожалуйста, аннотацию, никаких «уникальных методик» эта книга не предложит. Но кое-что о мозге (особенно, если вы раньше на эту тему почти не читали) все-таки расскажет. Как почти с любым селф-хелпом, у меня были здесь определенные трудности с переизбытком восторженности у автора, но мало ли.
Эта книжка всецело подчинена цели убедить читателя, что физические упражнения — большое счастье и подарок для его, читателя, мозга. Получить утилитарную пользу от нее вы сможете, только если ваши цели совпадают с целями автора, а это, в общем-то, запросто. Вполне возможно, вы хотите хорошенько, качественно сформировать в себе твердое убеждение, что пора, пора уже регулярно начинать заниматься физическими упражнениями. И вам для этих целей нужен подробный, иллюстрированный личными историями и научными экспериментами рассказ, почему упражнения хороши и для памяти, и для внимания, и для настроения, и для творчества — и как это обусловлено работой нашего мозга. В таком случае откройте сознание и постарайтесь послушать автора, как слушали бы невероятно подкованного и очень, очень, очень вдохновленного своими идеями собеседника.
Главное, не забудьте потом ключевой пункт в этой затее.
Давайте представим, что у нас с вами нормальное общество. Что кинофестиваль "Бок о Бок" вовсе не вынужден приглашать двоих охранников на маленький мастер-класс по рисованию комиксов, никто не запрещает подвижнический проект по психологической поддержке ЛГБТ-подростков "Дети-404", нет такого понятия в законе "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", словом, давайте сделаем ментальное усилие и представим на одну волшебную минутку, что все наши соотечественники вдруг оказались в здравом уме. Насладитесь этой картинкой. Вот единороги, вот радуги, вот адекватное разумное отношение к вопросу человеческих предпочтений в сексе, как мы его, отношение, представляем в идеале. Даже, пойдем дальше, дети растут в среде, в которой любой из них чувствует себя в безопасности, — их не будут дразнить в школе, от них не отрекутся родители, их не упекут в психиатрическую лечебницу, если они вдруг поймут, что испытывают эротические чувства к кому-то не тому. У них не развивается дистресс, они не начинают чувствовать ненависть к самим себе — и страх, что все отвернутся от них и жизнь будет потеряна. То есть совсем-совсем все дети, да?
Красота. Ладно. А что вы, адекватный человек, скажете о форме сексуальности, когда кто-то возбуждается только от фантазии о пенисе коня? или от того, что привлекательный человек чихает? Или о ком-то, кто не может испытать эротического удовольствия, если второй участник полового акта — не камень, покрытый мхом? труп? ребенок?
Необходимо честно осмыслить и держать в голове знание, что никто — ни один — из этих людей не выбирал свою сексуальную ориентацию. И она — навсегда. Каждый из них, начиная с подросткового возраста, живет в шкафу, полном кошмаров и стыда, потому что знает наверняка, что столкнется только с осмеянием, отвращением и осуждением, если хоть одна живая душа узнает его секрет. При этом, простите, камню ничего не будет. А в случае педофилии важно помнить, что сексуальная ориентация и половое поведение — это не одно и тоже. Но только вообразите — и отследите свою реакцию. Вы, может, и будете тем человеком, который посмеется или в ужасе осудит.
С другой стороны, вполне вероятно, вам и самому есть что скрывать.
Джесси Беринг последовательно разворачивает перед нами детальную картину человеческой сексуальности, причудливую, странную и многими местами непрезентабельную, разбирает историю ее изучения, сложности, с которыми сталкиваются исследователи, теории развития и обусловленности, механизмы работы, и даже причины и механизмы самого вот этого нашего отвращения, и старается оставаться в координатах уравновешенного разума в самых тонких, сложных и морально тяжелых вопросах. Именно здесь-то и нужно, чтобы мы вдохнули, выдохнули и постарались мыслить здраво. Он предлагает отбросить привычные и невероятно неинструментальные ментальные костыли вроде понятий "мораль" или "естественность", и в своих оценках опираться только на реальный субъективный вред, а на разные социокультурные конструкты не опираться — мы же в курсе, что они сильнейшим образом варьируются.
Каждый шаг, который помогает еще немного преодолеть нашу склонность к стереотипизации, развитую в ходе эволюции, и настраивает нам оптику так, чтобы видеть человека, — шаг вперед. Цивилизации еще переть и переть. Спасибо Берингу за вершины ясности мышления, и за то, что ясность эта одухотворена глубокой эмпатией — и как следует приправлена иронией.
Кроме того, что это, понятное дело, страшно увлекательная (ну как же!) и яркая книга, она, мне кажется, еще и очень важная.
И познавательная, конечно. Местами даже чересчур познавательная.

После эфира Стаса Жицкого об этой книжке я вдруг вспомнила, что у меня тоже когда-то писался о ней текст. Кто хочет сохранить интригу — не читайте дальше, читайте сразу роман. Впрочем, я не все секреты сдаю.
Для начала, обманывает название.
Может быть, и не обманывает, но развлекается с нашим ассоциативным рядом. Изначально обряд обрезания был связан с ритуалом инициации, перехода ко взрослой жизни. Означает ли это, что мальчик, через призму восприятия которого ведется повествование, пройдет взросление?.. Он-то пройдет, конечно, но это останется за кадром. Первая догадка коту под хвост. Роман не о взрослении.
Несколько поколений Свиридовых, за судьбой которых мы наблюдаем, — конечно, словно пасынки своей родной стране, Союзу Советских Социалистических Республик. А уж тем более это слово подходит Ивану Свиридову, эмигранту, тоскующему по родине несмотря на то, что обрел в лице Канады, как сам говорит, ласковую мачеху, — он остается для нее пасынком. Охвачен восторгом, когда может купить в продуктовой лавке то, что привык есть дома, или когда дарит сыну советский велосипед, пусть тот и разваливается по винтикам через полчаса прогулки. Сын родился уже в Канаде и восторгов отца по поводу, скажем, воблы, решительно не разделяет. Он, между прочим, еще один пасынок этого текста — но тс-с-с, это семейная тайна!
Мы можем фантазировать по поводу названия сколько угодно, или вот середине книги объясняет лейтенант госбезопасности: «Пасынки — это отростки сбоку от основной ветки лозы. Их надо обрезать, оставляя всего два-три листика, и все питательные вещества пойдут в плодоносящую гроздь». Есть у нас задачи более насущные и интересные в общении с этой книгой. Взять, например, того самого мальчика, «через призму восприятия которого». Всё хитрее устроено, чем кажется.
В первой части безымянный мальчик вводит нас в мир своего детства: начало шестидесятых, мир, который «казался куда более плотным, весомым и убедительным, чем впоследствии». Это мир опредмеченный, мир вещей, семейных обычаев и привычек. Из чего только сделан мир мальчика? Из разнообразного использования спичек и кабеля, настенных газет, воды из-под крана и заклеенных окон, соседей по квартире, стильного предмета обихода — торшера, и серого магазина на углу, филателистического отдела в «Детском мире», арбуза, который на самом деле ягода, первого семейного фотоаппарата.
Перемежается обаятельная проза нехитрой детской жизни размышлениями взрослого человека, поэта и писателя — самого автора? — о жизни и поэзии. Такое чувство, что он хочет охватить все основные вопросы этой серией эссе — почему поэты умирают молодыми, что важнее, жизнь или литература… Да, это мог бы написать тот самый мальчик, выросши. Мы его еще встретим.
В следующей части книги интонация не меняется, так что проходит какое-то время, прежде чем читатель понимает, что мальчик-то уже совсем другой, и время сменилось — теперь это конец тридцатых. Читателю ничего не рассказывают впрямую, а приходится ему внимательно выбирать из мозаики уже новых бытовых мелочей и каждодневных подробностей — нить происходящего. Мальчика увлекают такие важные вещи, как поимка светлячков, и совсем не интересует скучное, взрослое и непонятное, происходящее вокруг: дача Осипа Мандельштама, на которой они живут, то, что его мама — лейтенант НКВД, то, как три запуганных «писца» под бдительным присмотром ее и коменданта Дементия стряпают дело на арестованного поэта, вынося свое экспертное заключение «троцкистским и версификаторским» стихам его…
Для мальчика, не понимающего сути происходящего, это все просто вливается в его мирное существование любознательного пионера. Точно так же, как документальные истории про иностранных разведчиков, «которые теперь разоблачены и удавлены», — он переписывал это в общую тетрадь, перемежая с детскими страшилками про черную руку и кое-что, уточняет автор, добавляя от себя. Путаются в этой тетрадке — и в мальчиковом уме — христиане, троцкисты, ведьмы и казаки, и нельзя не видеть в том принципе, по которому он отбирает вместе те или иные истории, свою жутковатую логику.
Дальше не имеет смысла пересказывать, но читателю приходится разворачивать повествовательный фрактал изнутри, с каждой новой повторяющейся формой удивляясь красоте замысла. И все-таки получается, что человеческие трагедии здесь служат фоном, предлогом для рассказа о материальной стороне жизни, которая, как пишет один герой другому в госпиталь для душевнобольных преступников, в каждой стране своя и неповторимая. И хорошо бы, чтобы кто-нибудь ее описывал, вдумчиво и узорчато рассказывал про щеглов и про арахисовую пасту с сельдереем, потому что каждое поколение, уходя, как из Москвы ушли ассирийцы—чистильщики обуви, уносит с собой в небытие целый мир.
Словно некий маленький мальчик обнаружил, что целлулоид отлично годится для дымовых шашек, и извел на это все драгоценные фотопленки, полные воспоминаний своего отца. И ничего не осталось.
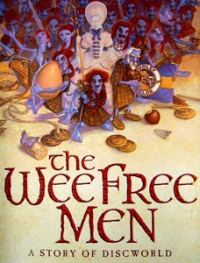
Маленькая девочка Тиффани Болит отправляется в Страну Фей за младшим братом, которого похитили эльфы.
Эльфы у Пратчетта, посвятившего им отдельный роман «Дамы и Господа», существа беспощадные и омерзительные. Их красота, их песни — то, о чем люди помнят и чем очарованы, их истинная природа — то, чего стоит бояться. Страна Фей — паразитическая вселенная, кормящаяся человеческими страхами. Она населена похищенными за многие века детьми людей, забывшими, кто они на самом деле, и иллюзиями. Пратчетт рисует нам разные картины Страны Фей, но одну он берет прямиком из реальности. Эта картина визит в галерее Тейт, называется «Мастерский замах сказочного дровосека» и была написана в середине XIX века художником Ричардом Даддом, обитателем Бедлама. (Как-то раз Ричард Дадд взял нож и убил своего отца, сочтя того дьяволом.) На детальном, кропотливо заполненном полотне нет никакого воздуха. В высокой траве, посреди каменных ромашек и одуванчиков, застыли маленькие нарядные леди и джентльмены самой нелепой и причудливой наружности. В центре композиции — орех, на который, действительно, замахивается сказочный дровосек, но в его жесте нет движения, нет жизни, топор никогда не опустится, потому что сам мир, в котором они находятся, делает саму мысль о движении невозможным. Зачем совершается замах, когда очевидно, что его не может быть, непонятно. И все это сообщает зрителю странную удушливую тревогу. А читателю «Маленького свободного народа» предстоит побывать в этом мире изнутри.
Впрочем, Пратчетт был бы не Пратчетт, если бы безвременье нельзя было преодолеть.
Это же история не про эльфов. Это история про маленькую девочку Тиффани Болит. Про маленькую девочку, которая понимает, кто она такая. Тиффани Болит — ведьма, и это значит, что ей нужно открыть глаза, а потом открыть их еще раз. «Witch deals with things», говорит Пратчетт, и мне трудно это перевести одной фразой, сохранив смысл. Ведьмы имеют с вещами дело. Ведьмы решают проблемы, ведьмы делают то, что должно, ведьмы всегда лицом к реальности и готовы схватить ее за воротник и хорошенечко потрясти, если нужно. Словом, мне кажется, один из лучших девизов вообще.
Когда нужно спеть, певец отворяет свою тайную рану, свой сокровенный колодец боли — он всегда знает, где бьет этот источник, бьет всегда и во веки веков, и никогда не перестает, как любовь. Пятьдесят псалмов Леонарда Коэна, пятьдесят песен боли и любви грозному Богу Авраама, Исаака и Иакова. Может ли современный поэт что-то новое спеть грозному Богу Авраама, Исаака и Иакова?
Нет, конечно.
Да, конечно.
Никто не поет ничего нового. Все поют, чтобы их услышали, и немногие бывают услышаны. Ради того, чтобы спеть ту же вечную песню, что пели тысячи и тысячи до тебя, ты обращаешься внутрь себя, идешь к источнику боли и черпаешь из него, и несешь, стараясь не расплескать, словно не было тысяч и тысяч, словно первый человек на земле идешь с ускользающей водой в горсти. Если ты не донес, не смог так облечь в слова воду из глубин своих, чтобы ее донести, — никто не сможет напиться ею. Все, что сможешь ты выдавить из себя, будет пустой формой, общими словами, которые будут истинны — но которые ничего не значат, ничего не выражают, никого не напоят, никому не охладят лоб в минуту усталости.
Леонард Коэн (по-русски — голосом Макса Немцова) пишет так, как если бы его песня рождалась из него во всем мире первой, единственной и последней. И никто из нас не знает другой воды.

Миланский букинист-антиквар Джамбаттиста Бодони потерял память.
То есть как — память. Он помнит все, что когда-либо читал или смотрел, но не помнит ничего, что касалось бы его лично. Специальная форма амнезии.
Меня зовут Артур Гордон Пим, он может сказать.
Зовите меня Измаил, он может сказать. Эвклид написал «Начала». Элементарно, дорогой Уотсон, как десять негритят. Карл у Клары украл кораллы. Кораллы, Карл! Словом, всё не то. Ничто из этого не относится непосредственно к тому человеку, которым он когда-то был. Он, эрудит, может рассказать поболе, чем рядовой человек, но ни своего детства, ни имен своих жены и детей притом вспомнить не может. И что они у него вообще были — жена, дети. Детство. За этим он и отправляется в большой семейный дом в деревне Солара, где жил ребенком. Там, на забытом чердаке, он разыскивает книги, журналы и грампластинки, смотрит, слушает, ловит искры узнавания. Пытается то ли вдохновить того потерянного человека к жизни, то ли реконструировать его по косвенным признакам. Что он чувствовал? Что любил? Кого любил? И почему? Но все бессмысленно, он узнает, но не вспоминает. Он лепит модель мальчика, которым был, по гипсовой маске культуры, которая влияла на него в то время: радио, газеты, книги. Он пытается вычислить свой способ думать по стихам, которые остались — но они, увы, сплошь заимствованные. Как добросовестный исследователь литературы, он прослеживает корни этих заимствований и способ их организации. Вот какие сюжеты определили его способ воспринимать мир. Вот какие образы сформировали его сексуальность. Но все это ему не помогает. Его личность состоит из сложным образом перекомпонованных цитат, каждые элемент его самоопределения отсылает к смысловой сетке, созданной до него кеми-то, кто тоже опирался на такую же сетку... Но здесь больше нет того, кто удерживал все это вместе. Разве что на одно последнее мгновение. Автор умер, и здесь некого больше искать.

Так уж устроен этот мир, что на все вопросы приходится отвечать посреди горящего дома,
— говорит бодхисаттва Чапаев Петру Пустоте, когда они сидят, натурально, в подожженном особняке и разговаривают о, да, пустоте.
Честное слово, совсем неудивительно, что все философские и религиозные труды такие сложные и путаные, что все разговоры об искусстве такие беспредметные и приблизительные. Вот мы, мучительно ищем способ описать то, что происходит, вот истина — начинается как раз там, где кончается наша — нет, не способность ее описывать... — нет, не воля... — нет, не сама мысль... Хорошо, пора завязывать с описаниями от обратного — хотя, кажется, это чуть ли не единственный, проверенный поколениями, способ хотя бы начать что-то описывать. Словом, именно этим мы здесь и занимаемся: бесконечно отвечаем себе на вопросы про невидимого слона, ощупывая его, как водится, с разных затейливых сторон. Слон то ли есть, то ли нет. Вы в горящем доме. («И он горит, и ты горишь, и всё в огне», как пишут в интернете.) Кто-то бессвязно выкрикивает вслух возможные имена слона. Кто-то пытается измерить разные части тела слона. Кто-то пытается убедить остальных, что необходимо измерять слона и говорить о нем, даже если он невидим. Кто-то пытается чинить дом. Кто-то пытается убедить других, что слон важнее горящего дома, кто-то наоборот... Хорошо, дальше каждый может продолжить эту незамысловатую метафору самостоятельно. Но тот факт, что мы все в одном и том же горящем доме, — если задуматься, и правда бесконечный источник для сострадания.
Эта книжка все время, пока читаешь, последовательно, в беллетризованной форме, возвращает тебя на ту грань тебя, которая чувствует пульс мирового непостоянства, и через это знание наполняется особого свойства властью. Как раз эта грань — шаг по направлению к сумасшествию, но только с нее ты и бываешь иногда по-настоящему сильным, отважным и готовым осмысленно и ответственно действовать в мире. Ну а чего уж тут, если и его нет, и тебя нет?
Каждый ребенок в моем поколении ждал письма из Хогвартса. Никто, по моей информации, ни одного не получил. Временами я думаю, повлияло ли это на наши отношения с запрятанными волшебными мирами: то, что мы все оказались к ним непричастны, что мы для них не годимся, что нас не позвали? Стали ли мы искать новые двери туда, или, разочаровавшись, навеки забыли о них думать?
Впрочем, глупо пытаться присвоить общечеловеческую мечту о приглашении к неведомому.
Школа Герцога Коннера Эгана — поразительное братство людей в поиске предназначения. Замок находится где-то, вроде бы, в Восточной Европе, в каких-то фернских землях, там еще давным-давно жил другой народ, дерри, и воздух до сих пор полнится их удивительными мифами... Юная неоперившаяся барышня из местной аристократии, по имени Ирма, попадает в замок не то что случайно, но уж никак не по личному желанию — ее похищают. Обо всем, что с ней происходит в замке, Ирма пишет в дневник. Несколько лет спустя дневник переведут на русский («Мой настоящий Риду», издательство «Гаятри», 2005 год). С переводчицей Сашей мы тоже познакомимся.
Замок — магический лабиринт, выстроенный волей одного человека, Герцога, из душ его учеников. Нить Ариадны уже натянута и поет внутри тебя, держись за нее и иди. Твоя цель — выбраться к самому себе. А может, наоборот — от самого себя к неведомому.
С читателями производят два опыта. Опыт об ученичестве — с его опасностями и восторгами, благословением идеального принятия, играми на поле человеческой воли, страхом открыться тайне; и пробуждением. Опыт о неученичестве — с его неприкаянностью, смятением и тоской по причастности.
И третий опыт — тайный. Об игре, которая начинается там, где уже нет разделения на учителей и учеников.
Покровы иллюзий неисчерпаемы, за каждой новой тряпкой обнаруживается еще одна. Кусочки мозаики всякий раз складываются в совершенно новую картинку. Эта книга — как совы, если вы понимаете о чем я. Сперва она кажется одним, потом другим, но не теряй внимательности с ней в пути. Закрыв ее, остаешься с занозой в сердце и с необходимостью проделать внутреннюю работу по изучению природы этой занозы и места, куда она вошла, и что именно вообще случилось.
Четыре с половиной года назад «Вас пригласили» была для меня о том, как важно бывает вовремя сделанное приглашение — и знать, что приглашение неотменяемо. Сулаэ фаэтар — «всегда приходи», одна из особых фраз в языке дерри, имеющая одновременно смысл «Ты всегда там».
Сегодня — о загадке Алисы, упавшей в кроличью нору и оказавшейся в пространстве, из которого не видно выхода. Загадка такая: любуясь в замочную скважину на дивный сад, куда не можешь войти, не вредно оглянуться на себя и заметить, что ты гораздо больше двери, в которую ломишься.
Ну, и эта тряпка — далеко не последняя.
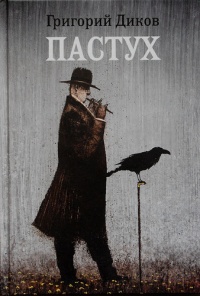 Есть книги, о которых точно знаешь, что добром герой не кончит. Вот так и про пастушка Нила, ребенка, зачатого не пойми каким древний волшебством на проклятом болоте, сразу понимаешь: история будет печальная и трудная. Так и получается. И вырастает Нил — красивым, умелым, добрым и умным парнем, и живет в нем некий причудливый, не до конца оформившийся дар — то ли прозревать в чужие души, то ли что-то такое. Но, что называется, не везет. Точнее, как "не везет". Вечно приключается с беднягой что-то не то, а главное — приключается с ним удивительный брат-близнец с белесым лицом, который преследует Нила по пятам. Нет, он-то как раз никак нашему герою вредить не намерен. Напротив, всегда готов помочь по-братски. Насмерть порешить мужа Ниловой любимой. Научить, как скрыть, что выстроенная Ниловой артелью церковь того гляди обвалится. Познакомить с нужными людьми... Словом, подставить плечо и выручить в любой ситуации. Но каждый раз находится какой-то счастливый шанс, какой-то просвет, распахивается дверь, куда Нил еще мог бы сделать шаг — и всё, всё будет иначе. Но ты смотри, читатель, смотри внимательно, как каждый раз он отворачивается, как совершает он выбор за выбором, и череда их приводит Нила к высокой карьере загадочного светского персонажа, незаменимого и поразительного мага, попасть на прием к которому — само по себе уже чистое чудо. И как он проиграет, чтобы будущее могло победить.
Есть книги, о которых точно знаешь, что добром герой не кончит. Вот так и про пастушка Нила, ребенка, зачатого не пойми каким древний волшебством на проклятом болоте, сразу понимаешь: история будет печальная и трудная. Так и получается. И вырастает Нил — красивым, умелым, добрым и умным парнем, и живет в нем некий причудливый, не до конца оформившийся дар — то ли прозревать в чужие души, то ли что-то такое. Но, что называется, не везет. Точнее, как "не везет". Вечно приключается с беднягой что-то не то, а главное — приключается с ним удивительный брат-близнец с белесым лицом, который преследует Нила по пятам. Нет, он-то как раз никак нашему герою вредить не намерен. Напротив, всегда готов помочь по-братски. Насмерть порешить мужа Ниловой любимой. Научить, как скрыть, что выстроенная Ниловой артелью церковь того гляди обвалится. Познакомить с нужными людьми... Словом, подставить плечо и выручить в любой ситуации. Но каждый раз находится какой-то счастливый шанс, какой-то просвет, распахивается дверь, куда Нил еще мог бы сделать шаг — и всё, всё будет иначе. Но ты смотри, читатель, смотри внимательно, как каждый раз он отворачивается, как совершает он выбор за выбором, и череда их приводит Нила к высокой карьере загадочного светского персонажа, незаменимого и поразительного мага, попасть на прием к которому — само по себе уже чистое чудо. И как он проиграет, чтобы будущее могло победить.
Отдельно хочу сказать, что Игорь Олейников иллюстрациями умудрился выпростать на страницы книги чистую тьму, вязкую и зовущуюю. Как у него это выходит — загадка.
В начале года, когда секта читателей только начиналась, на самой-самой первой книжной встрече мы разговаривали о "литературе вопросов" и "литературе ответов", и зачем мы читаем условную вторую. Для меня миры Макса Фрая — безусловно "литература ответов" в том смысле, что в его книгах задана и последовательно проводится этическая аксиоматика, и художественная история сотворяется для того, чтобы ввести читателя именно в это пространство. Если история хороша, то читатель пленен. Он проживает часть жизни на условиях автора, в мире, где всё играет по правилам автора, он учится думать в парадигме, предлагаемой автором, а художественная история, взяв его за сердце, протаскивает через это путешествие мысли.
Я пыталась сформулировать для себя, зачем "литература ответов" нужна лично мне, и поняла, что время от времени такие книги — насущная необходимость. Бывает тебе не нравится человек, которым ты проснулся поутру. Бывает, что ты живешь долгие недели, забыв, что бывал и другим — сильным, свободным, щедрым, любопытным и открытым новому. Тогда бывает крайне полезно пойти какое-нибудь другое сознание, не свое, и немного побыть по его правилам. Чтобы тебе напомнили, как это бывает и зачем. Ты всё это уже знаешь. Мы всегда всё на самом деле знаем. Но повседневности так много, она так требует нашего безотрывного внимания, что не всякий раз нам остается такая роскошь, кусочек сознания, который способен удерживать это знание на плаву, развязывая нам руки и сердце.
Я хожу в пространство Фрая, потому что оно освобождает. Это мир очень сильных людей и очень свободных, где свобода — это чуткая, осознанная воля, а сила — это соединенность с Миром. На этих страницах никому не приходится бороться за ежедневное выживание, повседневный мир комфортен, дружелюбен и обаятелен, и не мешает заниматься главным — радостью и познанием. Любовь — это важно, но это только одна из бесконечного числа интересных вещей, которые может предложить мир. Жизнь сознания — настоящая жизнь, но реальность важна ровно настолько же. На самом деле мы всегда знаем, что нам нужно, но действовать начинаем, только если кто-то озвучит это извне. Смерть — это еще одно приключение (как говорил Альбус Дамблдор). Когда достаточно опыта, перестаешь говорить "Как плохо!" и начинаешь "Как интересно!". Магия высоких ступеней требует неподдельной неистовости желания. И мир полон чудес, а ты — его часть. Скажите это еще раз. И еще. А теперь тому, который проснулся на другой день.
"...приходит в голову нечто вроде шатокуа (единственное название, которое я могу придумать) — вроде множества бродячих палаточных шатокуа, которые раньше ездили по всей Америке, по той, в которой мы сейчас: старинная серия популярных бесед, призванных обучать и развлекать, развивать ум и нести культуру, и просвещать уши и мысли слушателей. Шатокуа оттеснили быстродействующие радио, кино и телевидение, и мне кажется, что эта перемена не вполне к лучшему. Возможно, после таких перемен поток национального сознания ускорился и расширился, да только мне думается, что он-таки измельчал."
Рассказчик с сыном путешествуют на мотоцикле из Миннеаполиса в Сан-Франциско. Чтобы занять время в пути, рассказчик повествует о человеке, который умер до его появления на свет — во всяком случае, так он считает, — и о сложной, неоднозначной, оригинальной системе его философских и научных взглядов, источниках этих странных взглядов и развитии...
"Дзэн..." поэтому называют "романом идей".
Нет, не так. Это роман о Граале. Он излагает историю о путешествии. Захватывающую, драматичную историю, где полно неодолимых препятствий, внезапных поворотов, блестящих побед, сокрушительных поражений, упорства, отчаяния, смелости и подвигов духа.
Это путешествие одного человеческого разума. Человеческой мысли.
Когда-то он увидел вдалеке призрак Грааля — неистинность, внутреннюю порочность священной коровы самого Разума, систематической мысли, рациональности, в парадигме которой построена цивилизация людей. Он увидел, что в самом нашем способе думать заложен генетический дефект. В нем — источник общественного кризиса, и пока режим мышления не будет сменен, ничего не исправишь. Разум не справляется. Разум не состоятелен. Существующие формы мысли не способны справиться с ситуацией, потому что они — ее причина.
Есть другой способ.
Я думаю, что разум сегодняшнего дня подобен плоской земле средневековья. Если зайдешь слишком далеко, то считается, что свалишься — в безумие. А люди этого очень боятся. Думаю, эта боязнь безумия сравнима со страхом упасть с края мира, который у людей когда-то был.
Он исходит из того, что так, как сейчас, считали не всегда. Что законы реальности изобретаются человеком.
За этим Граалем он пускается в путь: от Юма и Канта до Платона, Аристотеля и древних риторов через заход к восточной философии и дзэну, он неуклонно гонится за корнем этой порочности, одержимый видением спасительного выхода за рамки, расширения природы разума.
И находит.
В отличие от большинства из нас, та человеческая мысль, чье путешествие разворачивает рассказчик перед нашим внутренним взором, — последовательна и не знает страха. В отличие от большинства из нас, он делает шаг тогда, когда его нужно сделать, и не останавливается ничем, и проходит свой путь до его логического завершения. Он идет шаг за шагом туда, куда ведет его Поиск, не интересуясь побочными эффектами, не думая о последствиях, полностью захваченный тем, что ведет его за собой, слившийся с приключением своего ума, сделав свою личность почти неотличимой от того, чем она занята, — от Поиска. Поиск приводит его в психиатрическую больницу к лечению электрошоком. Тот, что искал, исчезнет. Но останется рассказчик. Рассказчик с сыном путешествуют на мотоцикле из Миннеаполиса в Сан-Франциско.
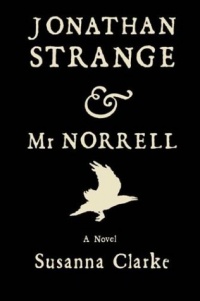
«Если
поэт не находит бессмертного и загадочного в своем краю, ему приходится
писать о далеких странах чаще, чем о собственной... Даже самые
мимолетные и ясные поэтические страсти обитают среди бессмертного и
загадочного, — и когда поэт не пишет о своем крае, воды и горы вокруг, и
жизни, проживаемые среди них, становятся менее прекрасны, чем могли
быть».
Я пылко люблю эту цитату Уильяма Батлера Йейтса. И в очередной раз думаю о том, что англичане как раз невозмутимо продолжают находить в своем краю бездны бессмертного и загадочного, и ткань новых волшебных историй, которые они создают, соткана из магии местных холмов, деревьев, рек и ветра (а магия холмов, деревьев, рек и ветра оказывается сотканной из волшебных историй).
Вот и теперь.
Магия — естественная часть истории Англии, и это общеизвестный факт. Когда-то, триста лет назад, всем Севером правил король-волшебник, Король-Ворон, Джон Аскгласс, в детстве похищенный фейри и воспитанный ими, и тогда союз с Фейри был крепок, границы между королевствами — очень тонки, а Англия полнилась магией. Но это — просто часть публичного знания. С тех пор очень много времени прошло. Магов в Англии все еще довольно, должен же кто-то писать научные и исторические труды, заседать в обществах и выяснять теоретические вопросы. Это весьма достойное и уважаемое занятие. Целое Общество друзей английской магии протирает свои благовоспитанные штаны в Йорке. Но вот беда — ни один из них не может сотворить ни единого настоящего заклинания. Пока не появляется мистер Норрелл. Крайне малоприятный, надо сказать, тип, скучный, тщеславный и высокомерный маленький зануда, который может действительно творить магию.
Так в Англии появляется один настоящий волшебник. Национальное достояние.
Потом оказывается, что некий легкомысленный обаятельный хлыщ, только что получивший наследство и женившийся, тоже может творить магию. Джонатан Стрендж решает, что это поприще так же прекрасно годится для джентльмена, как поэзия, наука или помещичье хозяйство. Так в Англии появляется один настоящий волшебник — и его ученик, другой настоящий волшебник.
Всё, что по-настоящему интересует молодого, счастливо женатого мистера Стренджа, — это магия и мнение мистера Норрелла, который бесконечно бесит его своей квадратностью. Единственное, что преображает малодушного и замкнутого мистера Норрелла в творца и ребенка, — это магия и общество мистера Стренджа.
Министры обращаются к ним за помощью в делах. Приемная мистера Норрелла ломится от посетителей. Журналы, посвященные магии, которые он выпускает, разлетаются мгновенно, их читают все, мнение по магическим вопросам считает нужным составить каждый. Молодые леди влюбляются в мистера Стренджа. Мистер Стрендж помогает лорду Веллингтону одержать победу над Наполеоном. Общество сходит с ума. Магия — это увлекательно, таинственно, противоречиво и скандально — словом, невероятно модно.
Но магии в Англии больше, гораздо больше, чем на двух волшебников. И она возвращается.
И есть у нее другая, далеко не респектабельная сторона — двор Потерянной Надежды, где каждую ночь под пронзительно грустную музыку танцуют проклятые, темная, стихийная сила, бесконтрольная сила сумасшествия, сила необратимой сделки с фейри, сила древней клятвы верности, принесенной английскими холмами, реками и деревьями.
И об этой силе, когда до нее дойдет дело, тоже будет рассказано обстоятельно, неторопливо, иронично, с многочисленными развернутыми историческими примечаниями по три страницы и бытовыми подробностями, вплетая магию в область нормального неразделимо. Ну, до поры.
Это история об эдвардианских джентльменах и вечных ценностях — любых, кроме семейных. Это история о любви — о любви к восхитительному неизведанному. Это история о частных взаимоотношениях с мифом. Это история о том, что каждый, кто когда-нибудь мечтал о чудесах, — волшебник. Во всяком случае, если он англичанин.
«...И ведь что это означает — быть юной по годам и вдруг проснуться к муке, к срочности жизни?
Это — услышать, однажды, отзвуки тех, кто следует за нами, кто отстал, это выйти на неверных ногах из джунглей и рухнуть в пропасть».
Это пишет человек четырнадцати лет, девочка из семьи нью-йоркских евреев, Сьюзан Розенблатт, впоследствии — Сонтаг, эссеист, писатель, философ, культовый интеллектуал конца XX века. За срок, который она ведет этот дневник, ей предстоит еще проснуться ко множеству разных мук. К удовольствию от собственного тела, к правде собственных чувств, к замужеству, к рождению сына, к признанию собственной бисексуальности, о которой она, в общем, осведомлена уже сейчас. К поиску истины, к которой нельзя проснуться однажды раз и навсегда, а только снова и снова просыпаться, всякий раз заново переопределяя: 1) процесс поиска; 2) себя саму, которая просыпается. До самой истины дело может успеть, а может не успеть дойти, пока ум бьется в плену у самого себя.
Читая это, я больше думаю о наших отношениях с чужими дневниками. Их, конечно, можно назвать и вуайеризмом, но та же тяга рождает интерес к литературе вообще, только здесь — дистиллированная. Сознание постоянно обращается внутрь себя и фиксирует то, что там находит. Для меня как читателя дневник — единственный, наверно, способ получить доступ к опыту чужого сознания, которое наедине с самим собой и единственно для самого себя фиксирует свои проявления. Смотрит, видит и описывает. Таким образом, понятие "интересности" к содержанию дневника применять можно, но бессмысленно. Что бы там ни было записано автором — оригинальные суждения, списки книг для чтения, напоминания себе о правилах обращения с собой же, препарирование эмоциональной жизни, пересказы разговоров, цепочки имен и отдельные фразы вез видимой логической связи. Опыт причастности к жизни чужого сознания — вот что завораживает.
«Не люблю писателей, которые не замечают странности, вошедшей в современную жизнь с появлением Бомбы».
«Жизнь города: жизнь в комнатах, где человек сидит или лежит. Личное пространство диктуется расположением мебели. Находясь в гостиной, с другим человеком, можно заниматься только одним (если не любовью — что есть удел спальни): сидеть и беседовать. Жизнь в гостиной навязывает нам разговоры и сужает способность к игре и созерцанию».
«Для того, чтобы писать, вы должны позволить себе быть человеком, которым не хотите быть (из всех людей, которые вы есть)»
«Опасайся всего, что произносишь часто».
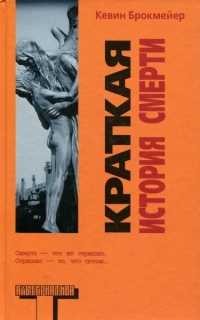
Город, в котором мы оказываемся, совершенно напоминает любой другой обычный город. Со своими, правда, странностями. В нем есть магазины, парковки,таверны, парки, кинотеатры, спортзалы, библиотеки, караоке-бары, собственная газета и много, много, много церквей всех возможных конфессий. Люди здесь точно так же работают, общаются с друзьями и заводят семью. Конечно, семью не удается вырастить — потому что здесь никто не стареет, но можно просто собрать ее вокруг себя. Те, кто впервые сюда попадают, сразу становятся объектом короткого, но интенсивного общественного внимания — жители Города бурно расспрашивают новоприбывших про последние новости из мира живых.
Город абсолютно точно не представляет из себя ни рая, ни, видимо, ада. Это своеобразное Посмертье, обитатели которого продолжают подобие обычной жизни, а потом переходят куда-то еще — или куда-то дальше, или исчезают совсем, мнения расходятся. Достоверно неизвестно. Оттуда, как говорится, никто еще не возвращался. В Городе функционирует правило: человек находится в нем до той поры, пока остается жив хотя бы кто-то, кто помнит его.
Мы встречаем Город в момент перелома: на земле примерно середина XXI века, и население Города вдруг начинает стремительно обновляться, и одновременно — сокращаться. Двое-трое исчезнувших приходится на каждого новичка, и вести эти новички приносят тревожные: на земле свирепствует вирус, который со свистом выкашивает человеческую цивилизацию. Что будет с мертвыми, когда некому станет помнить мертвых?..
P.S. Не могу избавиться от мысли, что интересно было бы почитать о другом посмертном городе в этой же вселенной, городе, где живут великие исторические личности и деятели искусства, которых помнят многие поколения подряд. Вот эти бы, небось, устроили из апокалипсиса.
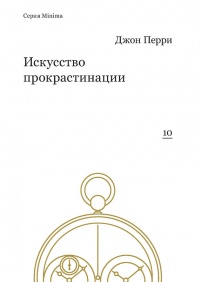
Вот ты, читатель. Вероятно, ты кажешься окружающим человеком дельным и деятельным, а может быть даже очень занятым и успевающим очень много. И ты один знаешь, что все эти дела ты переделал только для того, чтобы избежать одного. Того самого. Которое висит над тобой дамокловым мечом и отравляет тебе жизнь. Уже неделю. Возможно, месяц. В его беспощадном холодном свете все другие твои достижения теряют значение, ты чувствуешь себя никчемным и бесполезным бездельником, головы не поднимая от любой другой работы, сколь угодно сложной. Но именно это дело слишком важное и ответственное, чтобы за него взяться.
С другой стороны, те задачи, которые в списке приоритетных дел на втором месте и ниже, тоже бывают ого-го, да?
В 1930 году Роберт Банчли написал для «Чикаго трибьюн» колонку «Как выполнять запланированное», в которой утверждал: «любой человек способен выполнить любое количество работы при условии, что это не то, что ему необходимо делать в настоящий момент».
Если вы узнали себя в описании, то маленькая обаятельная книжечка "Искусство прокрастинации" — про вас и для вас.
Если человек — разумное животное, то чем, блин, ты думаешь, делая ровно противоположное необходимому? Зачем нам на самом деле список дел, и как его правильно составить, чтобы получить от него как можно больше удовольствия? Почему надо вынырнуть из пучин отчаяния и, включив капельку самообмана, рационализировать свою привычку так, чтобы она приносила пользу? Насколько кому-то действительно нужен совершенный, идеальный результат? (Тот самый, навязчивая фантазия о котором так парализует волю). В чем бывают побочные выгоды прокрастинации? Можно ли найти для этого поведения философские обоснования? Может, годятся нереальность времени и нашего собственного "я"?
Джон Перри, профессор философии в Стэфорде, сам будучи упорядоченным прокрастинатором, явно осмысляет эту привычку не первый год своей жизни, а целью книжки поставил предложить собратьям во грехе слова утешения. Он пишет о предмете нежно и сочувственно — и с той долей иронии, которая заставляет читателя через страницу задаваться вопросом, со сколькими коллегами он поссорился, когда это напечатали.
P.S. "Завтра мне тоже вряд ли захочется этим заняться" — предлагается написать и прилепить на дверцу холодильника. Надо сделать.
Подзаголовок этой книжки "Как нервная деятельность формирует наш внутренний мир" — и хорошо, что он есть, потому что перевод названия может слегка ввести в заблуждение. В оригинале книга британского нейрофизиолога Криса Фрита называется Making up the mind. Автор не собирается рассуждать о душе и сразу сообщает, что он не дуалист. Сознание — полностью продукт деятельности мозга. Об этом-то он и будет говорить: о том, как наше "я" создается мозгом, по каким правилам это происходит так, а не иначе, и зачем. И даже — по каким правилам и зачем у нас создается иллюзия, что мы управляем тем, что делаем.
Да, мы (если под "мы" и "я" понимать сознание) не управляем тем, что делаем.
Мозг воспринимает, обрабатывает информацию и выбирает способ реакции гораздо быстрее, чем мы способны осознать. Известная штука, эксперимент Бенджамина Либета, в котором испытуемых просили поднять палец, "когда возникнет желание", — и изменения в мозговой активности происходили за 300 милисекунд до того, как желание в человеке осознанно "возникало". Мозг считывает показания органов чувств, а на их основе невероятно, захватывающе сложносочиненным образом формирует (и постоянно корректирует) модель мира, совершенно не ставя "нас" в известность. Мозг не только конструирует фантазию об окружающей реальности (а на этом пути возможны удивительные приключения), но и создает у "нас" иллюзию непосредственного восприятия этой реальности.
При этом действия, которые человек совершает сам, обладают для мозга высокой степенью предсказуемости, поэтому он обучает сознание их почти не чувствовать: разве это важно по сравнению с тем, что происходит снаружи? Вот за чем действительно нужно следить, оно может отчебучить что угодно! Человек встраивается в окружающий мир, скрывая это от собственного "я". Благодаря этому "я" уверено, что само создает и осуществляет намерение. А вся невероятная сложная механика, которая стоит за этим, осуществляется помимо сознания.
С другой стороны, хорошая новость в том, что иллюзия контроля создается мозгом намеренно. И совсем не без симпатичных результатов.
Кто же всем управляет? В мозгу не может быть участка, всецело задействованного в управлении другими участками: потому что нет участка, который посылал бы только исходящие сигналы и никаких входящих бы не получал. Это значит, что любое наше действие будет обсуловлено. Значит ли это, что свободы воли у человека нет? Крис Фрит не может ответить на этот вопрос. Но он точно сделает ваше незнание куда более осмысленным.
P.S. А эта книга издана при содействии более не существующего фонда "Династия".
Устроено как в "Декамероне": блистательное общество собирается то ли в замке, то ли в таверне за накрытым столом, и каждый из них жаждет рассказать свою историю. Не известно достоверно, как именно они попали в эту залу заброшенного замка, пристанища для неприкаянных, но абсолютно ясно, что каждый из них до этого долго плутал в черном диком лесу. Господа и дамы хотят поделиться с сотрапезниками, что с ними приключилось, но увы! Каждый из них, попав сюда, сделался в одно мгновение совершенно нем. Как же поведать о пережитом? К счастью, на столе оказывается колода таро. Не имея возможности выразить себя, общество должно пользоваться единственным инструментом в распоряжении: тяжеловесной и сложной символьной системой. Один кто-нибудь выкладывает карты в определенном порядке, все остальные пытаются прочесть, угадать, какую именно историю рассказывает эта последовательность. Ни слова не произносится.
Каждый следующий рассказчик докладывает карты к тем, что уже на столе, и в результате получается мозаика судеб, которую можно читать как угодно: с любого места в любую сторону, по диагонали, конем, как угодно. Являются нам короли, девы-воительницы, доппельгангеры, повешенные, фаусты, мефистофели, парсифали, суккубы и безумцы — все эти истории неуловимо знакомы, хоть всякий раз они и рассказываются чуть-чуть по-другому. В какой-то момент символьная реальность начинает трещать по швам, и в нее просачивается электричество и нефть, небоскребы и стиральный порошок. Мир не существует, заключает Фауст. На дне Грааля — дао, указывает Парсифаль. Путь вечного вопрошания и путь отсутствия вопросов как таковых оказываются одним.
Как же мне найти в этой мозаике сюжетов свой собственный? Если мир — торжество комбинаторики, как автору в мире, пронизанном архетипами, пережить невозможность какого-то личного уникального вклада в ткань истории? Ловушка, в которую мы сами себя загоняем, предполагая, что у словесности, как в "Зигмундовом учениии о снах", есть "некая подоснова, имеющая отношение ко всему человеческому виду, во всяком случае, ко всей цивилизации или по крайней мере к части ее представителей с определенном уровнем дохода".
А как же я?
Ты обречен повторять снова и снова все те же сюжеты. Жди окончательного распада синтаксиса.
На бумаге ты свел концы с концами, но внутри тебя все останется так, как прежде.
*
Все это подобно сновиденью, облеченному в слова, которое, пройдя через того, кто пишет, высвобождается, освобождая пишущего.
*
Сила отшельника измеряется не тем, сколь отдалился он от мира, а тем, сколь малого расстояния ему довольно, чтобы освободиться от города, не теряя его из виду.
*
Там, где не стало профессионального Безумца, психоз уничтожения, прежде находивший в нем отражение и выход сообразно своду ритуальных правил, проникает в речи повелителей и подданных, не способных защититься даже от самих себя.
*
Был человек необходим, стал ни к чему. Теперь, чтобы мир мог получать сведения о самом себе и наслаждаться собой, довольно вычислительных устройств и бабочек.
Раздался выстрел, вопль, майор прибегнул к хватанью себя за ногу и прыжкам на месте. Из ниоткуда возникла увечная бурая псина и впилась ему в седалище. Что за вечное зрелище. Мужчина, тварь и нога, за которую хватаются, — всё прыгает в безупречной гармонии. Великий день для всех ирландцев.
922 год. Северная Ирландия разделяется со Свободным Ирландским государством. Границу рисуют на карте прямо поперек какой-то деревеньки в глуши, до судьбы которой никому из тех, кто следит за движением карандаша, нет ни малейшего дела. В результате этого вдохновенного порыва жители Пакуна обнаруживают себя в нелепой позе: половина их деревни — в одном государстве, половина — в другом. В одном углу паба цены на выпивку ниже, чем в соседнем, и все посетители забиваются туда. Покойника снимают с похорон и бодро несут фотографироваться на визу, потому что кладбище оказалось по ту сторону границы. (И разумеется, визу предстоит еще продлять в порядке, установленном законодательством). И вот разворачивается — точнее, идет вразнос — извечная, гомеровской эпохальности битва аутичной каменнолобой бюрократии и феноменального раздолбайства (не без стратегической поддержки литров и литров виски, огульного разврата, мелочного желания наживы, цирковой пантеры, двухсот восьмидесяти фунтов контрабандного тротила, костюмированного Юлия Цезаря, католического священника, республиканской милиции — одним словом, жизни).
Формально главный герой "Пакуна" — недотыкомка Дэн Миллигэн, тунеядец с кривыми ногами, на кривизну которых он постоянно жалуется Автору ("Я развью их по ходу сюжета", — Автор уклончиво отвечает). Однако главных (чуть менее главных, второплановых и вовсе одноразовых, но оттого не менее выпуклых) персонажей шебуршится (носится, кувыркается и выполняет, по насмешливой воле Автора, разнообразные замысловатые кунштюки) по страницам повести столько, что становится понятно: главный герой — сам Великий Ирландский Народ. Алкоголики, неудачники, проходимцы с широкой, как вид с утесов Мохер, душой. (Ну да, что-то такое родное отзывается.)
Сцены разухабистого гротеска и упоительной буффонады так и просятся в постановку. Немудрено, это же Спайк-у-меня-есть-блистательный-комедийно-драматургический-талант-и-я-не-боюсь-им-воспользоваться-Миллигэн создал и почти десять лет писал The Goon Show — знаковую юмористическую радиопередачу на Би-Би-Си. "Пакун" — его единственная приличного размера повесть.
"Пакун" это такой верстовой столб, отчетливо знаменующий, что вот отсюда и дальше, после того, как были Джойс, Беккет и Флэнн О'Брайен, юмор, создаваемый в Ирландии, да и вообще создаваемый на английском, да и вообще любой юмор — никогда не будет прежним.
Мы, тем временем, в "Додо", собираемся издать эту книжку впервые на здешних территориях — да, да, по-русски вам ее пока негде прочитать. Извините. Но будет, если мы соберем на издание. Подписаться на книжку — самый верный способ обеспечить себе эту счастливую (до визга) возможность, рекомендую.
Дорогая прославленная мама,
Я приочень рад пользоваться
преимуществом бытия твоим сыном и надеюсь что это продолжится в том же
качественном ключе. Было большим удавлетворением находиться в твоем
обществе все эти безупречные 15 лет. Любой 15-летний из мне знакомых
убил бы за то чтобы у него была такая мама и поэтому я стараюсь
упиваться каждым мгновением что мы проводим вместе. Ты всегда была мне
вдохновением как мама и как остроумная увлеченная харизматичная богиня.
Ты интеллектуальный титан и я от тебя бизума. Я считаю что в тебе очень
много фасона практически во всем. Ты вынашиваешь модную одежду и в ней
смотришься примерно на 30. В моих глазах у тебя исключительное
телосложение и шикарная цветастая и экстравагантная личность. Ты моя
избранная женщина из всех какие топчут землю и я думаю что ты творческий
самовыраженные и искусный гений. Ты потрясная.
От твоего остроумного и временами захватывающего сына Мерлина с любовью.
Когда Люси назвала своего сына Мерлином, она хотела, чтобы у него было что-то, что отделяло бы его от остальных — обычных — людей, что подчеркнуло бы его исключительность. Как оказалось, в специальных мерах не было необходимости: у мальчика выявили синдром Аспергера, и это навсегда, навсегда отделит его ото всего нормального мира. С этого момента только Люси и Мерлин против всех — отцу и его ханжеской семейке снобов не нужен неправильный ребенок, потенциальные женихи соревнуются только, кто быстрее скроется в закате, столкнувшись с умопомрачительно неуместной откровенностью Мерлина, одноклассники макают его головой в унитаз, в школе намекают, что ему, возможно, там вообще не место, и вокруг бессчетное количество бытовых и социальных трудностей и горестей, с которыми сталкивается мать, в одиночку растящая сына-аутиста, — с хорошей перспективой остаться при нем в няньках навечно, только она и Мальчик-с-другой-планеты-а-можно-инструкцию-по-применению-пожалуйста-в-фабричной-коробке-не-было.
По моему описанию и не скажешь, но это очень смешная книжка. Очень. Смешная. У Кэти Летт на редкость легкое перо, и под ним все драматические события, тяжкие неурядицы и душераздирающие приключения мамы маленького инопланетянина так искрят, что вы будете смеяться в голос в общественном транспорте. Если вы чувствуете, что самое время глотнуть противоядия от жалости к себе, или просто по удовольствию от живого текста соскучились — оно вот. А заодно здесь — прививка от ожиданий по отношению к окружающим, какое бы клеймо на них ни стояло, то или иное. Яркое художественное напоминание о том, как сложно разрешить кому-то просто быть. У нас всегда найдется тысяча аргументов, чтобы этого не делать, но правда в том, что для этого необходимо совершить сознательное волевое усилие: раскрыть глаза, увидеть человека во всей его полноте, не оценивая его, и разрешить ему быть другим. От этого — полшага до того, чтобы разрешить то же самое самому себе.
— Ты хочешь, чтобы Мерлин был нормальным, — а в чем она, норма эта, блин? Ты нормальная? А я? — Арчи задорно оглядел меня и, к моему изумлению, заржал мне прямо в лицо. — Ненормально быть нормальным. Все зашибись какие нормальные, покуда ближе не познакомишься.
«Но я же говорю, не знаю, как мне досталось это Сатори, а сделать тут можно только одно — начать сначала и, может, я найду прямо в поворотной точке истории и отправлюсь радоваться до самого ее конца, сказки, рассказываемой ни по какой иной причине, а только за компанию, что есть иное (и мое любимое) определение литературы, сказки, которую рассказывают за компанию и дабы научить чему нибудь из религии, либо религиозному почтению, о подлинной жизни, в этом подлинном мире, который литература должна (и здесь так и делает) отображать».
***
«Книжка эта скажет, по сути, пожалейте всех нас и не злитесь на меня за то, что я все это написал».
Всем известно, что цель настоящего путешествия — в самом путешествии. Мы это помним, побывав с Керуаком «На дороге», мы помним угар и грохот раздолбанных тачек, и желтую дорожную пыль, и бесконечных хорошеньких девушек, и мексиканские ночи. Это путешествие — другое путешествие. У него даже есть формальная цель — Керуак (урожденный Жан-Луи Лебри де Керуак, по его собственному утверждению) едет разведывать историю своей фамилии, свои французские семейные корни.
Не очень много места в книжке этому уделено, надо признать. Жан-Луи Керуак не буддист, но католик, каковой была его мать, — Жан-Луи Керуак не ищет просветления намеренно, ты не можешь так, это против правил и верный способ ничерта не обрести, как, опять-таки, хорошо известно. Le roi Kerouac — король бесцельных странствий, и это по сути одно из них.
И вот где-нибудь там в глуши, в Бретани, опоздав на поезд на приводящие в ярость три минуты, сидя на чемодане в ожидании следующего и уже так основательно набравшись коньяку, что опасаешься заснуть в кустах, —
Или в одном из неудачных походов по строгим библиотекам, или в где-то пьяных шатаниях по черным улицам лютой Лютеции —
Или читая плохое сюрреалистское стихотворение какого-то незнакомого юного французского бармена —
Или выскакивая из такси в три часа ночи рядом с Монпарнасом, в дурацком желании обнаружить там могилу Бальзака, —
Или в одном из бесчисленных вдохновенных трепов на живейшем, хотя и несколько исковерканном французском, со случайным стеснительным священником-попутчиком в поезде, арабской девчонкой на свидании, почтенным хозяином бретонской гостиницы, богатым ресторатором-однофамильцем, таксистом по имени Реймон Байе —
Где-то посреди всего этого случится, может быть, опыт постижения истинной сути человеческой природы, но его не унесешь с собой — и даже не вспомнишь, где и когда именно он посетил тебя. Или так и не было его.
...каждому почтовому работнику предоставляется особая возможность и ответственность действовать с честью и достоинством, заслуживающими общественного доверия, что отражает ценность и заслуги Почтовой Службы и всего Федерального Правительства.
(Раздел 742 Почтовой Инструкции)
Историю своей жизни можно написать по-разному. Большой соблазн, сев за перо (пишмашинку, ноутбук) вытащить на свет ключевые моменты личной истории, и, превратив их в факт литературы, взять читателя с собой, провести теми же кругами, сделать каждого сопричастным своему опыту. Соблазн другого рода — это писательская интуиция как таковая. То чувство, которое прозрит в рядовых, рутинных, дурацких событиях не самой выдающейся вроде биографии задел для хорошей истории. Самое верное чувство, которое в любое время дня и ночи дергает автора за штаны, а у автора штаны, может, спущены, мало ли, какие бывают ситуации, и громко шепчет с присвистом, погляди, автор, ну чистая трагикомедия, вершина жанра!
И автор думает: н-да, хорошо, если я сейчас отсюда выберусь, но какую байку я из этого сделаю!
И вот сидит, предположим, перед вами немолодой циничный алкоголик и бабник, смолит и травит, травит эти идиотские истории одну за другой, они все примерно похожи, он там трахается и бухает, убивается на нечеловеческой почтовой службе, влезает в дебильные или неприличные истории, потом снова трахается и бухает, но честное слово, все это великолепие организовано с таким безупречным поэтическим чувством, с таким стилем, иронией, мерой, вниманием к детали, что слушатели только подливают в восхищении своей облезлой шахразаде, только бы не прерывал дозволенные речи, потому что такой в них оголтелый жизненный пульс, что сотрясается весь кабак.
Среди размышлений об обусловленной природе человечества есть одно, которое я очень люблю.
Это повесть о приходе нового Мессии, нового пророка любви, который появляется, чтобы научить людей видеть мир по-другому.
В XX веке таким пророком неизбежно оказывается марсианин.
Точнее, как. Валентин Майкл Смит — человек. Но Валентин Майкл Смит — первый человек, родившийся на Марсе, и, в силу обстоятельств, выросший как марсианин среди марсиан. Попадая обратно на "родную" Землю, он немедленно оказывается в распоряжении правительственных структур, — все боятся его, никто не знает, как с ним разговаривать, его держат строго засекречено в больнице на наркотических препаратах. Дело тут еще в том, что Валентин Майкл Смит, единственный человек, проживший на Марсе всю свою сознательную жизнь, по земному закону является единоличным хозяином этой планеты. В качестве колонизатора.
Ситуация осложняется тем, что на Марсе живут разумные марсиане, и технически их, конечно, никто не завоевывал.
Ситуация осложняется тем, что Валентин Майкл Смит, благодаря тому, что сознание его организовано, как у марсианина, обладает совершенно невероятными сверхспособностями: высочайшим уровнем контроля над своими внутренними физическими процессами, например.
Ситуация осложняется тем, что Валентин Майкл Смит принципиально не понимает концепта власти, не понимает, как у планеты может быть хозяин. В понятийном аппарате марсианского языка этих вещей попросту нет — как нет понятий пола, секса (марсиане размножаются по-другому), смеха, денег, религии (самым близким, хотя и все еще далеко не точным, переводом воззрений марсиан на этот счет будет утверждение "Ты Есть Бог", обращенное ко всем и каждому). Все это ему предстоит научиться различать, чтобы жить среди людей и чтобы попробовать научить их новому языку. Язык — это не просто слова, конечно, это ткань и архитектура того, как мы мыслим мир. В марсианском жизнь — это единство и гармония; познавать, понимать, любить и быть одним и тем же — единый глагол, который называется "грок" (буквально означает "пить"); люди с возрастом становятся только красивее, и не существует стыда. Если перестроить свое сознание так означает — уйти дальше от человеческого, то точно ли все в нашей культуре мы так уж хотим взять с собой?
И это, странным образом, становится величайшим гуманистическим заявлением.
Хайнлайну многие предъявляют, что, придумав идеальную модель нового сознания, он сам не замечает в собственном языке, например, сексизма и объективации. Мне странным образом кажется, что даже это само по себе только подтверждает то, что автор пытался сказать нам.
Чем больше узнаешь об отношениях людей со своим телом и с другими людьми, тем ярче понимаешь: понятие нормальности — это конструкт, существующий для того, чтобы делать нашу жизнь насквозь несчастной, пока мы подростки, и ненароком отравлять тихие вечера взрослым.
У тебя всё не как у людей. У людей всё нормально. У нормальных людей нормально всё. Они не совершают странных поступков. Они не испытывают странных чувств. У них не бывает странных мыслей. Таких, знаете, не в шутку, на самом деле странных, от которых всем, кто об этом узнаёт, становится, как минимум, неловко и неуютно. (Никто никогда не узнает.) Есть набор определенных образов, которым они соответствуют, все, все более или менее соответствуют. Все, кроме тебя.
Если твоя отчужденность чувством собственной беспрецедентной неправильности позволит тебе завести близких друзей (а им, в свою очередь, их — завести тебя), ты узнаешь, что нормальность в привычном консенсусном понимании — скорее, редкое исключение. Ты удивишься, сколько людей живут, скрывая что-то втайне, что-то неловкое и постыдное.
Таковы герои рассказов Миранды: странненькие. Это как целая толпа близких друзей, которые бы вдруг поверили тебе свои неловкие, дурацкие, болезненные секреты. И ты вдруг оказываешься посреди целого сияющего спектра видов человеческой неправильности, просто один из этих фриков, свихнутых, недоделанных — один из рода людей, и ты вдруг можешь почувствовать себя в нем своим.

С тем, чтобы рекомендовать эту книжку к чтению, сразу куча сложностей. Во-первых, она, конечно же, жуткая. А во-вторых, про нее толком не расскажешь, не сдав в самом начале всю интригу. С другой стороны, мне-то кажется, что здесь читателю никакие спойлеры не помогут. Если не одумался после всего рассказанного и все же прочел повесть, то этот опыт обратно не разыспытает.
Все, кто не любит спойлеры, имеют шанс прекратить читать этот текст прямо сейчас.
Вы еще здесь? Ну что ж.
Борис Виан — переводчик "Я приду плюнуть на ваши могилы" с английского на французский. В предисловии Виан на голубом глазу анализирует текст повести, находя в нем определенное сходство, например, с Миллером (но и различия). Так что кое-что об авторе, начиная читать, мы все же знаем, а главный герой до известной степени автобиографичен. Настоящего автора зовут Вернон Салливан, он афроамериканец, родившийся "белым", без признаков негроидной расы, и в Америке он не мог издать свою книгу, потому что опасался линчевания. Верите? А вот Жан-Поль Сартр до последнего не сомневался. Роман издали, и поднялся величайший хай — до сжигания тиражей и заявлений в суд.
Действие происходит в 40-х. Никто не знает Ли в Бактоне, маленьком американском городке. Ли устраивается работать в книжный магазин, а досуги проводит, сближаясь с местной компанией подростков — ну, с совершенно определенными интенциями. Но это всё ладно бы. Что-то гложет Ли изнутри. У него есть цель почище легкомысленных полиамурных развлечений с не так давно созревшими девочками, цель, о которой мы ничего не знаем. И в целом, с Ли что-то глубоко не так. Например, его голос. Его голос слишком глубокий и странным образом сам по себе звучит как музыка. Музыка, которая ведет нас к кровавой и мрачной развязке.
Словом, все здесь извращено с самого начала: черный, который был бы, разумеется, выкинут из белого сообщества, не будь он по внешним признакам вылитый белый, носит в груди свою сломанность и одновременно план больной и изощенной мести белому сообществу, которое в это время принимает его за одного из своих.
Однако это не написано ради социальной идеи как таковой. Это не написано ради абсурдного натуралистического мрачняка как такового. Это написано ради эксцентрической музыки, какая получается из диалога всех инструментов. Виан — это французский голос джаза, не только переносном смысле, он же действительно был джазовым музыкантом, одиозным принцем знаменитых сен-жерменских подвальных джазовых клубов в 40—50-х. И в литературе он тоже звучит голосом (современного ему) джаза. Можно буквально почувствовать не только весь этот же самый контекст, отношение, корни, причудливое сопряжение эстетик и идей, но безумный бит.
Вдобавок это та самая книга, которую экранизировали так мучительно, что на премьере у Виана навсегда остановилось сердце (ему было 39 лет).
Этот эфир посвящаю, во-первых, минувшему 16 июня Дню Блума, а во-вторых, выходу в печати книги «"Улисс" в русском зеркале» С.С. Хоружего, переведшего для нас, счастливых русских читателей, "Улисса" (и "Портрет художника в юности", и "Дублинцев") и подарившего великолепный комментарий к роману. Цитаты из его комментария неизбежно будут сопровождать и этот текст тоже.
Вкратце предыстория такова. Пару лет назад я решила, что пора собраться с силами и прочитать величайший, самый сложный и т.д. роман XX века — "Улисса". И подумала, что имеет смысл это делать в Дублине, заодно гуляя по маршрутам, которыми гуляли герои — Стивен Дедал и Леопольд Блум. Это была блестящая мысль, как я немедленно поняла, приехав в город.
В Дублине мертвые классики — совсем не такие уж мертвые, и уж во всяком случае не Джойс.
Немудрено: Джеймс Джойс говорил, что, если Дублин будет когда-нибудь разрушен, то по "Улиссу" можно будет восстановить его до последнего кирпичика. Город в этом романе действительно не просто место действия, а практически самостоятельный персонаж.
Вообще говоря, "Улисс" — величайший памятник одному дню. Именно 16 июня 1904 года, когда Джеймс Джойс и его будущая жена Нора Барнакл первый раз пошли на свидание, писатель впоследствии назначил датой, в которую персонаж "Улисса" Леопольд Блум выходит из дома и отправляется в свою великую одиссею. Дублин этого дня воспроизведен в романе до немыслимых мелочей,местами документально, до вывесок и заголовков газет, притом, что Джойс, когда писал "Улисса" (между 1914 и 1921 годами), жил уже вовсе не там, а, по очереди, в Триесте, Цюрихе и Париже. Город он восстанавливал по справочнику "Весь Дублин за 1904 год" и экземпляру дублинской газеты "Ивнинг телеграф" за 16 июня 1904 года, четверг, ценою полпенни.
Теперь "Улиссом" можно смело пользоваться в качестве путеводителя по городу: особенно если вы желали бы случайно свернуть и оказаться в Дублине-столетием-раньше. Вот несколько мест, связанных с Джойсом и с романом, куда совершенно точно необходимо догулять, — в картинках.
(И не обращайте внимания на додо. Я брала его с собой путешествовать.)
Единственный персонаж, который умывается
Сановитый, жирный Бык Маллиган возник из лестничного проема, неся в руках чашку с пеной, на которой накрест лежали зеркальце и бритва. Желтый халат его, враспояску, слегка вздымался за ним на мягком утреннем ветерке. Он поднял чашку перед собою и возгласил: — Introibo ad altare Dei [и подойду к жертвеннику Божию (лат.)].
Начну с башни Мартелло, потому что сам Джойс начинает с башни Мартелло. Это — место действия самой первой сцены «Улисса». Одна из сторожевых башен, выстроенных по побережью Ирландии во время наполеоновских войн. Трое молодых людей, Стивен Дедал, Бык Маллиган и англичанин Хейнс снимают снимают башню под жилье. Так оно и было на самом деле — юношами были сам Джеймс Джойс, его заклятый приятель Оливер Сент-Джон Гогарти и Сэмюэл Тренч... Но пара жизненных деталей здесь и там претерпели намеренные изменения. Например, как рассказывает в комментарии к «Улиссу» С.С. Хоружий:
Образ Маллигана в романе — откровенная и жестокая месть бывшему другу, притом едва ли заслуженная. Гогарти был циничен, бесцеремонен, любил грубые насмешки, возможно, что и завидовал дарованиям Джойса, однако предателем и интриганом он не был. Человек большой личной храбрости, небесталанный поэт, знаток античной литературы, он стал со временем заметным и уважаемым лицом в Ирландии (членом Сената в 1922-1934 гг.) и написал несколько книг, читаемых по сей день.
...Конкретно же, в сентябре (а не июне) 1904 г. Джойс оказался без угла и без средств (кров родителей он оставил еще раньше), и Гогарти дал ему пищу и приют в башне, которую он нанимал (в романе платит за аренду Стивен). Отношения их, хотя и дружеские, не были гладки; оба были молоды, заносчивы и строптивы. В ночь на 12 сентября Тренч во время своего кошмара выпалил из револьвера, после чего успокоился и заснул. Когда же кошмар вскоре повторился, палить из револьвера начал ради забавы Гогарти, избрав мишенью полку с кухонной утварью над койкой Джойса. Последний, найдя это личным выпадом, испуганный и оскорбленный, тотчас оделся и ушел. С тех пор он твердо считал Гогарти предателем и врагом. Решение о литературной расплате родилось тут же.
Гогарти, впрочем, публично провозглашал, что считает свое появление в романе комплиментарным: он, дескать, там единственный, кто вообще моется, бреется и купается.
Башня стоит на морском побережье в Сэндикоуве — пригороде Дублина, до которого от центра города на электричке можно доехать за 20 минут, и раньше там была мужская купальня (после одной феминистической акции 70-х открытая и для женщин, и для детей).
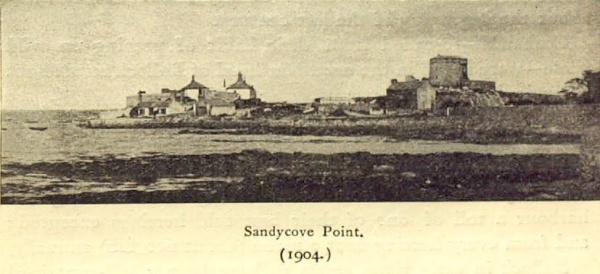
Башня теперь называется башней Джеймса Джойса — в 1954 ее купил архитектор Майкл Скотт, и открыл небольшой музейчик, который обитает там по сию пору, работает на волонтерском энтузиазме, доступен для посещения в летнее время. В открытии участвовала Сильвия Бич — если вы не знаете это имя, запомните его.

Это основательница легендарного парижского книжного "Шекспир и компания", бывшего при ней центром англо-американской литературной культуры и модернизма: там кучу времени проводили Эзра Паунд, Эрнест Хэмингуэй, Скотт Фицджеральд, Гертруда Стайн и т.д. Именно Сильвия Бич в 1922 г. впервые издала "Улисса". До этого роман печатался, по мере написания, в американском "Little Review", но после публикации эпизода "Навсикая" Нью-йоркское общество по искоренению порока возбудило против журнала дело по обвинению в порнографии — и выиграло.
"Худшая аптека в городе!"
Так гласит девиз аптеки "Суиниз". Неудивительно, если учесть, что они торгуют: букинистическими книжками, разными изданиями Джойса, винтажными украшениями и шляпками. Ну и, конечно, лимонным мылом. Куда же без лимонного мыла, если именно оно и прославило "Суиниз"?
Блум. Я все время хотел вернуться за этим лосьоном, воск с
померанцевым цветом. В четверг рано закрывается. Я завтра с утра, первым
делом. (Хлопает себя по карманам.) Эта блуждающая почка. А!
Он показывает на юг, потом на восток. Восходит новенький, чистенький кусок лимонного мыла, источая свет и душистость.
Мыло.
Я и Блум, мы всех важней, всякий видит сам:
Придает он блеск земле, я же — небесам.
В диске солнцемыла появляется веснушчатая физиономия аптекаря Свени.
Свени. Три и пенни, будьте любезны.
Блум. Да-да. Это для моей супруги, миссис Мэрион. По особому рецепту.
Каждый божий день в специально отведенные часы в "Суиниз" собираются и читают вслух разные тексты Джойса.
Улица Джеймса Джойса
Улица Джеймса Джойса выглядит совершенно непримечательно и скучно — высокие новые дома, посреди которых какая-то милая дама посоветовала мне не светить так уж фотоаппаратом. До того, как здесь все посносили и отстроили обыденные улочки, тут был самый большой квартал красных фонарей в Европе, где, по преданию, потерял невинность будущий король Великобритании Эдвард VII, и где, разумеется, происходит действие самого сюрреалистичного эпизода "Улисса" — "Цирцея". Стивен Дедал и Леопольд Блум посещают бордель — квартал тогда назывался "Монто", и сам Джойс знал его преотлично.
Одиссея любви
В двух шагах от "Суиниз" — отель "Финнз", где работала горничной Нора Барнакл.

Пройдя одну улицу (примерно следуя маршрутом Норы и Джеймса на их первом свидании) вы окажетесь на Мэррион-сквер — квадратной площади, где, в доме номер один, родился Оскар Уайльд. Это угловой дом, напротив которого в парке теперь стоит вальяжная скульптура великого остроумца.
История одной двери
Хоружий: ...Жилье Блума, дом 7 по Экклс-стрит, это дом Джона Берна, близкого друга студенческих лет, одного из героев «Портрета художника». В первый из трех своих кратких приездов на родину, в сентябре 1909 г., Джойс провел с Берном прощальный вечер. Друзья предприняли долгую прогулку по городу, взвесились на уличных весах и, вернувшись позднею ночью к дому Берна, обнаружили, что хозяин позабыл ключ. Берн перебрался через ограду, вошел в дом через заднюю дверь и впустил ожидавшего на улице Джойса. Эту сцену художник решил воскресить в романе с абсолютною точностью. Он дал Блуму рост и вес Берна; затем усомнился, может ли его герой, не столь спортивный, как Берн, проделать нужное упражнение, и уже в последние дни работы спешно писал в Дублин с просьбой проверить, может ли человек среднего физического развития перелезть через ограду дома 7 по Экклс-стрит и спрыгнуть внутрь невредимо.

Дом Блума больше не существует. В 60-х его снесли вместе с соседними, чтобы построить там больницу. Но! Поэт Патрик Кэвэна, писатель Флэнн О'Брайен и Джон Райан, хозяин литературного паба "Бэйли", умудрились спасти входную дверь! Для этого им пришлось даже заплатить монашкам, которые владели зданием в тот момент — и чуть было не сорвали сделку, узнав, что дверь спасается в память этого "языческого писателя". Тридцать лет дверь дома Блума жила в "Бэйли" на Дьюк-стрит, а сейчас перекочевала в Центр Джеймса Джойса.
Та же самая прекрасная компания несколькими годами ранее (1954 г., "Улиссу" — полвека), вместе с писателем Энтони Крониным и кузеном Джеймса Джойса Томом Джойсом, — и учредила ныне всемирно известный дублинский джойсианский карнавал, День Блума, когда все наряжаются в персонажей "Улисса" и читают вслух Джойса на всех углах. То есть как, учредила. Вот здесь можно посмотреть короткий видеоролик, снятый Райаном, и почитать (по-английски), как у них всё прошло в самый первый Bloomsday: распределили роли из романа, малоудачно попытались забраться на башню Мартелло, наняли два кэба, по дороге из Сэндикоува читали Джойса вслух и распевали любимого им Тома Мура, а закончили (довольно быстро), разумеется, в пабе "Бэйли".
Если вы только приехали в Дублин и думаете, с чего начать, идите сначала прямиком в Центр Джойса: там можно сразу добыть красивые карты, с которыми имеет смысл перемещаться по городу по следам Леопольда Блума. В них помечены все адреса и локации, с указанием эпизодов "Улисса", которые происходили там-то и там-то (Джойс вымарал все названия глав, соответствующие "Одиссее", готовя рукопись к изданию, но для удобства на них обычно все равно ссылаются). Если очень постараться, маршрут Блума действительно можно пройти за один день. И не забудьте пабы!
«Некоторые верят, — говорит Мохеб Констанди во введении к книге, — что понимание работы мозга даст нам ответы на главные вопросы жизни».
Так, думаешь, я чувствую подвох.
«Нет, не даст, — и точно, — исследование мозга не объяснит нам досконально ни кто мы есть, ни что это значит — быть человеком».
Отчитав нас таким образом, Констанди в 50 (как можно догадаться) сжатых и лаконичных главах рассказывает, как устроена человеческая голова. Может, ответы на главные вопросы жизни, вселенной и всего такого мы от нейробиологии в ближайшее время и не получим, но все-таки невозможно жить по-прежнему, зная, как функционирует человеческий мозг. Здесь — краткий содержательный конспект работы ученых на эту тему за последний век. Кто мы есть, значит, что такое быть человеком. Взгляд на этот вопрос с новыми исследованиями мозга изменяется непоправимо. Мы определяемся тем, как мы усторены. Невозможно представить современное самосознание без контекста нейробиологических данных.
Что физически происходит, когда мы думаем, что принимаем решение: импульс к движению проходит раньше, чем мы осознанно повелеваем себе встать; что происходит, когда мы думаем, что вспоминаем прошлое; как мы воспринимаем собственное тело, как мы видим, как мы воспринимаем речь... «50 идей» — это такой очень дельный вводный курс основных актуальных представлений о функционировании мозга. Эта книжка будет полезным подспорьем, если вы довольно смутно представляете, что именно там творится, и хотите разобраться; она великолепно годится, чтобы задать себе рамку и разложить всё по полочкам. Если отправляетесь в путешествие по миру научно-популярной литературы на эту тему и хотите с чего-то начать, чтобы потом не путаться в основополагающих понятиях, можно начать с нее. Синапс и зеркальные нейроны, нейропластичность и реконсолидация памяти, ритмы мозга и нейроэтика. 50 ощупываний слона «Что такое человек» с разных затейливых сторон.
Каждый раз, возвращаясь мыслями к этой книжке, я поражаюсь тому, каким она обладает демиургическим зарядом, какой силой мифа. Вокруг нее мгновенно начало вспыхивать и раскручиваться огромное количество частных, зачастую очень закрытых читательских миров — игровых и фанатских, вызванных к жизни той историей, что была рассказана в «Доме...». Почему, думаешь, именно так, именно с этой книгой, именно сейчас.
«Помните, я говорила, что я себе оставила дверь? — рассказывала Мариам на одной из читательских встреч. — Ну вот это она и есть. Там, где описывается мальчик, который приходит в Дом в первый раз, это не совсем Кузнечик. Это другое, параллельное описание той же ситуации в другом Доме. То есть это означает, что я могла бы написать это все заново — немножко по-другому».
С дверьми так часто бывает, ага, не закрыл дверь — будь готов, что ты не единственный, кто захочет ей воспользоваться. Калитка в пространство между мирами приоткрыта, из нее сквозит. Параллельные миры немедленно начали возникать в головах читателей и повествовать сами себя. На мой взгляд, это примерно идеальный способ взаимодействия с пространством мифа — точнее, яркий маркер, что мы здесь встречаемся именно с ним. История, которая начинает пересказывать себя сначала, снова и снова.
Чтобы создать такое пространство, понадобилось его изолировать и замкнуть само на себе. Чтобы игра выросла в миф, потребно закрытое сообщество. Дом — это перекресток между реальностью, Наружностью, и Изнанкой — миром более высокого опыта, который не предназначен для человеческой системы восприятия, и плохо, приблизительно (преуменьшение вечера) описывается человеческими языками — хотя художники и пророки время от времени пытаются.
Но, кроме психологического и художественного смысла изоляции, вдруг мне видится еще одно измерение. В этом месте Дом неожиданно сопрягается с «Историей безумия» Мишеля Фуко — это изгойские выселки, гетто для тех, от кого общественное сознание считает в каком-то смысле угрожающим Разуму, тех, кто находится в пограничном состоянии того или иного толка, тех, кто имеет доступ к грозному и сокрытому знанию, тех, кто хранит ключи от границы, за которой человеческое понимание кончается. Это великая искушающая тайна, и потому их необходимо исключить, маргинализировать, изгнать, спрятать, забыть, и дом призрения — один из проверенных способов.
Дом — своеобразный корабль дураков. В бесконечном паломничестве он плывет к другой стороне.
У Иды, Марка, Джереми и Лу Смит-Томпсонов появился друг. И вовсе даже никакой не воображаемый, хотя и очень волшебный, совершенно настоящий друг. Его зовут Мартин.
Извините за чуточку прямолинейное начало, но Мартин — слон. Даром, что очень маленький слон — размером примерно с кошку. Обычно. Когда не слишком волнуется. И сначала его имя было никакой не "Мартин", а "Пробирка_7". Все это не так удивительно, учитывая, что Мартин появился на свет в лаборатории клонирования в Индии. Там работают родители Иды, Марка, Джереми и Лу Смит-Томпсонов, которые решили сделать детям подарок и прислали в коробке слона. Маленького. И да, говорящего.
Время от времени даже поющего блатные романсы и играющего на волынке.
Родители Иды, Марка, Джереми и Лу Смит-Томпсонов вообще были люди со странностями.
А Мартин был слон со странностями. Он был очень умный и добрый, совсем немножко капризный и почти ничуть не мнительный, невероятно обаятельный, а главное, совершенно взрослый слон, хотя и очень маленького размера, который любил свое белое одеяло с зелеными звездами; намазывать варенье хоботом; детей, с которыми жил; и, как уже говорилось, играть на волынке. И совсем, совсем по-другому Мартин любил соседскую девочку Дину. Но он был взрослый слон (хотя и очень небольшой!) а она маленькая девочка, что у них могло получиться? Но любовь о таких вещах никогда не заботится.
— Сразу как-то полегчало.
— Почему?
— Ну, я думал, будет что похуже…
— Хуже, чем испепеляющая агония любви?
(диалог отчима с маленьким мальчиком, Love Actually, Ричард Кёртис)
В этой прекрасной детской книжке есть все, что нужно прекрасной детской книжке: превращение неприятных девчонок в тарелку манной каши, восстановление справедливости по отношению к необычным привидениям, запуск кошки в космос и море других замечательных приключений.
В этой прекрасной взрослой книжке есть тонна шуток, которые уловят только взрослые, и одна история любви, совершенно неотступно по-честному рассказанная для взрослого сердца. Так, наверное, только и стоит рассказывать истории любви.
Знаете, как бывает, читаешь чью-нибудь документальную биографию, и вдруг автор дает описание, к примеру, солнечного дня, посреди которого условный писатель, или, может быть, музыкант Н. широкими шагами почти бежал по тротуару, скажем, Вены, и на душе у него было неспокойно. Он думал... Так. (Думаешь в этом месте уже ты.) Ох. Лучше бы вы, автор, художественную книжку написали, что ли, раз так.
О том, что их застенчивый младший сын Сергей — гомосексуал, семья Набоковых узнала, когда ему было 15 лет, и старший брат Володя дал почитать домашнему учителю страничку из его дневника. Мальчики выросли, судьба развела их в разные стороны, Владимир очень долго не поддерживал с братом никаких отношений — или очень холодные. Живя совершенно частную жизнь, работая переводчиком, Сергей, по воспоминаниям о нем, был человеком большого внутреннего света и обаяния — его все любили. В Париже он дружил с Кокто, Пикассо, Сергеем Дягилевым и Гертрудой Стайн, потом вернулся в Берлин — и погиб в 1945 году в концлагере Нойенгамме.
...Так именно и поступил в данном случае Пол Расселл, решив написать о Сергее, — честно сделал художественную книжку. Как ученый и специалист по творчеству Владимира Набокова, он при этом, конечно, все равно перелопатил кучу воспоминаний и переписки. Из всего этого на живую нитку любви к историческому лицу соткался обаятельный роман, любовный и аккуратный, который к подлинной действительности (чем бы оно ни было) имеет отношение невероятно опосредованное, но в этом совершенно равен самому себе.
Еще одна красивая черта "Недоподлинной жизни", которая касается исключительно русского издания: мы читаем этот текст в переводе Сергея Борисовича Ильина; он же переводил для нас англоязычную прозу Владимира Набокова.

Агата — удивительная девочка.
Папа Агаты и ее (на момент действия книжки еще не случившегося) брата Андрея, Сергей Петровский — автор книги «Устное народное творчество обитателей сектора М1». Это сборник фольклора, который он записывает, находясь в аду. Он очень любит и надеется больше никогда не увидеть своих детей, но это уже другая история.
Семья Петровских проживает в Тухачевске — городе, находящемся на месте Санкт-Петербурга в отсуствие Санкт-Петербурга. Год основания — 1947. Население — 980,000 чел. Градообразующее предприятие — ООО «Тухачевский опытный водорослевый комбинат», но это уже другая история.
Дядя Агаты Яков Петровский до своего бегства из СССР был прихожанином «Бумажного храма» — диссидентской церкви, существовавшей в квартире Сергея Квадратова (о. Сергия), подпольного прихода для христиан из числа тухачевской интеллигенции. Квартира была наполнена своеобразной религиозной живописью, которая выдавалась за детские рисунки, а в случае обыска бумажный алтарь и царские врата можно было свернуть и спрятать. Изображения и объекты частично сохранились, но это уже другая история.
Весь этот тревожно-завораживающий метатекст, который Линор Горалик потихоньку ткет от одной работы к другой, не имеет собственного отношения в книжке «Агата возвращается домой». Это детская книжка, хорошая детская книжка. И хотя Агата все же — удивительная девочка, когда она случайно похищает чертенка, она ведет себя как очень нормальный ребенок, по всем правилам выбранного жанра. И когда Дьявол является к ней, чтобы выручить своего сына, он может подарить ей все, что угодно. А главное: то приятное, счастливое чувство, что Агата — очень, очень хорошая и умная девочка, и что все те истории, которые она обычно не любит вспоминать, потому что поступала в них так себе, а вообще-то Агата очень старается быть хорошей, — что во всех тех историях она тоже хорошая. Умная, ловкая, смелая. Но это великолепное, такое желанное чувство длится только до тех пор, пока Агата играет с Дьяволом в ладоши, в его стеклянном лесу. Когда игра кончается, становится очень пусто и больно. Может, не останавливаться.
Но Агата правда — удивительная девочка, а это — хорошая детская книжка, поэтому Агата, конечно, возвращается домой.
Вы, должно быть, помните нашего старого знакомого — достопочтенного Кармана, шута при дворе короля Лира, пройдоху с обаятельными бубенцами? Если не помните, срочно переставайте читать этот текст и начинайте читать "Дурака" Кристофера Мура.
Всё, остались только те, кто помнит?
А, вы прочли и вернулись за добавкой?
Восхитительно.
Добро пожаловать в условную Венецию! Мы рады снова встретить нашего дурака! Сенатор Брабанцио, отец прекрасной Порции, как раз замуровывает его, голого, в подземелье, которое вот-вот затопит приливом. Как видим, Карман успел хорошенько обжиться при дворе дожа! Что, говорите, Брабанцио и Порция — из разных пьес? Ой, подумаешь. Нас ожидают сюрпризы почище. В частности:
— ясное дело, триумфальное возвращение Кармана, дипломатического посланника ко двору условной Венеции, дипломатически посланного туда дамой его сердца и других причиндалов королевой Корделией, условных Британии, Уэльса, Нормандии, Шотландии, Испании...
— триумфальное возвращение Харчка, слабого на голову гигантского детины, способного напердеть припев к "Зеленым рукавам", Пижона, озабоченной обезьянки, и, конечно, обходительнейшей дурацкой-говорящей-головы-на-палке (так изящно вас еще не крыли, можем спорить);
— ...которые все вместе несколько, скажем так, корректируют ход истории Отелло, с одной стороны, а с другой стороны также и "превосходнейшей истории о венецианском купце, с чрезвычайной жестокостью еврея Шайлока по отношению к сказанному купцу, у которого он хотел вырезать ровно фунт мяса, и с получением руки Порции посредством выбора из трех ларцов" (которые, как вышло, оказались одной и той же историей);
— ...разумеется, противостоя коварным козням, проводя собственные, чуть менее коварные козни;
— довольно мокрая условная Венеция, чуть менее, однако, вонючая, чем другие условные города того условного времени;
— очаровательная дочь Шайлока Джессика, переодетая пиратом;
— две тысячи девятьсот девяносто девять золотых дукатов и один, эээ, присвоенный;
— задорные случайные сношения со смертельно опасной нечеловеческой сущностью;
— армия ученых вороватых обезьянок, тренируемых евреями Ла Джудекки со времен царя Давида;
— несколько навязчивое участие Хора;
— и прочий неистовый хоровод великолепных безбашенных безобразий под руку с Уильямом Шекспиром и Эдгаром По.
Восстань из бездны, ужас черной мести!
Кхем. Я хотела сказать, у Кристофера Мура опять прекрасная книжка.
«...Больше они об этом не говорили, но с тех пор Венди уже твердо знала, что вырастет. Об этом всегда узнаёшь, как только тебе исполнится два года. Два — это начало конца».
Скажем, когда ты маленький, и мама учит тебя читать, чтобы наконец освободить себе вечера, ты узнаешь какие-то вещи раньше, чем можешь их понять, но веришь в них безоговорочно. Очень редко случается, что ты потом помнишь, откуда узнал первый раз некоторые букварные вещи — те, что вроде бы висят в воздухе и передаются детям воздушно-капельным путем. К тому моменту, когда вырастаешь, ты уже совершенно уверен, что знал их всегда. И, будет лишним уточнять, в глубине души уверен, что всё — истинная правда. Или по крайней мере, правильно и необходимо считать это истинной правдой. Но далеко не всегда и не про всё удается вспомнить, что был какой-то букварь и что это был за букварь.
Я отлично помню, что четырехлетней мне первый раз в истории меня рассказал именно Бэрри. Вот, что это было:
— из стола, одеяла и подушек можно соорудить фантастический остров, который вполне безопасен днем, но за две минуты до засыпания ненадолго становится пугающе настоящим;
— сильнее всего на свете обезоруживает несправедливость, а особенно — первая в опыте несправедливость, и никто не в силах потом эту первую несправедливость забыть (кроме Питера Пэна);
— можно спасти жизнь умирающей фее, если очень много детей будут хлопать в ладоши и кричать, что верят в фей (до сих пор не знаю, а если ты при этом не веришь, но честно кричишь, потому что хочешь помочь, это считается?);
— все дети обязательно вырастают; вырастая, они забывают, как летать, потому что перестают быть веселыми, непонимающими и бессердечными: только веселые, непонимающие и бессердечные умеют летать.
Я тоже обязательно вырасту и, как и все, забуду о существовании волшебства. Совершенно непонятно, для чего все эти несусветные глупости — становиться взрослыми. Два года — это начала конца, и я остро чувствовала каждый день, что маленькая детская вечность конечна, и скоро я вырасту, и тогда всё. И я твердо решила не становиться взрослой во что бы то ни стало.
Но это, кажется, единственное, в чем "Питер Пэн" (как его прочел ребенок вроде меня) оказался не прав, несмотря на то, какой Бэрри был мудрый и проницательный сказочник, как знал и умел он сказать о веселых, непонимающих и бессердечных детях совершенно всё — и еще немножко (и вдобавок горку всего о родительской любви).
Два года — это начало конца, каждый день — это начало конца. Быть взрослым оказалось гораздо, гораздо веселее, чем быть ребенком.
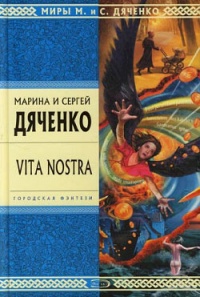 Сегодня у меня эфир для всех детей, испорченных Хогвартсом и НИИ ЧАВО. Если вы коллекционируете магические школы, то вот.
Сегодня у меня эфир для всех детей, испорченных Хогвартсом и НИИ ЧАВО. Если вы коллекционируете магические школы, то вот.
Здесь институт — Институт специальных технологий. Что это за технологии и чем они такие специальные, никто не понимает с самого начала почти до самого конца, даже те, кто их отчаянно зубрит до полуслепоты, бросив свою жизнь, планы, родных и уехав черт знает куда в какую-то захолустную Торпу. Совершенно нормальные подростки из "Гарри Поттера" всегда слегка раздражали меня тем, что учеба (в магической! школе!) для них в основном ничем не отличается от учебы чему угодно где угодно. Во-первых, как им может быть неинтересно! Во-вторых, там история, где есть обучение волшебству, но практически нет магического ученичества — когда обучение требует посвященности, самодисциплины, внутренней перековки, алхимии, трансгрессии духа.
В Институт специальных технологий просто так не попадают нормальные подростки. Все действительно истово учатся. Еще бы. С чем-чем, а с дисциплиной здесь все отменно.
Никто ведь не хочет, чтобы из-за его нерадивости в учебе что-нибудь случилось с кем-то из его родных? Между тем, именно такие административные меры последуют, если, например, провалить экзамен. Ну как, меры. Это просто случится, и все, — само собой. Люди оступаются на лестницах, давятся косточками, разное, словом, бывает. Написал контрольную на трояк — мама сломала палец. Мотивирует.
Уровень приверженности учебе, который достигается таким способом, трудно повторить любым другим. Дело в том, что технологии, о которых идет речь, требуют чрезвычайно внимательного к себе отношения, такого, как если бы это был вопрос жизни и смерти. Поэтому — ставится вопрос жизни и смерти.
Дяченки честны с читателем, и не на пустом месте выстраивают эту страшную магически-невротическую конструкцию из вины, одержимости, контроля и самоконтроля. Разгадка будет — и будет вам трансгрессия духа, и зримый результат, и переход ученика в новое агрегатное состояние, и отчет по успеваемости, и пересотворение мира заново с самых первых слов.
Но мне, как коллекционеру, опять была интереснее всего поэзия ученичества.
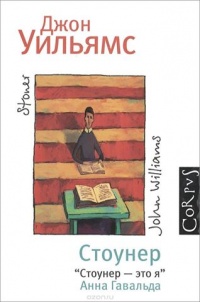
Все, что в этой книжке есть, — тихая жизнь одного человека, а именно преподавателя английского языка и литературы Уильяма Стоунера, которая идет непререкаемо неспешно, размеренно, обыденно, и так же прерывается. Это мы получаем первым делом, синопсис непримечательной жизни Уильяма Стоунера: родился, жил, умер.
В сухой справке — в первом абзаце романа — автор пишет, что Стоунер мало кому из своих студентов хорошо запомнился. Надо сказать, что потом он не удерживается и дает прорасти в своем герое преподавательскому дару, а ближе к концу книги то ли логика развития характера, то ли вдохновенная любовь к персонажу уводит его в полет — Стоунер оборачивается мантией студенческих мифов и делается яркой, неоднозначной, хотя и странноватой фигурой в университетской среде. Это слегка конфликтует с категоричным началом, но тем не менее, нам отчетливо дают понять, что ключевое — это вот, могильная плита, на которой могло бы быть написано, как Воннегут придумал: «Кто-то. (Тогда-то — тогда-то) Он старался». Ну так и быть, небездарный преподаватель. Но не больше. В том, что происходит в этой отдельно взятой жизни, нет ничего выдающегося. Мало того, нет ни одной или почти ни одной истории, которая бы хорошо или субъективно правильно закончилась. (Это, надо сказать, читателя успевает серьезно измотать.) Счастливые моменты краткосрочны и хрупки, они с довольно омерзительным хрустом ломаются под давлением окружающего мира — не то чтобы безжалостного, просто в свою очередь сломанного так или эдак. В этом и нет особенной драмы. Таков порядок вещей, и Стоунер принимает его без бунта, что тоже само по себе неприятно.
Зато в его жизни есть литература. Нет, сейчас без сарказма. Главный герой одарен осознанием литературы как особенного инструмента, который позволяет ему познавать окружающих и — главное — самого себя. Означенный замечательный инструмент при всем при этом вполне бессмысленен в практическом плане — разумеется. Не изменяет факта, что жизнь так себе, не учит выражать себя, не помогает облегчить чужую боль и принимать правильные решения. Но у него он есть, есть волшебное стекло, и это обладание позволяет ему сохранить стержень своего существования до самого конца. (Точнее, мы берем на веру, что он у него есть, — внутрь этой части жизни Стоунера автор нас не пускает. Но и не важно. Это просто стрелочка, указатель, где искать.)
Так вот все это его глубокое понимание, эта тонкая удивительной красоты настройка, это богатство внутренней жизни видны только нам, читателям, изнутри. Но оно с абсолютной безысходностью не в силах прорасти во внешний мир вокруг Уильяма Стоунера. Только немножко — через преподавание. Автор проводит нас сквозь череду невыдающихся событий его жизни, чтобы заставить прожить разницу между внешним и внутренним. В каком-то смысле, так делает любой классический роман, но Стоунер предстает мучительно несоразмерным самому себе, практически чуждым любой экспансии как способа познавать мир — и открывать миру себя.
Вот что сказала мне, как читателю, эта книга: да, человек изнутри себя никогда не равен себе самому во внешнем мире. И единственный инструмент, который у нас у всех совершенно точно прямо сейчас имеется в руках, чтобы хоть мельком подсмотреть, как все на самом деле... Ну да.
Отношения художника и музы — всегда некоторым образом сакральная тайна. Эм. Вы и представить себе не можете.
Винсент Ван Гог не покончил жизнь самоубийством. Его убили. Кособокий человечек в котелке, похожий на раненого паука, насмерть выстрелил в него посреди пшеничного поля из револьвера. Этот человек продавал краску — очень, очень долгий век именно он продавал художникам краску, которой создавались самые удивительные живописные шедевры в мировой истории. Потому что, как известно, искусство — это разновидность бессмертия, но никто никогда не воспринимает эту фразу буквально, да? И вот что этому маленькому человечку было нужно. Бессмертия.
Люсьен Лессар — молодой художник, выросший в семейной булочной на Монмартре, привечавшей тусовку импрессионистов, — и Анри де Тулуз-Лотрек, которого публике, думается, представлять не надо (и которого читатель находит в борделе), сталкиваются с загадкой смерти Ван Гога. Нет, нет, не то чтобы они кидаются расследовать, что и как произошло на самом деле. Им довольно быстро становится не до того. Потому что они тоже — персонажи этой странной, запутанной то ли грёзы, то ли сказки, в которой на чарующий, хотя и грязноватый воображаемый Париж конца XIX века падают синие сумерки, художники оказываются в ловушке сделок, которые они не заключали, вскрываются причудливые семейные тайны, время останавливается, привычный порядок вещей выворачивается наизнанку и вообще, честно говоря, оказывается какой-то ересью, древние мифы восстают из глубин и грубо овладевают самым тонким человеческим материалом, отношения с музами, как было сказано выше... эмм, ну да. Разухабистая мистическая трагикомедия берет за шкирку всех, кто попадется ей под руку (а тогда, как пишет Крис Мур, в Париже жили все, кто был чем-то) и пускается в головокружительный пляс по холмам Монмартра. Настоящие факты из жизни де Тулуз-Лотрека, Тео Ван Гога, Мане, Писсарро, Сезанна и всех других, кто нам встречается в книжке, плотно вплетены в эту историю — Мур очень много работал с реальным биографическим материалом. Чтобы наилучшим способом и с максимальной осознанностью изощренно над ним надругаться, как он это обычно делает.
Приготовьтесь к несусветному мистериальному приключению. Возьмите с собой арт-гид, составленный специально к русскому переводу этой книги, чтобы лучше понимать, о каких полотнах идет речь (это важно). И будьте осторожны с масляной краской. Она обладает, как оказывается, рядом несколько неожиданных свойств. Особенно синяя.
Нужен совершенно определенный навык, чтобы разговаривать о стихах — определенный слух, определенный кругозор, определенный выработанный язык, определенное всё. Мне так кажется. Но как раз эта книжка говорит совершенно противоположные вещи. Даже не противоположные, перпендикулярные. Так что я, пожалуй, попробую.
Эта книжка сообщает читателю универсальное позволение говорить. Или молчать. Универсальное позволение что угодно, вообще, быть.
Все пристальное, любовное внимание к языку и тонко настроенный слух Шаши тут употреблены, чтобы сказать ровно в меру и не сказать ничего сверх, чтобы очистить каждое высказывание от любой шелухи, неточности, надуманности, неаккуратности. Оставить настолько равным самому себе, насколько возможно. Так отточить мысль, чтобы она запела, обнажить до той глубины, когда становится очевидно, что понятия о приличиях бессмысленны в несказуемой мере.
Автор просто и очень честно предъявляет читателю себя изнутри, не выделываясь, без экивоков, без неловких расшаркиваний, без малейшего кокетства или претензии, не пытаясь принять позу поизящней. Вот я, хочешь — бери. Вот мой мир, рассыпанный в маленьких бусинах синего в дымчатом слиянии с бурым стекла, круглых, прохладных, весомых. Шаши обладает удивительным даром — и творческим мужеством — каждым словом сохранять верность своему чувству. Не будет театрального шепота и не будет надрыва. Будет негромкий, личный разговор глаза в глаза о том, что ты — это я, и наоборот, и никого из нас нет, и мы вместе в этом странном, причудливом и печальном путешествии в космосе, но порой и нам (тем, кого на самом деле нет) дано ощутить намек на бесконечную изумительную красоту всего, что здесь творится.
Есть много изящества в соединении с простотой. Есть покоряющая сила в безошибочно взятом тоне. Есть утонченная доблесть в осознанной уязвимости, из которой ведется этот разговор. А когда ты видишь чужую доблесть, ты не можешь не ощутить, хотя бы на мгновение, что ты тоже так можешь. Что так вообще можно. Что нам всем вообще можно. Как же так, а мы все это время.
the people in whose company you easily can aspire for smartness
the people in whose company you’re recklessly and with abandon silly
the people in whose company you remain what you are, an empty vessel
these people you fall in love with
and rise in it.
Всякий, кто дал себя загнать в такую даль с дурацким поручением, должен хотя бы поддержать честь всех дураков и выполнить поручение до конца.
Так говорил Сэло, робот с Тральфамадора, владевший секретом предназначения человеческой цивилизации и знавший больше о любви и дружбе, чем многие так называемые представители органической жизни.
"Сирены титана" — космическая буффонада о поисках смысла жизни. В нашей блистательной программе выступлений: изящный сложносочиненный план по Перемене Мира к Лучшему, включающий в себя масштабные красивые человеческие жертвы, религия Господа Всебезразличного, мятеж в армии марсианских воинов с радиоуправляемой волей, цепь несчастных случайностей, пророчества и святые, дикарская жизнь в пещерах Сатурна, немного трансгуманистических ценностей, инопланетные ценители классической музыки, и, наконец, Высший Замысел, конечно. Жажда смысла — самая неутолимая, самая жестокая жажда человеческой цивилизации, но что, если ненароком обнаружить его? Если мы узнаем доподлинно, что человечество — часть чьего-то большего замысла, нам, наконец, полегчает, или что? Спойлер: с хорошей точностью, "или что".
Впрочем, подобное было возможно только очень давно — тогда, когда люди еще не знали, что смысл нужно искать внутри себя, а не снаружи, и изобретали себе и друг другу в качестве жизненных поручений такую нелепицу, и загоняли сами себя в такие дали, что страшно подумать. То ли дело теперь, когда все люди обратили ищущий взор вглубь собственной души, и сделались добрыми и мудрыми, спустя тысячи и тысячи лет абсурдной жестокости. С этого края вселенной и шлет нам Курт Воннегут открытку с видом на бесконечный холодный космос. Привет тебе, человечество. Ты, конечно, в своем роде забавное. Но по крайней мере, он, этот неведомый край, существует.
Я думаю о том, как, сталкиваясь с дневниками, мемуарами, письменными свидетельствами об ушедших людях, чувствуешь с таким холодком, что против воли вступаешь в особые отношения — нет, не с этими тенями, с другими. С теми, о ком не написано ни строчки. У кого не было знакомого, который бы вел дневник и посвятил бы им хотя бы абзац, например. Теми бесчисленными тенями, что были и канули. И ты оглядываешься вокруг и видишь, как реальность начинает дрожать, слепнуть и расплываться, потому что — пока-то, конечно, ты ее читаешь. Но шаг вправо — шаг влево... И от всего твоего неописуемого, бесконечно богатого читательского опыта, который и в тебя-то на самом деле не помещается, не останется ничего. Тем почему-то сильнее (в частности, чтобы отвернуться скорей от бессловесного сонма) прикипаешь к людям, которые все-таки как-то остались, к везунчикам (почему-то так видится), кто продолжает эту дискретную форму существования в словах, чужих или своих собственных. Эти мертвецы, в свою очередь, встраиваются в наши жизни, связываются с нашими воспоминаниями, уже на других правах, на правах тех, кто умер — но выжил. Кто особенно драгоценен нам именно потому, что каждую минуту мы понимаем, что он выживает сейчас уже благодаря нам, благодаря нашей памяти одеялу, в которое завернув, как щенка и или кого-то такого, замерзшего, мы его выносим и выносим и выносим из небытия на свет. Ну, и никогда не вынесем.
Но каким-то образом нам с ними нужно сосуществовать. И с теми, и с этими. Если мы продолжаем жить в том же мире. Где есть память. (В какой мере мы действительно продолжаем, вопрос.)
Совершенно отдельная для нас всех история — это бытование с памятью о Блокаде. Сконденсированная до ужасной плотности вселенная не то что в принципе не осмысляемого (может, и так) но и не проговоренного, если по-честному, опыта, который дан нам большей частью уже в буквах. И вот, читатель этих букв вслух и про себя — Полина Барскова, поэт (в случае "Живых картин" прозаик, но все равно поэт). Все эти люди, персонажи ее недлинных текстов — у нее за пазухой, их она выносит из мрака и холода, они продолжают свою жизнь на полях и в примечаниях к ее собственной. Что с собой надо делать, чтобы вести это совместное бытование с открытыми глазами, с открытым сердцем? Как быть с памятью, с которой нельзя? То есть у коробки, в которой протекает бесконечно ускользающая, трудная в кровавую кашу работа памяти с неосмысляемым, сняли четвертую стену, и вот как выглядит — как может выглядеть в случае одного конкретного человека — ее невозможная, пульсирующая жизнь. Как стихи после Освенцима — вещь, абсолютно необходимая, чтобы продолжать существование осмысленно.
Обаяние настоящего джентльмена в большой мере происходит из его роли своеобразного атланта, который поддерживает мир, — совершенно определенный мир. Он принадлежит этому миру с потрохами, зато и владеет им полноправно. И, конечно, полностью о том осведомлен. Это тот здравый, уверенный в себе английский мир, в котором может происходить конец света, но чашка чая с утра и хорошие манеры останутся абсолютными вечными ценностями.
Мошенника, арт-дилера, пленительного Маккабрея и его отпетого слугу Джока, главных героев книжек Бонфильоли, десять тысяч раз сравнили с Дживсом и Вустером, что, конечно, совершенно справедливо, — у них общая устойчивая система мира, в котором ровным счетом все и каждый вольны стоять на голове без трусов, но это никак не избавит их от необходимости соблюдать сложную систему социальных ритуалов. Таким образом мироустройство остается незыблемо и солнце восходит каждый день — исключительно волей горстки людей, для которых сложившийся жизненный уклад и почтение к собственным и чужим чудачествам и идиосинкразиям — явление того же не подлежащего сомнению порядка, что и восходы. Точнее, восходы могут делать что хотят, а вот настоящий джентльмен всегда останется идеальным воплощением самого себя. Качество абсолютно абсурдное, и несмотря на это — благодаря этому, — немедленно вас покупает. (Хотя последствия у него могут быть самые разные, но теперь не об этом.)
Надо сказать, что события с Маккабреем происходят куда менее симпатичные, чем те, что представимы во вселенной Вудхауса. Наш джентльмен, оставаясь, как ему приличествует, легкомысленным, изысканным в речах, ироничным и полным собственного достоинства, оказывается и вынужден действовать в совсем новом мире. Не только существуют в этом мире, там, пытки и осмысленная смерть, но оглянитесь, и вся пресловутая старая добрая система ценностей, если честно, уже давно растерта в порошок новым мировым опытом. Все изменилось. На самом деле тот пророщенный изнутри головы мир, в котором Чарли Маккабрей умудряется оставаться во время своих авантюрных эскапад и головокружительных неприятностей, не просто не существует, но разоблачен и отменен. Тем ярче наше невольное восхищение его последним безумным рыцарем-пройдохой, который обречен проиграть, но выйти победителем. Да?
Люди, владеющие этим текстом полновластно, — его персонажи — полунищая нью-йоркская богема середины 2000-х. Нельзя сказать, что они особенно одиноки или несчастны, несмотря ни на что, на самом деле ни в ком из них нет надрыва. Тайлеру 42, он работает в баре, сидит на кокаине и тщится написать по-настоящему талантливую песню, которую посвятит Бет. Они с Бет скоро поженятся. Бет умирает от рака. Младший брат Тайлера Беннет, 38 лет, интеллектуал, романтик и продавец в лавке винтажных шмоток, живет с ними, потому что дела его совсем паршиво. Но однажды он видит знамение в небесах над Центральным парком. Должно же оно что-то значить? Вообще-то, конечно, всякому разумному человеку ясно, что не должно. Но может, хоть что-нибудь?
Самое занимательное в этой книжке Каннингема (для меня) — не то, что он говорит, не то, о чем он рассказывает. Не то, что он хотел сказать. А простая, меланхоличная мелодия, которая сплетается из маленьких эпизодов, мимолетных эмоций, тонко нюансированных, но не имеющих самостоятельной ценности. Только все вместе, следуя общему течению, кружась в общем танце, они создают дрожащую, сложно уловимую паутинку смысла. Все годится — случайные впечатления, разрозненные мысли, навязчиво повторяющиеся воспоминания, все, что преходяще и сиюминутно, — все удерживается вместе и связывается в паутину человеческим разумом, который сидит в центре и безостановочно рассказывает свою историю самому себе. Он одновременно ткет паутину и вглядывается в нее, изумляясь причудливости узора. Узор меняется в зависимости от того, так сощуришься или эдак, и вот ты в плену мелодии, которую он поет, а вот вдруг моргнул, — и все изменилось. Эти приключения внутренней оптики документированы со всей возможной точностью, до последней лирической ноты.
Нет ничего постоянного в меняющемся мире, включая нас самих, а значит, каждый день жизнь легко начинается заново, в погоне за ускользающим смыслом.
Эта мелодия поет о вечной неприкаянности.
Первое место — это дом, второе место — это работа. Жизнь большинства из нас так устроена, что первое и второе места правомерно делят между собой наше время в течение дня. Но существует и третье.
Место, куда вы заходите после насыщенного удивительными, как водится, событиями рабочего дня и мгновенно наполняетесь силами. Место, где вы обязательно встретите кого-то из знакомых и друзей. А может быть, именно здесь собирается ваша компания приятелей совершенно невообразимого состава, которая познакомилась и спелась именно тут. Место, где постоянно слышится смех. Место со своими особыми внутренними правилами, играть по которым — сплошное удовольствие.
Третье место.
Если вы сейчас представили себе совершенно конкретное заведение и невольно улыбнулись, поздравляю — вам очень повезло.
Потому что вообще-то жизнь в мегаполисе обустроена так, что крепкие неформальные живые социальные связи нам ужасно неудобно — нам, буквально, негде — заводить и поддерживать.
Третьим местом должно быть публичное пространство. Кафе, кофейня, почта, аптека, салон красоты, бар, книжный магазин. Как сложится. Сюда приходят, чтобы отдохнуть душой и поговорить, и здесь — ключевое место, в котором творится жизнь сообщества. Форум. Агора. Паб на углу.
Конечно, третье место в этих наших больших, нелепых, разъединяющих городах, где от работы до дома полтора часа дороги, не может выглядеть так же, как таверна на соседней улице, которую держит человек, знавший с детства вас, кабы и не ваших родителей. В зависимости от кучи разных условий, третье место может быть любого цвета и вида — вот вам первые английские кофейни XVII века, вот вам немецко-американские пивные сады, вот вам единственное на несколько городков почтовое отделение, например, что не (в книжке подробно рассказаны истории нескольких хрестоматийных примеров). Но вы всегда узнаете настоящее третье место в лицо — оно живое.
Социолог Рэй Ольденбург поносит американскую пригородную застройку, которая не предусматривает воздуха в виде нормальных публичных пространств, как архитектуру одиночества. И воспевает паб на углу — храм живого человеческого общения, объединяющий людей. Правильное третье место, говорит он, могло бы дать нашим душам все, что тщится спродуцировать индустрия одиноких развлечений, а заодно — весь спектр практических личных выгод, которые получает человек, интегрированный в сплоченое сообщество.
В предисловии автор многажды кудряво извиняется за недостаток научной беспристрастности. Но, говорит он, если у вас есть свое третье место, вы меня поймете.
Не то слово.
...Впрочем, и здесь все начинается с когнитивного расстройства. Нет ничего лучше когнитивного расстройства, если нужна бодрая сюжетная завязка. Речь сегодня про книжку самым нахальным образом легкомысленную — но послевкусие от которой остается правильное. К разговору о весне и всем вот этом.
Вкратце, начинается так: ехал некоторый человек себе в поезде, а потом вдруг — раз! — да и забыл все-все про себя и свою жизнь, от начала до конца. Следом он немедленно узнает о себе ряд удивительных вещей, начиная с собственного имени. Узнает, что с ним стряслась т.н. "обратимая амнезия", но самое тревожное другое — он женат! И кроме того, разводится. А потом он знакомится с невероятно красивой женщиной. Оказывается, (вы удивились?) это есть его жена (без пяти минут уже бывшая), в которую он немедленно и влюбляется, без преувеличения, как в первый раз. Вы удивились еще раз, да, да? Вся история, курьезная и обаятельная, если честно, ни к чему особенно читателя не обязывает, но способна скрасить поднавязшее ожидание тепла в воздухе.
Оставляет ненавязчивую мысль — вот скажем, случись такая потеря памяти с тобой. И заставили бы твоих друзей и знакомых описать твою жизнь снаружи, с нуля. Какая картинка у них бы получилась, и какое отношение она бы имела к твоей внутренней действительности?..
Артур Пфефферкорн (да, это имя главного персонажа; да, нам жить с этим всю книгу) не был плохим человеком. Он, в общем, даже был не настолько бездарным писателем, чтобы не понимать, что бездарен. Это-то и портило ему жизнь! Вот например, друг его юношества Билл — точнее, что вы, что вы, именитый Уильям де Валле! — тоже бездарен, но вот уж кто не беспокоится о художественной ценности своих книг! Просто выпекает эти дешевые, клишированные, бешено популярные детективы один за другим. Почему из них двоих именно Билл прославился (и нехило разбогател) на литературном поприще? Почему настоящая серьезная литература никого не интересует? Почему ему, Пфефферкорну, нечем оплатить дочери свадьбу, в конце концов?
Вы могли бы, спорю, назвать сейчас несколько причин. Не ошибусь, если предположу, что вряд ли среди них оказался бы международный шпионский заговор? Так вот, у меня новости...
Словом, не буду дальше рассказывать, испорчу добрую половину удовольствия. В читательском приключении, которое вас ожидает, далеко не всегда будет понятно, на каком вы свете (да и персонажи). Случиться может все, что угодно. И мало того — все, что угодно, непременно случится. Все одновременно. Скручивая сюжет безумным морским узлом, Келлерман с каждым извивом меняет жанр. Иногда кажется, словно все герои живут в разное время в разных личных литературных вселенных, говоря и действуя каждый сообразно правилам своей. От этого калейдоскопа слегка кружится голова. Пока один пускается в длинные меланхолические размышления из мира интеллектуального романа, другой пинает его под ребра из конспирологического триллера.
Хотя, конечно, наиболее упоительно, смешно и тонко Келлерман описывает околокнижный мир и противоречивую внутреннюю жизнь мнительного писателя-неудачника. Впрочем, может мне так кажется из-за того, что мне все это близко. Если среди вас, читатели, есть, к примеру, тираны маленьких восточноевропейских государств, проверьте на себе и обязательно мне расскажите.

Очень маленькая, но — настоящая книжка для взрослых детей. Или еще для взрослых, которые давно не были маленькими, но когда-то были, и хотят прямо сейчас снова почувствовать, как это бывает. Вот тут есть несколько ценых уроков от маленького короля Декабря. Маленький король Декабрь — самый настоящий король с мантией и короной, только ростом с палец. Он происходит из племени, в котором люди рождаются большие, а потом уменьшаются, он живет в щели между стеной и книжной полкой у одного очень печального человека, задает много вопросов и любит мармеладных медвежат. А кто их не любит.
А еще у этой книжки дивный иллюстратор Михаэль Сова, который нарисовал все самое ключевое: к примеру, машину-пуделеспасалку. Которая пуделеспасает. Которую шел патентовать в патентное бюро изобретатель, как раз вовремя, чтобы пуделеспасти пуделя, которого один человек уже не первый раз пытался убить, чтобы отомстить своей жене. (Что-то подсказывает нам, что эта его затея вполне безнадежна.)
Все пудели целы, и мы не внакладе, потому что знаем теперь, как выглядит машина-пуделеспасалка.
«Новый центр», надо сразу сказать, сугубо необязательное чтение. И в этом — половина удовольствия.
Шимманг с явственным наслаждением пишет картины, которые ему хочется и приятно писать, и только теми порциями, в которых его это развлекает. Вот он берет Берлин конца 2029 года и помещает в разгромленный правительственный центр (в стране насвежо свергнута военная хунта) сообщество интеллектуалов-эскапистов, которые разбивают сады среди руин и устраивают предприятия вроде «Книжной лавки в бункере спецслужб», ресторана «le plaisir du texte» и IT-компании «Алиса в Стране чудес», вот он с каменным лицом называет персонажей Элинор Ригби и Фродо, вот заставляет главного героя несколько страниц перечислять, какие новые книги доставили в библиотеку (а тот приехал помогать в обустройстве библиотеки своему другу — истовому маньяку-библиотекарю, которому ничего не нужно, кроме книг; и Борхеса, и Эко оба персонажа, конечно читали и цитируют вполне мимоходом). Среди этих книг можно найти сочинения Марселя Бергота и Антуана Рокантена и т.д.
Словом, как если бы ты сам играл в то же самое.
Шимманг начинает политический детектив и бросает его, начинает любовную историю и вроде бы теряет к ней интерес, ввинчивает вдруг вместо этого причудливые драматические коллизии в духе Маркеса. Ни одна ментальная игрушка его не занимает дольше, чем непоседливого дошкольника. Наверное, потому что все они — разноцветные полоски, которыми разрисована юла, а острие ее, на котором все вертится, — это только одна тревожная идея. Идеальное сообщество людей, вот оно. На сколько его хватит? В какие условия надо поставить людей — таких, как мы — чтобы они чувствовали его как маленький рай? Что происходит, когда его жители заканчивают строить этот маленький рай и оказываются перед неизбежной необходимостью жить в нем по-настоящему?
Впрочем, юла тоже вертится без усердия и скоро падает.
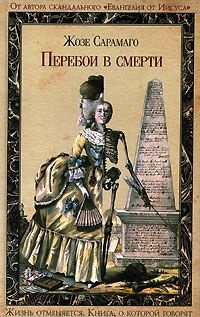 Однажды, как нередко начинает Сарамаго, что только не случается «однажды», чтобы развернуться в изумительно сплетенную картину драматических последствий: то все население возьмет и откажется голосовать, то возьмет и разом ослепнет, а то и вовсе, вот как теперь, возьмет и перестанет умирать. Ну как, все население. На этот раз речь идет о населении одной-единственной страны, так что последствия у этого удивительного события всякие: логистические, политические, социологические — а не чисто экзистенциальные.
Однажды, как нередко начинает Сарамаго, что только не случается «однажды», чтобы развернуться в изумительно сплетенную картину драматических последствий: то все население возьмет и откажется голосовать, то возьмет и разом ослепнет, а то и вовсе, вот как теперь, возьмет и перестанет умирать. Ну как, все население. На этот раз речь идет о населении одной-единственной страны, так что последствия у этого удивительного события всякие: логистические, политические, социологические — а не чисто экзистенциальные.
Мало того, не умирая, люди и не живут, как живут люди — лежат себе в анабиозе, и все. Чтобы избавить ближнего от этого досадного недоразумения, догадались сначала самые проницательные родственники, нужно всего лишь вывезти его за границу той незадачливой страны, что попала под раздачу. И там уже не-покойник сладостно почиет в согласии со всеми правлами природы. И повезли. И повезли, и повезли.
Государство бессильно, общественная мораль бессильна, оружие помогает, но только частью, церковь бессильна и в растерянности (если нет смерти, то нет и воскресения, чем же шантажировать-то теперь?) — везут.
Хотя церковь, сложно избавиться от мысли, могла бы решить эту проблему очень просто: заявить, здесь мы передаем привет русскому космизму, что молитвами святых отцов было наконец выпрошено для народа обсуждаемой страны воскресение прямиком в своих телах, и тела родственников потому необходимо беречь. Чуть-чуть безумной надежды — и задачка была бы решена, а дальше перенаселением домов престарелых пусть занимаются другие.
И вот, словом, бардак и катавасия, но оказывается, что есть тут еще один персонаж, чьего собственноличного участия в истории мы как-то и не ожидали, а собственно, что это мы, могли бы и ожидать. У нее, может, здесь свой интерес. Люди ей интересны, например. Возможно, даже чересчур — но бывает, сами знаете, что любые правила теряют значение. Даже смерть.
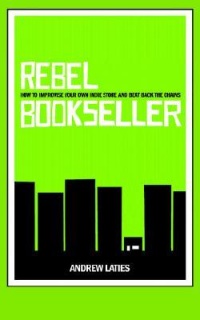
Это руководство, которого не может написать ни один работник книжной торговли. Как открыть свой маленький книжный магазин и не сойти с ума? Никак. Забудьте. Уж либо туда, либо сюда.
Просто любите книжки и хотите собственный маленький книжный, тихое уютное прибежище для таких же, как вы? Oh my sweet summer child (тм). Вы понятия не имеете, во что ввязываетесь.
Эндрю Латиз, помимо того, что писатель, — управляющий книжным магазином при Музее книжной иллюстрации Эрика Карла (того самого, про Гусеницу и проч.), что в Эмерсте, Массачусетс. Еще он основал и почти десять лет держал в Чикаго Магазинчик детских книг, ныне закрытый, — проигравший борьбу с сетевыми книжными супермаркетами. Пламенный адепт независимой книготорговли и, как все хорошие книжники, немного маньяк.
«Мятежный продавец книг» (нет, даже смешнее «Мятежный книгопродавец»; на русский не переводилась) — конечно, специфически цеховая книжка. Пишет брат по оружию, который прошел все те же битвы во имя встречи читателя с материальным носителем смыслов и выдуманных миров; во имя создания живого места силы для всех, кто любит текст. Битвы, которые и нас тут каждый день встречают с лопатой. Из-за того, что все родное и близкое сердцу, хоть и за океаном, хоть и двадцатилетней давности, — читаешь, как захватывающий роман.
Ужасно драматический. Местами душераздирающий. Я несколько раз ахала вслух при чтении, приходилось потом неловко объяснять окружающим: «Ну, только вообразите, вот они взяли под эту выставку две тысячи экземпляров «Дневника Анны Франк», а в день открытия продали — тридцать штук!..» — и встречать тяжелые пристальные взгляды в ответ.
Латиз подробно и выпукло рассказывает историю своего пути сумасхождения на ниве книжных лавочек, с анекдотами и лайфхаками. Получился гибрид между увлекательным бизнес-кейсом и публицистическим манифестом против мегаломанских сетевых ритейлеров и книжных сетей, которые убивают частные начинания с человеческим лицом.
Какой у него опыт этой борьбы, можно поглядеть в буктрейлере к обсуждаемой книжке, упоротом и пламенном, однако наглядном:
А вообще-то невероятно вдохновляет. Почему-то.
В этом небольшом, в отличие от того же "Щегла", романе на изумление есть, кажется, вообще все, что мы так любим:
— Праздничное предвкушение Хогвартса, когда ты садишься в поезд на платформе 9 и 3/4 и знаешь, что отныне причастен к сокрытой тайне и жизнь твоя сейчас изменится навсегда. Юный главгерой Ричард Пейпен, стремясь вырваться из убогого мирка своих родителей, добивается поступления в дорогой колледж, а там...
— Закрытый снобский кружок изучения греческого во главе с учителем-богом, осиянный золотом недоступности;
— Коллекция утонченных молодых людей с изощренной до болезненности внутренней жизнью и созданный ими для собственного пользования идеальный, притягательный и очень хрупкий мирок из слоновой кости;
— Слегка кислотный фон в виде шестидесятых;
— Юношеский драматический накал и тугое до звона переплетение скрытых желаний совершенно из инструментария Достоевского;
— Упоенная учеба, великолепные попойки с интеллектуальными разговорами вперемешку, опасные высокохудожественные групповые эксперименты с сознанием;
— Убийство! Заявленное в открытую с самого начала, вместе с жертвой и виновниками, оно все время подначивающе маячит у читателя на периферии зрения, подтачивает слоновую кость и золото. Пока конструкция не обрушится с грохотом на головы молодым прекрасным полубогам, а выжившим не придется выбираться из-под обломков.
Боюсь, нужно предупредить: начав чтение, сделать перерыв вы сможете только под дулом пистолета, и то не обещаю. Так что выбирайте подходящую ночь.
Любой человек, который когда-либо врал, знает одно простое правило. Хорошая ложь от правды почти ничем не отличается. Да нет, не так, давайте начистоту: ложь от правды вообще ничем не отличается. Точно так же могло бы быть и правдой. С тем же успехом. Это еще очень помогает убедительней врать, потому что в первую очередь почти убеждаешь самого себя — в чем, собственно, разница?
Какая разница, настоящий предмет искусства или нет, — если выглядит на глаз профана неотличимо? Какая разница, пытается человек поступить хорошо, или нет, если результат независим и непредсказуем? В чем отличие правды от иллюзии, если границу и достоверность этой правды еще поди определи?
Но «Щегол» возращает читателя в пространство, где разница — есть. Не субъективная, а на правах разницы в качестве реальности. Весомое, ощутимое, очевидное, сияющее, как краски на картине Карела Фабрициуса, отличие лжи от не-лжи. Отличие, которому стоит следовать просто потому, что оно — есть.
Что-то давно со мной не разговаривали в этом модусе современных светских разговоров.
Это книжка — идеальный сборник эпиграфов, как мне кажется. Предполагается, что причудливо ограненные драгоценные камни, вынутые из головы одного человека, поднесенные к огню вашей (моей, чьей-то еще) жизни, засияют ярче отраженными всполохами ее огня. Если не засияют, — значит, это не ваши камни. Положите на место. Так, неторопливо перебирая камни с наслаждением, отдающим неуловимой опасностью, вы не заметите момента, когда они растают и впитаются в ваши пальцы. Трогайте потом всякое осторожней.
Ты не узнаешь своего имени, пока тебя не окликнут.
Мышление — это игра в кубики перед зеркалом.
Жизнь — аттракцион, на котором можно кататься в течение неизвестно кем оплаченного времени. Одни развлекаются, других, как водится, тошнит.
Большинство людей живет в состоянии судороги. Огромная энергия затрачивается ими на поддержание изнуряющего саморазрушительного статического душевного напряжения.
Поздно изобретать эстетику облома. Она уже воплощена в блюзе.
Фашизм — это неумение быть вместе.
Знания не содержатся в книгах, так же как клады не закопаны в черенках лопат.
В детстве иногда кажется, что взрослые скрывают нечто важное, что мир — это шкатулка, у которой есть второе, потайное дно. Все это не более чем детские заблуждения. Второго дна нет — там бездна, причем большинство взрослых стараются об этом не знать.
То в нашем мире, что названо, благословлено и проклято, остальное только благословлено. К счастью, Адам не все успел перепортить.
Жизнь — глубоченная яма с дерьмом; в придачу предполагается, что к этому факту надо отнеститись с юмором.
Искусства и науки — вот тупики, в которые колдунов заводит специализация.
Взяв себя в руки, присмотрись к тому, что у тебя в руках.
В 1967 году в Пало-Альто, штат Калифорния, обычного школьного учителя Рона Джонса дети спросили на уроке истории: как такое вообще могло быть, что жители Германии во времена национал-социализма вели себя так, словно бы знать не знали ни о каких концлагерях?.. Ну, понятно.
Учитель решил быть наглядным. На следующий день он предложил классу игру. Сначала Рон Джонс ввел несколько простых дисциплинарных правил. Потом объяснил, почему и как исполнение этих общих правил помогает добиться успеха и силы. Потом объяснил, как важно, чтобы все выполняли эти правила вместе. Отныне их сообщество будет называться «Третья волна», сказал Рон Джонс, у них будет специальный приветственный салют и символ. А потом, как вы понимаете, изумленно наблюдал сход лавины: мгновенное распределение ролей среди учеников, одобрение и поддержку родителей и коллег, добровольное доносительство и травлю...
Эксперимент быстро вышел из-под контроля и был свернут.
Рон Джонс вывел ученикам мораль, и еще добрый десяток лет стыдился рассказывать или писать об этом случае. Очень известный эксперимент, ставший вполне общим местом.
Тод Штрассер в книжке «Волна» беллетризовал всю эту историю — чтобы увлеченно читалось школьникам. Книжка прицельно так устроена, чтобы условный ребенок задумался — как вся эта непонятная штука все-таки работает? Ребенок, остановись. Раздумай назад. Удивительный новый мир распахивается тебе.
Но, несмотря ни на что, туда лучше с открытыми глазами.
Прежде чем давать эту книжку ребенку, подумайте дважды. Нет, трижды. Вполне возможно, открыв ее, он больше никогда не станет прежним. Если с такими последствиями вы готовы мириться — ему повезло. Его ждет невероятное приключение. Разумеется, бесконечное.
(Необходимое примечание: ради бога, не надо экранизацию. Она — гораздо проще и про другое).
"Бесконечная книга" начинается с кражи. Маленький мальчик по имени Бастиан, прячась от одноклассников и перспективы мусорного бака, забегает в букинистический магазин. Там он видит книжку, которая так и называется: "Бесконечная книга". А мальчик по чтению с ума сходит. А перед ним книга, которая никогда не кончается! Мечта! Книга книг. Что он делает? Правильно. Импульсивно запихивает том в портфель и сбегает, и прячется на школьном чердаке, у него с собой один бутерброд и одно яблоко, и он планирует провести на этом чердаке остаток жизни — уже никогда ему не вернуться домой, к отцу, потому что он же — вор! Бастиан открывает похищенную книжку, и вместе с ним мы начинаем читать историю о волшебной стране Фантазии, которой правит Детская Королева. Детская Королева умирает от неизвестной хвори, и Фантазия умирает вместе с ней, и со всех краев собирается в ее Башню из Слоновой Кости консилиум лекарей. Но все бессильны: оказывается, что излечить Королеву и спасти мир способен лишь Избранный — его находят и снаряжают на Поиск. Преодолев множество препятствий, избегнув опасностей, повидав немало чудес, он отыскивает вожделенное лекарство.
С этого все только начинается.
Как раз здесь читающий "Бесконечную книгу" обнаруживает, что некоторые персонажи знают, что он в этот самый момент читает про них.
Вот несколько правил функционирования мира, которые впервые попались мне на глаза в шесть лет в книжке Энде и навсегда сломали мне всё:
— Акт присвоения имени сообщает существам и вещам реальность;
— Некоторые ворота открываются только тогда, когда ты забываешь о желании отворить их;
— "Делай что хочешь" — прекрасное правило, пока ты осознаешь, чем расплачиваешься;
— Правильно придуманная история способна менять прошлое;
— Дорога желаний требует высокой правдивости и внимания, потому что нет другой дороги, где так легко заблудиться, как на этой;
— Истории, которые ты начинаешь, тебе же и придется заканчивать;
— Вечность — качество, не зависящее от продолжительности или повторяемости события; каждая новая вечность так же истинна, как предыдущая.
И многое, многое другое. А кроме того: чтобы кто-то захотел попасть в твой мир, жизненно необходимо заставить его прожить вместе с тобой длинную увлекательную историю.
Все эти законы продолжают исправнейшим образом работать. Некоторые обрастают по дороге совсем новыми смыслами.
Но это уже совсем другая история, и мы расскажем ее как-нибудь в другой раз.
Сегодня будет эфир с картинками.
Как часто вам хочется настучать своему собеседнику в Фейсбуке (или не своему, и не только в Фейсбуке) чем-нибудь тяжелым по голове? Так вот! Эта книжка для подобных целей не годится — она маленькая, тонкая и легкая. Но, как все мы прекрасно знаем, стучать по голове можно по-разному — например, фигурально. Для этого книжка в самый раз, правда, ее придется сначала прочесть, но, см. выше,— она тонкая. Да еще и с картинками.
Тем не менее, концентрация здравого смысла на квадратный сантиметр здесь зашкаливает. "Нелепые доводы" — словарь основных логических уловок и ошибок, совершаемых нами в припадках нечистоплотной или просто запальчивой риторики. Читатель с легкостью опознает горсть примеров из жизни в описании некорректных аргументов вроде "Ложной дилеммы", "Отравления источника", "Ассоциативного обвинения" и т.д. Вы всегда знали, что здесь риторическая ловушка, но, может быть, не знали, как она называется и как корректно опровергается формальной логикой. Так вот. Тут все изложено — сжато и забавно. Можно брать на вооружение в спорах.
А может быть, получится и себя на чем-то таком поймать, и вовремя остановить занесенные над клавиатурой пальцы, и задуматься на мгновенье, прежде чем что-нибудь сказать.

Довод в стиле «скользкий уклон» пытается отвергнуть утверждение, указывая на то, что его принятие несомненно приведет к последовательности событий, одно или несколько из которых нежелательны.

«Обращение к большинству». Такой довод предполагает вот что: если значительное количеств людей или даже большинство верит во что-то как в данность, значит это что-то — истинно.

«Не потому что». Эта ошибка возникает, когда некоему событию приписывают причину без доказательства того, что она существует.
(Нет, с мамой не поможет.)
Зная, что тебя ожидает головоломка, с самого начала вступаешь в игру внимательный, наготове, пристально выискивая, за какой хвостик потянуть, чтобы распутать узел. Спойлер: чтобы распутать — ни за какой. Но несколько нитей большей или меньшей степени извилистости проведут читателя каждая собственным затейливым путем. Держитесь крепко.
Очень скоро мне стало казаться, что в тексте нужно следить за увлекательными приключениями понятий одушевленности/неодушевленности, потому что слова эти встревают подозрительно часто. Оказалось, правда: умные комментаторы даже посчитали, что слов с этим корнем в романе около шестидесяти.
Мы имеем:
— одушевленного йо-йо, который не ищет в мире никакого смысла;
— его противоположность; и Квест по поиску Грааля с целью, по возможности, никогда его не найти, но продолжать питаться ощущением одушевленности, которое этот Квест дарит;
— женщину с титульным инициалом — Грааль наоборот, чья неодушевленность постепенно воплощается в ее теле, пока не оканчивается полной деконструкцией (причем ценными оказываются только искуственные ее составляющие);
— путешественника в поисках одушевленного места; он нашел только Ничто, облаченное в татуированную кожу, — и никогда не смог оттуда выбраться;
— священника, спустившегося в недра нью-йоркской канализации, чтобы спасти души тамошних крыс, которые, похоже, наследуют землю;
— поэта, вынужденного жить в мире вещей, которые просто есть, но видящего своей функцией — одушевлять их;
— неодушевленную девочку-танцовщицу; рабыню, лишенную души насильно; одушевленных манекенов;
— пластического хирурга, желающего привести тело своей женщины в эстетическое соответствие ее прекрасной душе;
— и так дальше, и дальше.
Начало XX века; колонизация как изнасилование. Секрет неудачливого путешественника из списка — будучи колонизатором, он не может найти место, в котором обитала бы душа. Он сам — агент истребления души, куда бы он ни пришел, там будет Ничто, потому что он носит его с собой.
Мир распадается, и страшные силы направлены на то, чтобы искуственно удержать вместе фрагменты, но нам этого не светит. Противостояние человека и механизма, оно же слияние человека и механизма; неестественность использования человека как предмета и неестественность придания миру объектов человеческих черт — и амбивалентность этих процессов.
Томас Пинчон раз за разом разворачивает нам мир, который не имеет законов и смысла, пока персонажи не наделят его таковыми.
После этого мир закручивается вокруг персонажа по созданным им самим правилам. И удушает. Однако это само по себе победа. Потому что все, чего ему на самом деле было нужно — убедиться, что правила игры существуют. Их нет, никаких внешних правил нет, «в жизни этой больше случайности, чем человек может за всю жизнь признать и не сойти с ума».
Но вместе со всем этим мне, читателю, сам Пинчон как раз создает сложно устроенное, продуманное, многоплановое пространство текста, в котором правила совершенно определенно есть, в котором автор играет осмысленно, в котором можно собирать паззлы в любом порядке, разгадывать шифры и строить теории, полагаясь на то, что, даже если ты не приблизишься к разгадке, ты хотя бы благословенно знаешь, что загадка была.
А вот V. может значить что угодно.
Самое пугающее происходит на той границе, где реальность как таковая незаметно начинает меняться изнутри. Ускользает меж пальцев. Ткнуть, что именно не так, мы не можем, лишь смутно, тревожно чувствуем прорастающие стебли фальши. Только что ты был уверен в том, что тебя окружает, но вот все пошло трещинами и распадается, а ты все еще не возьмешься сказать, в чем, собственно, дело, на смену приходит чужое, ты не узнаешь собственное лицо, ты не узнаешь правила, по которым сопрягается и функционирует знакомый мир, как будто некий немыслимый ребенок разобрал его на кусочки, а потом составил в неправильном порядке. Далекая диссонансная нота на периферии восприятия, она возникает исподволь и звучит все громче, громче и надсадней, пока звук не ослепляет тебя. Когда ты откроешь глаза, все изменится.
То последнее, за что ты пытался зацепиться, возможно — и есть вообще самое важное, но теперь уже поздно. Тебя больше нет.
Так формулируется правило об исчезновении человечности, правило «Смуглых и золотоглазых» Бредбери. Ему, как звенящей золотой нити в темноте лабиринта, следуют рассказы «Куриного бога». Тюлени, оборачивающиеся людьми, барды, поющие войну, странноватые мечтатели, эскаписты, хтоническое, всесильное и неудержимое. Люди продолжают идти вперед, и люди терпят вечное поражение (или наоборот).
У Марии Галиной есть тайное оружие — она прекрасный поэт. Там, где поэзия и мифологическое ощущение мира вступают в заговор, им подвластны вещи самые страшные, ну.

Поскольку жизнь человеческая есть галлюцинация, внутри себя вмещающая вторичную галлюцинацию дня и ночи (последняя есть антисанитарное состояние атмосферы вследствие скопления черного воздуха), то разумному человеку и не следует тревожиться из-за иллюзорного приближения предельной галлюцинации, известной под названьем смерти.
Наше путешествие в царство мертвых будет совершено, во-первых, на велосипеде. На трехколесном, хотя люди и будут смеяться, или же на тандеме, или, возможно, от вашего велосипеда осталось только двадцать три процента велосипеда, а от вас, в свою очередь, двадцать три процента вас, и не разобрать, кто едет на ком, только длинные фалды сюртука реют в воздухе.
Наше путешествие в царство мертвых будет совершено, во-вторых, в сопровождении трудов ученого мужа. Несмотря несомненную вымышленность де Селби, чья цитата приведена нами в эпиграфе, его философскии концепции повлияли на современные ему умы непередаваемо. Оцените величие: проникшись идеей иллюзорности любого движения, чтобы съездить из Бата в Фоукстон, он часами глядел на открытки с видами Фоукстона — и поговаривают, в то же время его видели выходящим из тамошнего банка. Эта, и множество других принципиально новаторских концепций де Селби, основанных по сути своей на отрицании какой-либо связности в чем угодно, определят наше путешествие.
Которое начнется ударом лопатой в челюсть и продолжится разговором об истинных ценностях — разумеется, о велосипедах.
Наше путешествие в царство мертвых пройдет в сопровождении господ полицейских, великолепных сержанта Фокса и типа по фамилии Маккруизкин. О третьем пока не будем. Намекнем только, что обывательские представления о функционировании полицейских казарм будут позорно раздроблены в пыль.
Наше путешествие в царство мертвых начнется с удара лопатой в челюсть, неловкого закапывания трупа посреди ирландской глуши, неловкого разговора с несносным призраком, жалобы в полицию на пропажу золотых часов, которая неизбежно приведет нас к смертному приговору. Наше путешествие даже не думает делать вид, что в нем присутствует любая связность, оно распадается на фрагменты великолепной, фантастически сконструированной ерунды, парящие в бесконечно холодном, темном одиноком космосе, в котором путешественники движутся наощупь, натыкаясь на предметы, разумеется. И это — дико смешно. Всегда смешно почему-то, когда люди на предметы натыкаются.
Спустя четыре года после конца света в столичном городе, где конец света когда-то начался, проводились выборы. С недоумением, перерастающим в ужас, должностные лица и представители различных партий были вынуждены признаться друг другу, что волеизявление граждан заключается, в двух словах, в том, чтобы все они, должностные лица и представители различных партий, любые, убрались к чертовой матери. 83% бюллетеней были опущены в ящики незаполненными.
Реакция на эти вопиющие происки террористов, на эту попытку подрыва самых святых устоев, на этот подлый заговор врагов отечества последовала незамедлительно. Во-первых, конечно, найти инициаторов этого плевка в лицо общественному договору — и раздавить их. Кроме того, с присущей правящему кабинету тончайшей политической мудростью наряду с готовностью действовать ярко, небанально и даже жестко в экстраординарном положении было решено: правительству срочно, тайно, за ночь покинуть этот дурацкий город, спешно перенести столицу в другой, а тот, что столицей быть только что перестал — объявить на осадном положении. Начнутся беспорядки, хаос. Безответственные мятежные граждане, оставленные без чуткого управления, взвоют, осознают трагическую ошибочность своего посягновения на основы государственности и кинутся, раздавленные, беспомощные, к ногам премьера и его министров, умоляя вернуться, и тогда можно будет проявить великодушие.
Но этого почему-то не происходит.
Технически, «Прозрение» — сиквел к роману «Слепота», но эта притча совершенно о другом. Ядовитая фантазия Сарамаго, с беспощадной проницательностью конструирующая узорчатые сложносочиненные полотна событий, обращается из пространства экзистенциальной антиутопии — к социально-политической. Внутренняя сюжетная связь такая: в прошлый раз, после приключения со всемирной эпидемией слепоты, люди прозрели очень, очень качественно.
Но это им, конечно, не поможет.
Даже не подслушанные обрывки разговоров — или мыслей. Скорее, выдернутые из неизвестного контекста фрагменты рассказа некоторого племени о самом себе. Как если бы цельный текст некогда существовал, но какой-то любопытствующий исследователь или бог прицельно выписал оттуда отдельные фразочки, дающие нам представление о том, как мыслили эти люди и в каких отношениях были с временем, пространством, своими и чужими телами. И отношения эти были затейливые.
Для меня существует (не претендующий на объективность или, боже упаси, уравнивание) мыслекруг текстов, в который вписывается эта маленькая, причудливая, насмешливая и афористичная книжка короткой прозы. Когда автор конструирует новую реальность, сочиняя для нее то, с чего начинается любая новая реальность — песни. То есть истории. Вот например, когда Линор Горалик делает сборник устного народного творчества, собранного в аду. Или городской фольклор вымышленной Португалии, который записывает Лея Любомирская. Или вот еще то, что создает Денис Осокин. Когда рождается цельная парадигма восприятия, задуманная тем или иным способом иной.
Ткань нового мира сшита точными стежками, взгляд охотника ясен, слово отточено, как копье, мифу достаточно коротких штрихов, чтобы врасти в наш взгляд.
"умирая, увидел всю свою жизнь. Даже то, чего раньше не показывали"
"а когда второе копье вышло боком, начал сердиться"
"вошел слева и считался ненастоящим"
"боги зачеркнули своих воинов и решили придумать что-нибудь посмешнее. Смешнее нас у них пока не вышло"
"после смерти стал не тем, о чем мечтал"
"звери собрались у водопоя и стали ждать, когда боги придумают воду"
"люди потеряли много времени, но я уже нашел больше половины"

Нет сомнений, что ужасное случилось вовсе не с Барнаби Бракетом. С Барнаби Бракетом как раз все хорошо, о чем мальчику еще расскажут разные симпатичные люди , — в ходе многочисленных испытаний и приключений, произошедших после того, как мама прорезала дырку в мешке с песком, который удерживал Барнаби на земле, и он отправился в свой первый свободный полет.
Ужасное случилось с мистером и миссис Бракет, причем непонятно когда, но явно еще задолго до того, как их новорожденный малыш Барнаби в первый раз взмыл к пототолку — хотя они бы с нами не согласились. Кому, как не им, приходилось отвечать на неудобные вопросы соседей? Оправдываться перед чужими людьми? Выдумывать самые безумные способы удержать несносного, невозможного ребенка на земле — от того самого ранца, набитого песком, чтобы ходить (а не что-нибудь) в школу, до бельевой веревки, которой мама привязывала Барнаби на заднем дворе, чтобы он немного побыл на свежем воздухе.
Вот что меня больше всего интересует в этой хорошей детской сказке о принятии и человеческом разнообразии — маглы. Маглы — великолепное понятие, которое было языку совершенно необходимо. Те, кто в широком смысле лишен магии. Это история не про то, как обычные люди боятся таинственных сил неизвестной природы, которые врываются в их жизнь не пойми откуда. Что значит "неизвестной природы"? Природа всей этой ерунды прекрасно понятна любому маглу — дурное воспитание! Это история про границы нормального. Маглы — совершенно особенный тип обычных людей. Они не боятся волшебства! Они им возмущены. Их чувство пристойного оскорблено. Маглы — идеальные, убежденные обыватели. Они гордятся своей обычностью как причастностью к некоему узкому кругу людей, о которых уж точно никак нельзя сказать, что они какие-то не такие. Держаться приличий — наивысшая жизненная миссия. То, что именно с ними случается что-то необычное, для маглов — большая личная трагедия и страшная несправедливость. Такие вещи происходят с сомнительными личностями, но уж с ними-то!.. Как мисс Персиммон, которая внезапно для себя пошла по воздуху проказливой прихотью Мэри Поппинс. Магия — это неприлично, потому что магия опровергает их мир. Магию нужно прятать, в пределе — уничтожить.
Джон Бойн — ирландец, а действие "С Барнаби Бракетом случилось ужасное" происходит в Австралии, но в самой идее маглов точно есть что-то ужасно английское. Кажется, она родом прямиком из викторианской морали. Ведь это целый отдельный способ разговора, в котором есть маленький "обычный" мир, а есть — магия. Еще до того, как Роулинг изобрела это слово, магл и так шествовал по детской литературе победоносно — родители Венди, учителя Матильды, даже безобидные мистер и миссис Бэнкс с Вишневой улицы, и за ними плотно сомкнутые ряды — армия непрошибаемых в своей нормальности взрослых, застывших в ожидании, когда их имя назовут вслух.
Один из самых интересных разговоров — в самом широком смысле, разговор о границе. До какой критической массы система может впускать в себя чужие элементы, прежде чем превратится во что-то другое. Я коллекционирую художественные высказывания на эту тему. Скажем, вообще весь огромный разговор о роботах в фантастике — об этом. Или вот, повесть "Люди или животные?" Веркора. Там люди обнаруживают в Новой Гвинее племя, такое "недостающее звено эволюции", и не могут решить — то ли это еще животные и их труд можно эксплуатировать, то ли уже тоже люди, и нельзя. Похоже на логический "парадокс кучи" — "если к одному зерну добавлять по зернышку, то в какой момент образуется куча?". И в том, и в другом случае все проблемы из-за неопределенности предиката — "быть кучей" или "быть человеком". Эпиграфом к этой книжке стоит фраза: "Все несчастья на земле происходят оттого, что люди до сих пор не уяснили себе, что такое человек, и не договорились между собой, каким они хотят его видеть." С этим можно поспорить, но разговор старый, и чем дальше — тем он затейливей.
Ну, хорошо. А если убирать из кучи по одному зернышку, с какого момента она перестает быть кучей? Снова никто не знает. Мало того, мы говорим: пять зернышек — уже не куча! Но почти всегда оказывается, что зернышек может стать три, а мы и не заметим толком. Заканчивая с растительными метафорами: вот, например, калифорнийский учитель истории Рон Джонс. В ответ на вопрос ученика "Как немцы во время фашистского режима могли делать вид, что ничего не происходит?", он основал маленькую тоталитарную систему в своем классе, наглядно показав — каким образом можно воспринимать как должное несусветные, строго говоря, вещи. Не отследив перехода. (См. отличную подростковую книжку "Волна" об этом эксперименте).
Рассказ Ширли Джексон "Лотерея" совсем короткий, очень простой по форме, нет в нем ни фантастических построений, ни социально-исторических аналогий. Тон речи бытовой, фон пасторальный, описывается, в общем-то, вполне рядовое событие из жизни обычной американской глухомани — ну да, ежегодная традиция, но такая старая, что все давно привыкли, так было всегда, разве можно иначе-то. Такая вот традиция, значит, что делать. Лотерея.
Разум есть наш золотой свиток и кровавый след.
Разум есть каменная дверь.
Серебро на обороте зеркала.
из прежних эфиров
Привет вам! Господа отщепенцы, олухи, охальники, обормоты, отбросы, вы попали на нужную волну! Конечно, вы и сами о том не знали, откуда вам знать? Эта волна — самая годная волна во всей одушевленной вселенной, это так же верно, как «Ты есть то», парень. И напорешься на нее разве что случайно — единственный способ. Поверь своему Ди-Джею, Диковинному Джазмену, Духу Дороги, Джокеру Дхармы! С тобой — передвижное радиовещание АМО, голос неизведанного, дыхание песни, маяк для заблудших, факел для идиотов. «Что еще за хрень такая, АМО?», — спросит мой почтенный слушатель, и мы, так и быть, откроем тайну этому напыщенному ублюдку! Ночь коротка, а жизнь замкнута сама на себе в своем бесконечном стремлении вовне, как никогда не говорил постоянный гость нашего эфира Джон Ди. Валлиец, что с него взять.
АМО — значит «Альянс магов и отщепенцев» (так считает один кусок этих магов и отщепенцев. Второй кусок считает, что расшифровка «Алхимики, маги и отщепенцы», и ввязываются в долгие занудные диспуты и кровавые вендетты по этому вопросу. С начала веков. И еще третий кусок думает, что называется «Артисты, мифотворцы и отчаянные», но эти неудачники вообще не слезают со скамейки запасных). Конспирологи, внимание, ваш счастливый час! АМО — тайное общество, и оно существует! Правда, никто не в курсе, зачем, но эй, смысл дороги — в самой дороге, сам знаешь. «В высшей степени необязательный международный союз свободных духом людей и моральных ренегатов», — как выражается наш единственный официальный летописец, один лесник и дзен-поэт, которого зовут на те же буквы, что и вашего сегодняшнего Ди-Джея (чистейшей воды совпадение). «Исторически это союз невольных нарушителей закона, отступников, анархистов, шаманов, мистиков, цыган, сумасшедших ученых, мечтателей и прочих маргиналов». Предоставленная справочная информация так же достоверна, как и то, что есть путь и нет пути.
Братство вольных ебанутых — так назвал бы я, меня спроси. (Не сдавайте только АМО — чуваки все еще платят мне зарплату.)
Мы ведем прямой репортаж из сестринской общины Девы Марии! Глядите-ка, маленькая великолепная хулиганка Эннелли Пирс, шестнадцать лет, только что родила из себя комок плоти под условным наименованием «Дэниэл Пирс». Дэниэл Пирс пока только и делает, что орет, и не знает, что станет, поочередно: косвенной причиной сломанной челюсти одной высокомерной монашки, надоедливым маленьким гаденышем, блестящим учеником лучших проходимцев современности, искателем духа, помощником наркобарона, игроком, отмыкателем закрытых дверей, мастером перевоплощений, мстителем, рыцарем с собственным Квестом, зеркалом, ничем, мужем, философским камнем.
Пересказывать алхимические трактаты ваш покорный Ди-Джей отказывается, ему за это не приплачивают. Даже если они, как говаривал другой наш летописец, неофициальный, вроде «безостановочной вечеринки в честь всего, что имеет значение».
Пока мы несемся на всех парах затейливыми путями к чертовой матери, пределу энтропии, свободе от нечистоты реальности, ваше мобильное трансцендирующее радиовещание шепчет вам на ухо свои искрометные свингующие колыбельные на частоте тоскующего сердца, на частоте неизбывной пустоты, на той частоте, где мы все соединены между собой, где мы все — один и тот же камень, чтобы все сумасшедшие, и все игроки, и все ищущие, и все потерянные знали, что они не одиноки, оставайтесь с нами, оставайтесь, мы напоем еще и не такое.
Словам прекрасно живется в
нелепых углах наших умов.
Не выходит из головы мысль, что уместным откликом на эту книгу должно было быть стихотворение. Оно бы рассказало о ней больше, чем любая попытка, собственно, рассказать.
Город — строго говоря, вовсе не обязательно именно город. Это может быть что угодно, что запускает фантазию, с чем вы вступаете в интимные отношения, в результате внутренней алхимической работы которых получается некоторый текст.
...воображаемый город — не менее всамделишный, чем настоящий. Если по-вашему оно не так, вы, быть может, промахнулись с выбором дела. Наши пусковые предметы, как и наши слова, происходят из одержимостей, коим следует сдаться — любой житейской ценой.
О причудливых текучих законах того, что именно там, внутри, случается, чтобы произвести текст, об алхимии и о технике письма — «Пусковой город». Это не учебник, хотя частью состоит из того, чему Ричард Хьюго учил студентов в своем классе творческого письма, это сборник эссе. Некоторые вещи можно разложить по полочкам, например, рассказать о звучании и порядке слов — у Хьюго тонко отлаженное чувство слов, он глубоко наблюдателен и афористичен. Но что-то описывается только косвенно, только в пробелах между словами, повествующими совсем, казалось бы, о другом.
Небольшая книжка Хьюго такой эстетической и смысловой плотности, что трудно читать залпом. Быстро насыщаешься — такое обычно бывает от стихов. Велико искушение постоянно останавливаться, нежно брать какую-нибудь фразу в руки и долго с удовольствием вглядываться в ее мерцающую глубину, то так, то эдак поворачивая. Время от времени искушение вырастает в необходимость — остаться с той или иной мыслью наедине и прожить с ней маленькую, но бурную любовную мыслежизнь.
Я держу себя в руках, чтобы не вывалить вам здесь простыню цитат и не отобрать наслаждение самостоятельной находки рассыпанных сокровищ, но кое-что не выписать не могу.
Стоит ли отвергать себя, если считаешь пуговицы или щиплешь травинки, когда цивилизация говорит тебе: «Слушай, нашел время!»?
Акт воображения — акт принятия себя.
Не убежден, что внезапная популярность курсов творческого письма — удача. Может статься, это наш крах. Это становится больным местом на факультетах английского. Запись на творческое письмо все растет, а на литературу — падает. Не очень понимаю, почему так, и не уверен, что крен этот — здравый.
Свое стихотворение ни на чье не променяешь. В противном случае придется променять и жизнь, что означает пережить заново все боли и радости, в комплекте.
Никогда не желайте сказать что-либо так сильно,
чтобы отказаться от возможности найти что-нибудь получше.
Начиная писать, вы, может, не
сознавая того, доносите до страницы одну из двух своих позиций. Первая: любая
музыка должна подчиняться истине. Вторая: любая истина должна подчиняться
музыке.
...жизнь в писательстве — медленный, накопительный способ принятия состоятельности собственной жизни. Ну что за глупость такая. Мы преем над стихотворениями лишь ради осознания того, что животным известно инстинктивно, и это видно из их поведения: моя жизнь — это все, что у меня есть. Нам всем неплохо бы это понимать, даже если метод понимания в нашем случае столь болезненно затейлив.
Никогда не беспокойтесь за читателя и за то, что он там себе поймет. Когда пишете, оглянитесь — у вас за плечом нет никакого читателя. Есть только вы и страница перед вами. Одиноко? Славно.
«Пусковой город. Лекции и очерки о поэзии и писательстве». Предзаказ книжки
Не знаю, какая повесть братьев Стругацких любимая у вас... Ну хорошо: какая любимая у меня, я тоже не знаю. Но в последнее время я постоянно возвращаюсь мыслями к «За миллиард лет...».
Есть какое-то совершенно убийственное обаяние в том, что Гомеостатическое Мироздание, стремясь сохранить свою интактность и предотвратить научные открытия, которые со временем приведут к катастрофе, подкидывает злосчастным ученым лифчики. Вся вот эта драматически блестящая, бурлесковая суета с томной соблазнительницей Лидочкой, ложными обвинениями в убийстве, странным пятилетним мальчиком, стайным нашествием любовниц, пугающими телеграммами и, в общем, какой-то совершенной вообще околесицей обстоятельств, причудливый, саднящий абсурд которых все нарастает, нарастает, чтобы разрешиться догадкой: все это делают с нами, чтобы мы отказались от своей научной работы. Как в том анекдоте про "смысл жизни — передать солонку", только оказалось, что та солонка когда-нибудь через миллиард лет уничтожит бытие.
У Роберта Шекли есть рассказ "Три смерти Бена Бакстера", где, в некотором смысле, разрабатывается тот же сюжет с обратной стороны: человечество будущего, на грани экологической катастрофы, отправляет три специальные группы в прошлое, чтобы предотвратить смерть одного-единственного почти случайного человека — установили, что именно после этого поворотного события в истории все пошло не так. И тоже им приходится придумывать дурацкие заговоры, подстраивать судьбоносные разговоры, подкупать и соблазнять — но как-то вот у них ничего не выходит. Человеческий фактор.
У Стругацких же самое интересное в том, что через лифчики, карликов и внебрачных детей выражает себя безличностная иммунная система Мироздания, которая пытается так угловато, неловко выйти на человеческий уровень. Обычно это самый интересный кусок — когда странное и пугающее неведомое врывается в повседневную реальность и метастазирует какой-нибудь феерической ерундой. Эта ерунда вскрывается огромной, оглушительной беспощадностью ситуации. Откажись от смысла и цели своей жизни, диктует не кто-нибудь, сама Природа.
Есть что-то неуловимо разочаровывающее в том, что эта повесть, как докладывает нам «Комментарий к пройденному» Бориса Стругацкого, имеет совершенно конкретный политический подтекст. А именно «дело Хейфеца», по которому Борис Натанович тогда проходил свидетелем. И, мол, у каждого персонажа прототипом — реальный человек, и история эта, столкновения человека и неодолимых непонятных сил, которые ставят тебя перед жестоким выбором, — история на самом деле снова о столкновении с властью. (Не сказать, чтобы она перестала быть актуальной.) И о том выборе, который ты в каждый такой момент совершаешь, оказываясь на шажок ближе или на шажок дальше от того, что значит быть человеком. Впрочем, что только это не значит. Отказываясь от предназначения из-за возможных последствий, ты дальше или ближе? Цитируя Джона Апдайка опять по Борису Стругацкому, "если у тебя хватит пороху быть самим собой, то расплачиваться за тебя будут другие."
Но нет уже совершенно ничего загадочного в том, что квант слепого защитного противодействия системы обретает форму рыжего карлика в похоронном костюме, нам ли незнакомы эти карлики, — и это немножко жалко.
В начале семидесятых группа людей, здоровых во всех отношениях, приняла участие в эксперименте: они пришли и пожаловались врачам, что «слышат голоса». Кроме этого, они вели себя совершенно адекватно — тем не менее, почти всем им поставили диагноз «шизофрения», госпитализировали, назначили антипсихотическую лекарственную терапию, и ни один психиатр в больнице ни одного самозванца не разоблачил. Настоящие больные — и те оказались проницательней. Рассказ об этом эксперименте вышел в журнале «Сайенс» и наделал много шума.
Большинство людей со слуховыми галлюцинациями — не шизофреники. Вообще, существует гигантский спектр не психотических, а невротических (и всяких других) причин, вызывающих у людей галлюцинации, иллюзии, искажения восприятия. Очень часто люди о таких вещах умалчивают, опасаясь быть записанными в безумцы. Но многие живут с галлюцинациями, оставаясь, так сказать, высокофункциональными членами общества. Привыкают к голосам, которые подсказывают, каким турникетом воспользоваться в метро, привыкают к гавайским музыкантам под окнами, привыкают к собственному двойнику, который их постоянно сопровождает. Смиряются, учатся подстраивать под них свой быт, не обращать на них внимания или даже извлекать удовольствие.
«...Галлюцинации приняли социальный и отчасти сексуальный характер. Рассказав мне о них, Герти с тревогой добавила: «Вы же не станете запрещать несчастной старушке видеть приятные галлюцинации!» Я ответил, что такие приятные галлюцинации в ее положении скорее благо, чем беда, если, конечно, они ее не сильно расстраивают. После этого из галлюцинаций Герти напрочь исчез параноидальный компонент; галлюцинации стали приятными, дружескими и любовными. Герти относилась к ним с юмором и тактом, а кроме того, научилась виртуозно ими управлять... Если у нее допоздна засиживались родственники, она вежливо, но твердо говорила им, что через несколько минут к ней в гости придет джентльмен и она не хочет заставлять его ждать на улице».
Именно такие случаи невролог и нейропсихолог Оливер Сакс выбирает на этот раз из своей громадной многолетней практики, систематизирует и рассказывает. Про общественное представление о безумии и границе с нормой нужно читать уже совсем другую книжку, но Сакс преследует определенную гуманистическую цель: подвинуть слегка как раз эту границу, снять с галлюцинации стигму «душевная болезнь».
Среди широкого красочного многообразия тем, от сенсорной депривации и паркинсонизма до мигрени и нарколепсии, тут есть глава и про измененные состояния сознания. С Олдосом Хаксли Саксу тоже явно есть о чем поговорить — с одной стороны, он точно так же с огромным любопытством ставил в свое время на себе разнообразные эксперименты. С другой стороны, он отдельно осмысливает материал про экстатические состояния, трансцендентный опыт и ощущение божественного присутствия. Ему — с точки зрения ученого — тоже интересно про Рай и Ад, тем или иным нейрофизиологическим способом данные нам в ощущениях.
Косматые страусы скачут по развалинам Вавилона, море обезьян и один не очень большой дворец, ежи со страшными голосами, загадочные копытные зайцы и страшный секрет, что произошло с кенгуру во время Великого потопа... Удивителен мир животных, таинственен и местами ужасен! Но может быть, не так уж непостижим.
Я поняла, что мне пора переходить на детские книжки с картинками. Только в моем случае там еще будут стихи. А то такие, знаете ли, бывают детские книжки, что взрослым впору горько обидеться, что все это счастье не им. Этот вот "Бестиарий", например, написали Алексей Цветков, Лея Любомирская и Линор Горалик. Точнее, изумительный поэт Алексей Цветков написал тридцать два стихотворения про разнообразное зверье, а Лея Любомирская и Линор Горалик добавили комментарий: как этот самый зверь, почти наверняка именно этот самый зверь, или, в крайнем случае, какой-нибудь его родственник приключался в Библии. И еще как ему живется в современном Израиле. То есть, по две дико смешные и совершенно серьезно познавательные главки на каждого персонажа. Очень основательный и честный подход — все, как полагается для хорошей детской книги, авторы которой разговаривают с детьми как с детьми, а не как с идиотами.
Говорю же, взрослым только завидовать остается.
Теперь стишок. Про ондатру:
Не на острове Суматра,
А в низине за ручьем
Проживает зверь ондатра
В мокром домике своем.
Много странностей в природе:
То ли выдра, то ли ёж.
Хоть уже не крыса вроде,
А бобром не назовешь.
Молчалива и усата,
Сложит лапки на груди,
А вокруг — ее крысята,
Самый мокрый впереди.
И стоит она в надежде,
Тайный знак давая всем,
Словно что-то знала прежде,
Да забыла насовсем.
А на картинке морская выдра. Как и все другие картинки в книжке, она нарисована украинским иллюстратором Марысей Рудской. Утверждается, что на каждом сантиметре ее тела — до 23 тысячи волосков, и она самый-самый лохматый зверь на свете. Это знание светится в ее глазах, правда?

Извините, не удержалась.
У этой книжки есть существенная опасность, о которой нужно сразу предупредить.
Нет, не та, что вы подумали, хотя нецензурную брань книжка, мягко выражаясь, содержит. Гарантирую, такой изобретательной, богатой, душевной и изумительно живописной нецензурной брани вы давно не читали. А может, и совсем никогда не читали. Но я вообще не об этом!
Опасность состоит в том, что через три, самое большее — четыре страницы вы ну совершенно бессознательно начнете разговаривать (а через десять — думать) шекспировским метром, и не перестанете, пока книжку не дочитаете. Но не волнуйтесь слишком сильно — вы ее довольно скоро дочитаете, потому что отложить ее практически невозможно.
В двух словах, это фанфик-буффонада по "Королю Лиру". Что, если бы главным героем знаменитой трагедии, траблшутером и фигаро всея мифической Британии XIII века был бы шут короля Лира, Карман — титульный дурак, ублюдок, артист, благородный пройдоха (все как полагается)? Первым делом, она бы точно не была трагедией. Пересказ с точки зрения шута, как понимаете, любой высокий жанр превратит черт знает во что. Ну что хотите вы, когда повествование ведет отребье? (Этот размер просто не выводится из головы.)
Кристофер Мур вообще обращается с трагедией издевательски. Он полностью владеет всем ее инструментарием, как всякий одаренный комик, но использует его — с безупречным чувством меры — для собственнных черных целей. Короче говоря, только дай ему испохабить что-нибудь высокое. Приперся тут со своим идеальным мастерством смешного и давай творить всякий бардак — сверкающе неприличный, неостановимый, освобождающий, триумфально жизнеутверждающий бардак.
Давайте я процитирую авторское "Предостережение". Влюбляться можно начинать с него.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Это охальная история. В ней вы найдете неуместные перепихоны, убийства, трепки, увечья, измены и доселе неизведанные высоты вульгарности и сквернословия, а также нетрадиционную грамматику, неснятую полисемию и несистематическую дрочку. Если все это вам, нежный читатель, претит — проходите мимо, ибо мы намерены развлекать, отнюдь не оскорблять. На сем закончим; если же вы считаете, что такое вам будет по нраву — исполать, у вас в руках идеальная книга!
В обращении со всякими чудесами существует одно-единственное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать. Очень странное и очень древнее. Это правило знает каждый ребенок. Оно называется «Никогда. Не рассказывай. Взрослым». Оно работает несокрушимо в любой волшебной истории — и главное, не совсем понятно толком, почему. Иногда озвучивается объяснение, например: взрослые не способны поверить в волшебное, следовательно, не способны его увидеть. Самое невинное, что случится, открой им тайну, — они просто сочтут все это ерундой. Но могут и серьезно навредить, действуя в своей логике обычной реальности, которая здесь уже не применима. И мало того, что они совершенно бессильны помочь, а еще и могут ненароком разрушить чудо.
«Я живо помню свое детство… мне были ведомы страшные вещи. Но я знал — взрослые ни в коем случае не должны догадаться, что я знаю. Это бы их испугало».
Морис Сендак,
из разговора с Артом Шпигельманом.
«Нью-йоркер», 27 сентября 1993 г.
Это эпиграф, открывающий «Океан в конце дороги». И он сразу подкупает. Потому что, говоря начистоту, ну в самом деле. Ни одному вменяемому ребенку в голову не придет рассказывать взрослым, если дело касается действительно серьезных вещей. Монстров, в частности. Единственный взрослый, который может быть посвящен в тайну, — это волшебник, вовсе даже и не взрослый в строгом смысле этого слова. Он приходит тебя проводить. Он пренадлежит не их миру, а тому, другому. Который скрыт. Который твой.
Кто-кто, а Нил Гейман знает, как работает сказка, и что только страшные сказки — истинные, и что они пренадлежат детям.
Бывают, знаете, такие книжки, в которых вся семья участвует в решении волшебного квеста, взрослые и дети заодно, а потом все счастливо и мирно пьют какао. Несмотря на то, что это вроде как очень правильный посыл для книжки, в самом основании отчетливо чувствуется ужасная фальшь. Так не бывает. Я не могу понять почему, но совершенно очевидно, что так не бывает. Это не по правилам. В результате может получиться очень милая история, но это никогда не будет настоящая сказка. Сказка сразу теряет зубы.
Это как-то смыкается с запретом (и, конечно, нарушением запрета) как одним из элементов волшебной сказки. Ни в коем случае не рассказывай. Чудесный мир может существовать только благодаря тайне. Следует защитить тайну от чужаков во что бы то ни стало, иначе все потеряно. Для примера см. вот хотя бы «Волшебную курицу». Взрослые, безусловно, — чужие. И вырастая, ребенок лишается привилегий — тайный мир закрывается для него вместе со всем чудесным и всем страшным. И это справедливо! Кто же доверит такие серьезные вещи взрослому.
Пациенты с болезнью Альцгеймера или деменцией часто не помнят имена своих детей или имя супруга, но знают, как звали их учительницу биологии.
Инга Ломарк - идеальное воплощение биологички, какой вы ее запомнили. Жесткая, сухая, язвительная, несгибаемая. На уроках идеальная дисциплина. Высокие требования. Достаем листочки, тетради и учебники убрали. Учитель старой закалки. В данном случае — не советской, а гэдээровской, но главное, нам сразу понятно, о чем речь. Очень маленький класс, потому что городок вымирает — вероятно, последний класс гимназии им. Чарльза Дарвина (следующий уже не удалось набрать). Инга Ломарк — их классный руководитель (как классный руководитель, она считает, что естественный отбор сам о себе позаботится).
Ужасно прямая ассоциация Ломарк — Ламарк (да еще и название книжки). Жан Батист. Это тот, который про жирафов и наследование приобретенных признаков. Как у них удлинняются шеи. Из-за врожденного стремления к совершенству.
Разум тоже не делает нас умнее. Он втиснут в кольчугу каузальной цепи. «Я» — нейронная иллюзия, по-настоящему дорогое мультимедийное шоу.
Инга Ломарк служит стремлению к совершенству. Но Инга Ломарк не верит в совершенство (она знает, что в природе его не существует).
Первое уже само по себе достаточно опасно, но в сочетании со вторым делает в человеке трещину, которая расползется со временем до полноценного слома. И все ведет к чему-то. Все для чего-то полезно. Все имеет смысл... Каждое поколение пожинает плоды предыдущего. На пути к совершенству многим можно пожертвовать. Когда наконец вернется ваша дочь? К примеру, ребенком, или даже не одним. Прогресс — это логическая ошибка. Чтобы заставить себя забыть, что не веришь в смысл своего служения, можно пожертвовать почти всем.
С другой стороны, в конце концов каждый остается наедине со своим изводом противоречия между идеальным и реальным. И разрешает его как может.
Если бы мы были зелеными, нам не нужно было бы есть, ходить в магазин, работать. Вообще ничего не нужно было бы делать. Достаточно было бы немного полежать на солнце, попить воды, поглотить углекислый газ, и все, действительно все было бы улажено. Вот если бы иметь под кожей хлоропласты. Как было бы чудесно!
Бывают книги, написанные ради одной-единственной детали, одного хваткого сюжетного хода. От него все начинает стремительно раскручиваться в обратную сторону, как отпущенная пружина.
По существу, нам снова рассказывают, что реальность и то, как мы воспринимаем ее и помним, могут разниться драматически. Художественно осмысленная нейрофизиологическая неизбежность. Есть ли разница, кто пишет историю, победители, побежденные или совершенно нейтральные свидетели? Даже самое честное желание зафиксировать истину не гарантирует нам соответствие рассказанной истории тому, что происходило на самом деле. Дело не в чьем-то недобросовестном умысле. Просто мы так устроены. Не доверяйте никому. Не доверяйте себе, не доверяйте рассказчику, и уж конечно не доверяйте автору.
У Барнса получилась изящная вещь в себе. Невольно думаешь, что подобный эксперимент очень в духе, например, Агаты Кристи. Это — и мрачноватая зачарованность хаосом причин и следствий, которые непостижимым образом сшиваются в человеческую судьбу, и ни снаружи, ни изнутри мы не можем отследить, как именно это происходит.
Что-то в Теофиле Норте не давало мне покоя, пока не пришло в слова, и вот что. Странным образом, мы любим Теофила Норта примерно за то же, за что Шерлока Холмса. К нему обращаются за помощью в тяжких или запутанных ситуациях, или эти ситуацим сами отыскивают его, безошибочно узнавая по легкой походке и искре в глазах, что Теофил Норт — именно тот, кто им нужен. Что именно этот случайный прохожий разрешит предложенную головоломку с азартом и даже некоторым несомненным артистизмом.
Теофил Норт, конечно, играет на другом поле. Его пристрастие — не детективные загадки, а человеческие судьбы. И основной метод его не аналитический, а творческий. Перемещаясь от одной истории к другой, он подтягивает распустившиеся узелки, вынимает из шляпы и водворяет на место недостающие детали, осторожно накладывает швы там, где что-нибудь порвалось. Его талант — идеальное чувство уместности. Теофил Норт (едва ли вы были раньше знакомы) — человек, который даст вам именно ту книгу, которая изменит вашу жизнь, который организует целый заговор, чтобы что-то в вашем сердце сдвинулось с мертвой точки, и даже тот случайный собеседник в поезде, чьи слова пришлись настолько к месту, что памятны вам до сих пор, — это тоже он. Словом, он как Шерлок Холмс. Гармонизирует вселенную.
Возможно, он не изменит ничего в большой картине. Где была дорога, по которой многие тысячи людей шли со своими чаяниями и страхами, там будет земля, которую будет копать студент-археолог Теофил Норт. Где был город Ньюпорт и его жители, там тоже когда-нибудь будет что-нибудь совсем другое. Возможно, и в масштабе человеческой жизни он нмчего поменять не сможет — в конце концов, он только праздный прохожий. Возможно, результатом его участия станет только один очень красивый момент во времени. Теофил Норт вообще не совершает ничего масштабного. Маленькие вещи. Единственное, что они на самом деле дарят, на время, — ощущение, что мир в порядке. Возможно, это единственное, что у нас есть вообще.
Теофил Норт действует из чувства прекрасного. Характерно, что он никогда не вовлекается ни во что, в чем деятельно участвует, вкладывая немало времени, сил и сердца. Теофил Норт привязывается к тем, с кем его сводит путь, но это никогда не мешает ему вовремя попрощаться. Как приличествует тактичному гостю.
НОРМАН. Похоже на реплику трагической героини в русской пьесе.
ШЕЙЛА. Терпеть не могу русские пьесы. Ничего не происходит, а денег дерут, как за мюзикл.Эту книжку я читала в какое-то очень темное время года, рано утром перед выходом на работу. Месяц или два, каждое утро по несколько страниц с любого места и до любого места. Каждое интервью — в этом, первом, томе сборника, их тринадцать — это отдельное окно в чужую биографию и заодно в чужую голову, и читатель, благодаря формату, волен ходить из головы в голову как придется. А попадать в чужую голову — очень целительно для собственной.
Охваченные головы, в порядке появления: Михаила Айзенберга, Сергея Завьялова, Владимира Гандельсмана, Дмитрия Кузьмина, Александра Бараша, Алексея Цветкова, Веры Павловой, Натальи Горбаневской, Федора Сваровского, Сергея Гандлевского, Александра Скидана, Елены Фанайловой и Бориса Херсонского.
Собеседник здесь — формально. Только для того, чтобы беседа не рассыпалась. Чистая функция, чтобы главные герои — поэты; частные лица — не останавливались, продолжали рассказывать о себе. Пусть они говорят только то и так, как им хочется. Своими словами. В своем порядке. В своем беспорядке. Это даже не вопрос (не только вопрос) фиксирования живой речи — редактировать (вырезать куски, вставлять куски, брать свои слова назад, переписывать начисто) героям тоже предлагалось как угодно, они — всевластные хозяева своих историй. Посредник — слушатель и собеседник — должен быть, но его не должно быть. Чтобы высказывание получилось как можно более чистым: мы — это то, как мы рассказываем свои истории. Линор Горалик, которая придумала и осуществила этот проект, пишет, что ей приходилось удерживаться от того, чтобы только задавать вопросы, а не начать разговаривать.
Она — тот необходимый слушатель, которого здесь нет. Идеальный, словом, слушатель.
«...Анна Андреевна говорит: "Я боюсь тех, у кого нет страха". Вот и я дура была без страха».
«Мне понравилось быть человеком».
«Не было никакого будущего. Что-то происходит такое, катастрофа, ну и живешь как-то».
«И все время на этой грани находиться, на грани священного ужаса и бесстрашия ожидания любого психического состояния, которое может тебя посетить. Поэт — очень выносливое существо».
Почему-то все фразы, которые попадаются сейчас на глаза, про страх или бесстрашие. Ну, пусть так и остается, как часть картинки.
В те моменты, когда вселенная, кажется, сходит с ума, все валится из рук и выходит из-под контроля, полезно себе напомнить, что, вообще-то говоря, мы даже и себя-то толком не контролируем. Наш организм — очень сложная структура взаимосвязей. На наш ум затейливо влияет все подряд, и ничтожную малость из этого мы способны воспринять сознательно. Большая часть наших мотиваций — иллюзия. "Мы воспринимаем, помним пережитое, выносим оценки, действуем — и все это под влиянием факторов, которых не осознаем," — говорит нам Леонард Млодинов. И это хорошо!
Одного человека на ваших глазах можно заменить на другого — и вы ничего не заметите.
Вы никогда не сможете отличить настоящее воспоминание от поддельного.
Так называемая реальность, данная в ощущениях, — сфабрикована вашим мозгом.
Большинство разумных доводов в пользу своего решения вы придумали ретроспективно.
Эмоции — это физиологические состояния, которые вы интерпретируете как бог на душу положит, в зависимости от контекста.
Все это звучит довольно ужасно. Тем не менее — это побочные эффекты механизмов, которые эволюция отобрала как самые годные для выживания, и снабдила вас комплектом. А у нее, знаете ли, были свои цели. Кучу процессов пришлось автоматизировать и увести на бессознательный уровень, чтобы обеспечить нам же быстроту реакции. Конечно, любая автоматизация выдает ошибки. Но сознательно обрабатывать всю поступающую информацию — это очень, очень медленно. "Эволюция создала человеческий мозг не для того, чтобы он себя доподлинно постигал, а для того, чтобы мы выжили". Смиритесь. Здесь ситуация, обратная забиванию гвоздей микроскопом: нам как раз выдали кучу очень полезных инструментов для забивания гвоздей, а мы пытаемся разглядывать через них строение клетки. И самое странное, что время от времени умудряемся худо-бедно отладить их и под это.
Для меня оказалась особенно важной история про предрассудки. Всем знакомо, как портится насторение, когда вдруг выясняешь, что кто-нибудь приятный во всех отношениях слегка недолюбливает, скажем, зеленоглазых за, скажем, присущую им от рождения склонность грызть ногти. Плохая новость: этот баг восприятия с каждым из нас, кажется, надолго. Чтобы от него избавиться совсем, человеку нужно ампутировать вентромедиальную префронтальную кору головного мозга. Но наверное, не стоит торопиться это делать.
Нейробиологическая реальность такова: чтобы оперировать информацией, человеку необходимо раскладывать ее по ящикам. Это то, что заставляет нас против всего здравого смысла планеты объединять людей по расовому или гендерному признаку, или по любви к той или иной футбольной команде, в группы, а потом приписывать всякие глупости, одни на всех, совершенно не отдавая себе в этом отчет. Но тот же механизм в обыденной жизни экономит уйму умственной энергии, помогая реактивно ориентироваться в социальном пространстве. И возник он не на пустом месте.
"Если бы мы не эволюционировали таким образом, если бы наш мозг обращался с каждым встречным объектом индивидуально, то пока мы разбираемся, настолько ли опасен конкретный лохматый зверь, как тот, что съел дядю Боба, медведь нас бы успел сожрать".
Так что заранее — и очень быстро! — на всякий случай дискриминировать медведя было витально.
Категоризация — важнейший ментальный процесс, который дарит вам возможность, например, читать. Ведь для этого тоже нужно сортировать похожие символы. То, что эта благословенная штука дает такой противный сбой, как общественная стереотипизация и все вытекающие ништяки, — придется, видимо, смириться. Но мы можем за этим механизмом до определенной степени приглядывать. Для этого нужно приложить усилие.
Очень важно не забывать, что нам все время нужно прикладывать для этого усилие.
Это только один скрытый механизм из целой кучи, про которые ясно, смешно и бесконечно увлекательно объясняет Млодинов. Упоительный научпоп, примиряющий с реальностью. Заодно из книжки можно узнать, в частности: как научить лошадь отвечать, который час, куда девать глаза на собеседовании, научное обоснование, почему дизайнерам противопоказано играться со шрифтами, как грамотно влезть в очередь, почему полезно себя слегка переоценивать и почему вашей маме может быть проще поверить, что вы умерли, чем что у вас свидание.
Просыпается Гитлер как-то утром, а на дворе 2011 год. И куда неприкаянному фюреру податься, одному, без армии, без рейхканцелярии, без денег, когда все в мире изменилось?
Ничего, ничего, все не так плохо.
1. Конечно, на телевидение. С руками оторвут.
2. Ничего не изменилось. Это, собственно, книжка о том, что ничего не изменилось.
В общем и целом, не самая безопасная книжка.
Необходимый синопсис: Гитлер появляется вдруг откуда ни возьмись на заброшенном пустыре в Берлине, как настоящий, как будто 66 лет назад просто заснул. Оглядевшись, вздохнув и засучив рукава, бывший фюрер снова начинает свой путь с самых низов. Слово за слово, он попадает в телевизор, где его принимают за гениального двойника-импровизатора, работающего в особенной технике. Подумаешь, не выходит из роли в обычной жизни. Мы современные люди и отнесемся к этой причуде светски.
Очень скоро Гитлер снова становится суперзвездой.
С этой очень смешной книжкой трудно не потому, что мы смеемся над Гитлером. Можно подумать, первый раз. Нет нужды объяснять, почему этот персонаж может быть уникально смешным. Самые истерически смешные шутки именно и получаются из самых жутких вещей. И честное слово, этическая позиция автора совершенно недвусмысленная.
Трудно и не потому, разумеется, что мы смеемся над болезненными темами про общество, политику и, так сказать, нравы. Хотя это основной аттракцион, и отменно устроенный (для немцев, наверное, он еще более занимательный, но вообще-то вполне общечеловеческий и на все времена). Читать, как автор издевается над чем-нибудь, одобряя или порицая это Гитлером — одно наслаждение. Первое время. Именно этим-то, кстати, персонаж и купил телевизионщиков и зрителей — все посчитали, что его суждения это такой художественный прием, чтобы показать в истинном свете двуличие, недомыслие и обскурантизм. Загвоздка в том, что со временем они начинают видеть в его точке зрения рациональное зерно. Эта книжка была бы не так хороша, если бы была просто социальной сатирой. На самом деле, она еще и мыслеэксперимент. Над кем, над кем, над тобой, читатель.
Есть такой демагогический прием, "argumentum ad Hitlerum", термин изобретен еще Лео Штраусом. Вкратце аргумент формулируется так: "Если Гитлер (нацисты) поддерживал (подставить нужное), то (подставить нужное) — зло". Вегетарианство, например. Любой нормальный человек понимает, что это риторическая ловушка. Но в нее — все ещё; всегда — удивительно просто попасть с обратной стороны. В какой-то момент становится понятно, что приняв правила игры, (Гитлер — чудаковатый, но гениальный актер) окружающие практически перестают слышать, что именно он говорит, и впускают в свою зону приемлемого все больше и больше. Но мы-то снаружи этой истории, мы-то сознаем, что надвигается опасность. Мы наблюдаем отчетливо, как знакомый сюжет (хотя казалось бы!) снова развивается триумфально.
Тем не менее, читатель все время обнаруживает себя в нелепом положении, соглашаясь с Гитлером.
Ну невозможно не соотноситься с протагонистом книжки, да еще и написанной от первого лица. К тому же, некоторые наблюдения за современностью, которые он делает, незамутненным взглядом пришельца из прошлого, не привыкшего к современным условностям и глупостям, не перестают быть меткими и остроумными от того, чьи они. То есть, сначала мы смеемся над Гитлером, который отмечает, что, оказывается, "господину Старбаку принадлежит куча кофеен в Берлине". Потом мы вдруг понимаем, что не можем не сочувствовать в каких-то моментах его комическому консервативному взгляду, а то и впрямую — только что мысленно согласились с тем, что смартфонов, например, в нашей жизни слишком много. Следующий шаг, который он делает в своих рассуждениях, заставляет ощутить легкий холодок. А может быть, не следующий, а через один. А может быть, какое-то сомнительное утверждение мы уже просто проглотили, не заметив этого.
Неуютно, словом.
Если что, завтра снова может принадлежать ему в два щелчка. Это необходимое, хотя и тревожное оперативное знание.
Не могу отделаться от мысли, что бы случилось, если бы у нас сейчас вот так вот внезапно проснулся, скажем, Сталин. Мне кажется, это была бы какая-то очень иная история, но какая именно, никак не могу для себя понять.
В качестве предисловия — баечка.
Продавали мы как-то раз книжки на ярмарке. Перед столом завис мужчина, вертит в руках "В сумме" Иглмена. И вот есть книги, которые рекомендуешь аккуратно, даже если сам их нежно любишь, а есть — которые хочется просто без разбору дарить каждому первому. Тут я начинаю с откровенным восторгом рассказывать, какая это крутая, мудрая, изобретательная ментальная игрушка, 40 притч-спекуляций о том, как может быть устроена Вселенная, придуманных ученым-нейрологом...
— Это худшее, что вы могли сказать, — прерывает он. — Теперь я точно не куплю эту книгу.
— Почему?.. — слегка опешиваю. — Что именно?
— Что это написал нейролог. Терпеть не могу их читать! Я сам — нейролог. Понапишут.
Вот, собственно, в двух словах я все и рассказала.
В этой маленькой книжке — сорок компактных мысленных экспериментов, основанных на допущении, что после жизни нас может ожидать что угодно. Что угодно. Мы себе и вообразить не могли. Дело даже не в том, что именно после жизни случается с нами, это бы ладно. Само понятие о "нас", людях, становится вверх тормашками. Мы, наконец, узнаем всё, всё — ответ на главный вопрос вселенной и всего такого. И он совершенно несусветный.Мы умираем. И выясняется, что на самом деле... Тут запускается невероятностный двигатель, боеголовки превращаются в кашалота и горшок с петунией — и обратно. Мы летим, нет, падаем.
На самом деле бога нет, и в раю ведутся религиозные войны за истинную версию причины его отсутствия.
На самом деле жизнь на Земле — социальный эксперимент с перерасходованным бюджетом.
На самом деле смерть — это действительно сон, но чужой.
На самом деле бог — Мэри Шелли.
Причудливые схемы реальности собираются и рассыпаются на наших глазах, сменяя друг друга. Это как просыпаться на другой планете каждые двадцать минут. Это коридор кривых зеркал, отражающих попытки человечества ощупать вслепую слоноподобный окружающий мир и осознать нащупанное — в форме науки, религии или искусства. Воспринятые кусочки слона — научные теории, верования, инсинуации, абсурдные допущения, литературные фантазии складываются вокруг нас во всевозможные калейдоскопические картинки. Их так любопытно разглядывать! В каждой новой картинке нужно остановиться и оглядеться: тонким образом она сообщает много занятного не о нашем вероятном будущем, конечно, а о нашем сегодняшнем способе мыслить. Переопределяя понятие "человека", мы мгновенно понимаем, что оно для нас значит сейчас. Ну, или все еще не понимаем, зато в новых, неожиданных оттенках.
...Теперь вы знаете все. Можете попробовать немножко пожить с этим знанием. Всего несколько коротких страничек, пока точка отсчета снова не поменяется.
Мы находимся в замке. Все находятся в замке, потому что кроме замка, ничего не существует. Замок — высшая ценность, потому что высшая ценность — это замок, и так было всегда. Добро пожаловать в громадное пространство абсолютной клаустрофобии, замкнутое само на себе. Замком Горменгаст, громоздящимся посреди пустыни чудовищем, долгие столетия правит династия графов Гроанов, вечная и пыльная, как сами камни. Так же вечен и Ритуал, на котором зиждется существование замка и всех его обитателей, от самих графов до последнего потомственного Скребуна стен на Великой Кухне Горменгаста. Изо дня в день единственный и непререкаемый долг всех — исполнять прихотливые, громоздкие, невесть кем изобретенные древние правила, как нескончаемую наследственную епитимью, каждодневное сложносочиненное приношение жизни на алтарь верности всему тому (чему-то такому весьма нерушимому), что символизирует — нет, являет собой Горменгаст. Если в пространстве обычной жизни ритуал нужен затем, чтобы поддерживать мироздание... Горменгаст — идеальное воплощение мифа о самом себе. Поддержание такой абсолютной тавтологии требует выдающегося посвящения и труда многих и многих — желательно, поколений. Зато, конечно, в таком пространстве тот самый последний потомственный Скребун стен остро ощущает свою ценность.
Но вот появляется на свет новый маленький граф, Титус Гроан, семьдесят седьмой этого имени, который все изменит.
На самом деле, конечно, нет. Не изменит.
Но, по крайней мере, это будет первый (известный нам, читателям) житель Горменгаста, наделенный настолько яростной и упрямой фантазией, чтобы не только представить, что есть что-то вне, но и сбежать туда. А не в смерть, как многие другие.
Все персонажи, маленькие подобия монстра, которому они принадлежат, отчетливо замкнуты на самих себе. Великолепные, гротескные на грани фола характеры, они, каждый, замкнуты на какой-то один краеугольный камень. Вынь его — и человек сложится внутрь себя. В воду, или в пропасть, или на растерзанье совам, как уж получится. Их мир устроен так, они не умеют других правил. Два персонажа на все книги не выказывали желания никуда складываться, что бы с ними не творилось. Один — абсолютное стремление к свободе, Титус. Второй — абсолютное стремление к власти, Стирпайк, ну, вы с ним еще познакомитесь.
И то, Титус под большим вопросом: он может жить дальше, только пока знает, что то, от чего он бежит, пребывает неколебимо на своем месте.
Так сложилось, что Мервин Пик успел написать только три тома о Горменгасте, и цикл остался трилогией, но имеющей подобие логического завершения. В третьей книге Титус, которому удается вырваться за пределы своего замка, начинает сходить с ума, потому что новый мир, в который он вступает, слыхом не слыхивал о Горменгасте, мало того — не верит в его существование. Титус мечется, пытаясь понять, не было ли сном все, что его определяло. Неожиданно оказывается, что снаружи замка — некое ретрофутуристическое (с нашей читательской колокольни) пространство, с летающими механизмами, подземными городами, смертельными лучами и экспериментами на людях и животных. Да, можно вывести Титуса из Горменгаста, но нельзя вывести Горменгаст из Титуса. Свой замок он приносит с собой. Кто он без замка? Кто он без своего краеугольного камня?
Удивительное чувство, когда можно распространяться о сюжете сколько угодно. С таким же успехом я могла бы проспойлерить вам, ну, картину Тициана или, там, "Похищение Прозерпины" Бернини. И вот, Аид ее, представляете, догнал, и как схватит! Мервин Пик — художник по образованию и по профессии, и он принес в литературу весь свой инструментарий. Этот текст требует, чтобы им любовались, сцена за сценой, как изумительной живописью, каждым схваченным бликом света, каждой скрупулезно выписанной деталью — и, да, время внутри течет так, чтобы вы наверняка успели это сделать. Только в третьей книге картинки наконец начинают меняться с кинематографической частотой, история скачет, как в нехорошей дрёме, ритм рвется и к концу почти захлебывается.
Но тревожное и неуютное у меня от этих книг остается ощущение: хотя и наш титульный герой, и весь сюжет (и читатели следом за ними) вышли из замка, и Ритуал кажется всем сразу дурным кошмаром, и все-то в новом мире другое, а ведь нас, кажется, обманули — каким-то неясным образом по сути ничего не поменялось. И замок, как мы выясняем, на месте. Где-то там внутри нас он все еще стоит на месте, и так было всегда.
"Никто не погиб. Все спаслись. Вам понравится."
Это такая очень-очень простая история, совершенно незатейливая, если подумать. Еще одна история о том, что цель — это путешествие, каждое путешествие, только настоящее путешествие. Но любим мы вообще-то только простые истории.
Колесит, значит, по Америке странствующее шоу. "Добро пожаловать в царство благословенных!" — с этой фразы, под джазовый саксофон, начинается цирковое представление. Благословенные лицедеи, фрики, бродяги, клоуны, бородатые женщины, трансвеститы. Благословенны неприкаянные маргиналы и всякий сброд — это общеизвестно. Хэдлайнер шоу — простите, сколько там был этот штраф за неуместные англицизмы? — барышня, которая, собственно, "умирает" и "воскресает" по сюжету представления, в кульминации являя публике кровоточащие стигматы.
Публика послушно ахает и изумляется, но все уходят домой (или возвращаются и бросают в артистов бомбы, неважно) со спокойной, в общем, душой, зная, что видели дешевый фокус (искусную мистификацию, отвратительное святотатство, нужное подчеркнуть). А они видели чудо.
Если Франческа очень голодна, она может усилием воли заставить свои ладони кровоточить. В первый раз, когда это произошло, ей было семь лет, ее родители разбились в автокатастрофе, а бабушка была слишком поглощена назойливой мыслью о том, почему бог недоглядел за ними, чтобы вспомнить о девочке и покормить ее. Это была ее уловка, трюк, чтобы привлечь внимание. Все дети так делают.
Так что она тоже знает, что это фокус.
У Франчески есть ее святые. Она записывает в тетрадь и помнит католические жития в огромном количестве, и охотно рассказывает себе и другим.
Все они точно такие же отверженные и странные, такие же потерявшиеся и ищущие, как и она сама (цель — это путешествие). Только тот, кто даст внутреннему ощущению неприкаянности овладеть собой, способен пуститься в Поиск (цель — это путешествие). Тот, кто странствует, всегда находится на границе миров (цель — это путешествие). Ты не знаешь, записывают ли твою жизнь в отдельную тетрадь, не знаешь, что ты взаправду переживаешь. Цель — это путешествие, и оно должно продолжаться.
Есть разные собеседники — а есть такие, к которым возвращаешься, когда уже нестерпимо хочется какого-то чистого, цельного взгляда на мир. Ты любишь многих, но только эти тебе напомнят с такой обезоруживающей ясностью, что все тот же самый пейзаж в окне можно смотреть и так: с таким открытым и внимательным сердцем, благожелательно и сочувственно, но с неугасающей пылкостью и волей к радости. Таких собеседников — наперечет, мы к ним бежим, когда вспоминаем посреди мешанины и суеты, что есть тенистый сад, где можно отдохнуть.
О, дальше с ними можно спорить, не соглашаться, раздражаться — словом, вести нормальный человеческий разговор. Отличительный знак — с ними можно смеяться, с ними всегда легко смеяться, и этот смех не унижает, а облагораживает.
В случае с публицистикой Честертона — это блестящее множество самых увлекательных, парадоксальных, очень личных разговоров обо всем на свете.
Нельзя не уважать язык, на котором к тебе обращаются — выбор языка это выбор способа познания, органическое выражение той страсти, что питает внутреннюю силу. О чем бы ни говорил человек по-настоящему цельный, он всегда проповедует источник этой силы, и на ваших изумленных глазах алхимически преобразует пространство. Честертон — проповедник, умный, тонкий, бесконечно гуманистичный. И начисто лишенный той серьезности, которая изводит любое живое зерно смысла в чем угодно.
У него самого об этой серьезности есть прекрасное эссе "Хор", которое я всем советую найти и прочитать прямо сейчас. Оно о том, как время от времени не хватает — писателям, в частности, и людям вообще — припева в наших песнях. Древнего, торжествующего рефрена, который ставит любое каждодневное в перспективу вечности: что бы ни случилось, жизнь с нами; что бы ни случилось, жизнь продолжает себя; и так продолжает, и этак, и через колено, и вот здесь тоже. Что бы ни случилось, что бы ни случилось, что бы ни случилось.
Стоит найти, кто поет такое лично вам — и подпевать.
"Но мне хотелось бы, чтобы хоть изредка вступал хор. Мне бы хотелось, чтобы после мучительной, как агония, нездоровой до жути главы врывался голос человеческий и орал читателю, да и писателю, что это еще не все. Упивайтесь жестокостью и сомнением, только бы вовремя звенел припев.
"Гонория бросила томик Ибсена и тяжело побрела к окну. Она ясно поняла теперь, что ее жизнь не только сложней, но и холодней и неприютней, чем жизнь бескрылых мещан. И тра-ля-ля-ля-ля-ля!".
Смерти нет, не как обычно, а по-язычески, смерти нет прямо сейчас, об этом знают животные, маленькие дети и некоторые особенно внимательные женщины. Поэтому, в частности, детские песенки, считалки и потешки — самые пугающие тексты на свете.
Загадка, откуда появляются эти отдельные мертвые, которые считают нужным вообще разговаривать с нами, живыми, о том, что на самом деле происходит. Но они появляются: каждый текст Дениса Осокина датирован каким-нибудь иным годом (весь XX век, и немножко нынешнего), они из разных мест (иногда это переводы), и подписаны разными именами. Более-менее широко известен Аист Сергеев, утонувший сын не утонувшего поэта Весы Сергеева, представитель народа мари, автор повести "Овсянки". Про него сразу понятно, что мертвый, а текст создавался уже на дне речки Неи, буквально так и написано, а про остальных мертвых авторов так сразу и не скажешь, но если вдуматься, это становится очевидно. Из того, что важно для рассказчиков.
Нам пишут мертвые свои недлинные записки, им ящерицы облизывают марки, и важное для них — совсем не то, что мы привыкли, они его доносят как умеют. Про пугало, которое влюбилось в лося и шло по его следам, про зеркала, которые делят нерожденного младенца, что значат мертвые имена небесных жен, что анемоны — это поцелуи через одежду, что святой Поликарп с велосипедом срывает рябину — так долго, и самое важное во всем этом, разумеется, то, что мертвые выбирают это важным.
Вот, скажем, их тексты насквозь эротизированы, потому что секс — это жизнь, а там, где нет смерти, понятие стыда и совсем как-то теряет смысл, зато смысл есть у законов — непонятных нам, но очевидных им и совершенно непреложных. Занимательно притом наблюдать, как трогательно они стараются томную, низовую материю антимира упихать в готовые формы человеческой привычки к слову. Стихи немножко для этого подходят, но, откровенно говоря, не слишком; тексты могут навести на мысль о фольклоре того или иного происхождения, но фольклор — это всего лишь отголоски памяти живых об антимире, а здесь — личные истории приблизительно современных нам с вами мертвецов, и об этом тоже следует помнить.
Как-то раз одна старушка пришла домой и сказала:
— В моей жизни появился кто-то другой.
— О, — только и могла вымолвить вторая старушка.
*
Одна старушка придиралась ко второй старушке, предостерегала ее и записывала все ее проступки: «Не смотри с таким убитым видом», «Смени-ка запашок, для разнообразия», «Что ты с таким шумом руки моешь», «Ешь потише, свинячь поменьше», «Неужто тебе нечего надеть, кроме этого зеленого платья?», «Отвечай внятно и, прежде всего, с улыбочкой».
*
Одна старушка сказала как-то вдруг (раньше им не приходилось обсуждать такие вещи):
— Когда я буду лежать при смерти, пусть у моей постели поёт небольшой хор, а съесть бы я хотела пудинг с итальянской колбаской. И ещё, если можно, хорошо бы гудение шмеля за окном. Трудно будет, конечно, всё это устроить. Но уж больно мне хочется. Ладно, там видно будет.
*
Простите, я опять про смерть и любовь. У каждого должны быть свои маленькие милые пунктики.
У Теллегена вообще-то смерть вполне себе пунктик, даже когда он пишет сказки для детей — а известен он все же больше всего детскими сказками про антропоморфных зверюшек. А эта вот компактная книжечка — сказки для взрослых. Их хочется по привычке назвать "абсурдными", но, если вдуматься, несмотря на то, что две старушки время от времени делают вещи, прямо скажем, эксцентрические, все истории как одна абсолютно осмысленные. Даже бытовые. Просто странные. Ну и что. Там, где люди исследуют границы пространств любви и смерти, "нормальность" — неуместное понятие. Как могут, так и исследуют, не придирайтесь.
Сами старушки так не считают: в их замкнутом, слегка аутичном старушечьем мире понятие нормальности, разумеется, присутствует — оно-то все и отравляет. Как обычно. Именно на этом чувстве неуместности построен своеобразный комический эффект. На нем же — и обезоруживающий эффект близкой сопричастности.
Вот шмель, например, в одном из зачинов выше. Если любимая хотела перед смертью услышать гудение шмеля и ты, как дура, спряталась за занавеской и жужжала — это нормально, или надо было держать ее за руку, и все вот это? Или, скажем, прожив вместе много лет, осознаешь, что вы друг друга не любите — и что делать? Или почему бы и не украсть себе на память пару пальцев своей любимой, если тогда кажется, что она целиком тут рядом, на той же каминной полке (хотя ее уши любила больше)... Или вот оказывается, вы всю жизнь не знали, что такое любовь, и делали все неправильно. Или вот если другая многие годы игнорирует твои ценные замечания, что еще делать, кроме как столкнуть ее из окна? И как, в конце концов, так любить друг друга, чтобы перестать бояться смерти? Не понятно. Совсем не понятно, как.
А, да, старушка и еще одна старушка в каждой истории — это каждый раз разные пары старушек. Общее у этих пачек старушек одно — они друг друга очень любят. Но совершенно не представляют, что с этим делать.
Как любую романтическую книжку о любви, "Нарцисс и Гольдмунд" лучше первый раз читать в юности.
Если мы, конечно, выбираем ее читать именно так, а я сейчас вам расскажу, почему я так выбираю. А то есть, конечно, книжки о любви и книжки о любви. В случае "Нарцисса и Гольдмунда" у нас имеется целый диапазон ракурсов, в которых может быть прочитана эта история, и ни один из них мне не нравится.
Давайте объяснюсь.
Герман Гессе, пророк ищущих духовности юношей, подкупает их тем, что разговаривает об этом страстно и совершенно прямо. Совсем немножко времени проходит с подросткового возраста, и мы начинаем этого стесняться, это ощущается старомодным, это язык, которым сейчас даже если и чувствуют, то вслух не говорят без сотни оговорок, ну просто — не говорят. Говорят другим. Но, судя по всему, он по-прежнему глубоко отвечает тому месту в душе, которое истово болит и ищет выражения, когда тебе 15 или 16, и ирония здесь ни в какой мере не уместна. Потому что, хотя мы забываем со временем прежний язык и учимся новому, а также куче других полезных навыков, — никто, никогда по-настоящему не становится взрослым, это мы каждый про себя знаем, хотя вслух отваживаемся признать не всегда. Нет такого. Есть только языки, которые обращаются к разным уровням нас.
Словом, Гессе сложно перечитывать. Зато, если преодолеть неуловимую, мучительную неуместность и позволить в голос откликнуться тому, что там где-то неосознанно жаждет откликнуться, тут-то и начинается самое интересное.
Так вот, Нарцисс и Гольдмунд. Нарцисс — монах и ученый, изощренный мыслитель, искатель духа. Гольдмунд — бродяга и донжуан, художник, искатель чувственности. Они знакомятся в монастыре Мариабронн, один еще юноша, другой совсем ребенок, немедленно пламенно привязываются друг к другу, две блестящие противоположности, учитель и ученик, и очень скоро расстаются, чтобы прожить свои пути по отдельности.
Никогда на самом деле не расстаются.
Эта книжка может быть романом воспитания. Главный спутник читателя — наивный, порывистый Гольдмунд, именно вместе с ним мы проходим путь взросления, поиска предназначения, основной сюжет — это его духовный путь и переломы судьбы. Но книга называется "Нарцисс и Гольдмунд", и вычесть второй знаменатель как вспомогательный значило бы обеднить ее ровно наполовину.
Эта книжка может быть художественно оформленным размышлением о вечном споре дионисийского и аполлонического начал, умственного и интуитивного, духовного и чувственного, аскетического и мирского, мужского и женского, противоположных способов познания мира, составляющих единство. Какой путь по-настоящему приближает человека к жизни? Этот разговор всегда будет интересовать автора: он продолжится в "Игре в бисер", между Йозефом Кнехтом и его другом-соперником Плинио. Но это только общая схема, замысел, который, может, в голове автора и был, но с первых же строк начал жить собственной жизнью — как, собственно, и полагается.
Эта книжка может быть сложным романом-мистерией, не зря ее другое название — «Смерть и Любовник». Таро, юнгианство, алхимия — Гессе обожал и много и с удовольствием играл во все это. (Вы помните, что игра — это всегда серьезно, правда?) Однако именно мне как читателю мистический трактат дает меньше, чем художественная книжка, поэтому я не буду так читать.
У Гессе Нарцисс говорит Гольдмунду:
"Если бы ты вместо того, чтобы идти в мир, стал мыслителем, то могло бы случиться непоправимое. Ты бы стал мистиком. Мистики — это, коротко и несколько грубо говоря, те мыслители, которые не смогли освободиться от представлений, то есть вообще не мыслители. Они втайне художники: поэты без стихов, художники без кисти, музыканты без звуков."
Но у Гольдмунда был его резец и его деревянные фигуры; он стал художником, выражавшим тайное, интуитивное знание сразу через делание. И Гессе был художником, и все богатство мистических образов — палитра для его кисти.
Так что, если быть снова до конца честной, я — просто потому, что мне ближе именно так — читаю эту книгу, как роман о любви. О связи, которая возникает между двумя людьми, каждый из которых проживает собственную личную историю поиска. Эта любовь начинается как ученичество и оборачивается уроком в целую жизнь для обоих; не глядит на расстояние и время; не может быть отменена, что бы ни произошло; вызывает к жизни настоящее искусство, потому что в данном случае не может иметь другого воплощения — но это не имеет значения. Нарцисс говорит Гольдмунду: "наша дружба вообще не имеет никакой другой цели и никакого другого смысла, кроме как показать тебе, насколько ты не похож на меня", и ошибается. Их дружба имеет смысл постольку поскольку каждый из них черпает из нее новое знание о себе — и даже не столько знание, сколько вдохновение познавать. Это общий путь поиска личной истины, собственного языка и внутреннего смысла, пройденный ими совершенно по отдельности и в то же время в постоянном ощущении присутствия другого. Это, конечно, история о настоящей любви.
Мне так читается, во всяком случае.
Кто только не критиковал уже менеджмент Великого потопа. Даже жуки-древоточцы — и те. (Постарался Джулиан Барнс в "Истории мира в 10 1/2 главах".)
Пингвины, кажется, еще нет, но рано или поздно это должно было случиться.
Основная проблема пингвинов заключалась в том, что их было трое. И хотя третий был поменьше, он все равно считался. И хотя он был мелкая упрямая надоеда, он все равно считался. И хотя он, так получилось, как раз вдрызг рассорился с друзьями, не встретился с вестницей-голубкой и ничего не узнал о том, что готовится Потоп, и что Ковчег отходит ровно в восемь, и первые два пингвина уже совсем успели решить, что он сам виноват, и раз вел себя гадко, пусть, стало быть...
Словом, они запихнули его в чемодан и протащили на Ковчег контрабандой.
Если у вас найдется минутка, чтобы поговорить о боге с пингвинами, то можно обсудить несколько важных вещей: например, спасать ли товарища, если это, по всему, нарушает божественный план? А еще: если пингвин плохой, то из-за того ли это, что его таким создал бог? умеет ли бог признавать свои ошибки? как уверить одного замотанного директора плавучего зоопарка, что с ним разговаривает всевышний, и почему иногда не стоит лишний раз выпрашивать чизкейк? если ты не веришь, что бог живет в чемодане, значит ли это, что ты не веришь в бога? одобряет ли бог межвидовые союзы? похож ли бог на тостер?
Это — и куча других очевидных вопросов по существу, которые у каждого здравомыслящего начинающего человека просто сами собой напрашиваются.
Боже, храни пингвинов.
Кажется, что про эту пьесу все (и я сама) уже десять раз отговорили свое, когда она только появилась, а потом и отличный спектакль в РАМТе. В связи с «Берегом утопии» о стольком можно говорить, что лучше даже и не начинать.
Это бал, на котором маски — персоналии истории нашей с вами литературы, ну эти, несчастные «школьные» классики, и они перепроживают на глазах изумленной публики собственные труды и мемории, усердно проштудированные вкопчивым автором.
Хозяин бала — «диалектический рыжий кот», гегелевский Абсолют, бессмысленная, безжалостная История, которую человеческому разуму потому-то и потому-то угодно наделять волей творить сюжеты. В роли Истории — драматург Том Стоппард, мастер изысканных смысловых рифм, повторяет всякий мотив, как положено, дважды.
Можно говорить о том, почему каждое слово в пьесе звучит по сию пору мучительно современно.
Бакунин рассуждает, что если продать пару дворовых Станкевича, он мог бы три года изучать идеализм в Берлине. Чаадаев вскидывает бровь на предложение Шевырева заменить в его статье для публикации два слова — «Россия» и «мы» — на «некоторые люди». Герцен рассуждает, «что не так на картине»: «Молодые дамы и господа скользят лебедиными парами по катку. Колонна поляков, бряцая кандалами на ногах, тащится по Владимирской дороге. Что не так на картине?» «Так между кофе и бессмертием души ты всех друзей растеряешь», — говорит Огарев Герцену.
Можно говорить о том, как и почему немецкий идеализм пришелся по душе русским интеллектуалам начала XIX века.Можно говорить, как любая, десять раз выстраданная, идеология неумолимо расходится с реальностью, и как с этим жить дальше.
Можно говорить о том, как Том Стоппард увлекся феноменом русской интеллигенции XIX века, прочтя эссе Исайи Берлина, которые, вот кстати, совсем недавно переиздали в издательстве «НЛО» («История свободы. Россия»). Можно говорить о том, как Исайя Берлин познакомился с Анной Ахматовой в 1945 году и на всю жизнь остался очарован величием духа, выживающего в плену. Можно говорить о том, что один великий кембриджец по происхождению рижанин, другой великий кембриджец — чех.
Можно говорить о Герцене, который проницательный мыслитель, ироничный и точный, а еще страстный певец здравого смысла и человеческого достоинства, и здесь он внимательно прочитан как таковой.
«Отдавать можно только добровольно, только в результате свободного выбора. Каждый из нас должен пожертвовать тем, чем он сам решит пожертвовать, сохраняя равновесие между личной свободой и потребностью в со-действии с другими людьми, каждый из которых ищет такое же равновесие. Сколько человек — самое большее — могут вместе выполнить этот трюк? По-моему, гораздо меньше, чем нация или коммуна. Я бы сказал, меньше трех. Двое — возможно, если они любят, да и то не всегда.»
Можно говорить об эмиграции, революции, смене поколений, национальном самоопределении, свободах и ценностях, но все вот это, о чем лучше даже не начинать, совсем не так интересно, как частные истории частных людей, которые для чего-то ищут истину.
Можно говорить о том, что, кажется, в любом поколении, в любое время, начав спорить о качестве кофе, непременно окончишь — о бессмертии души, или о необходимости реформ сверху или революции снизу, или о том, должен ли художник воплощать своей жизнью то, во что он верит, или художник никому ничего не должен, кроме мирового духа, а может быть, и ему. Или на кофе все, наоборот, закончится. Как пойдет.
Можно говорить о том, почему важен поиск.
«Надо двигаться дальше, и знать, что на другом берегу не будет земли обетованной, и все равно двигаться дальше. <...> Так что пока мы не перестанем убивать на пути к ней, мы никогда не повзрослеем. Смысл не в том, чтобы преодолеть несовершенство данной нам реальности. Смысл в том, как мы живем в своем времени. Другого у нас нет.»
Некоторые книги обнимают тебя всеми мшистыми стенами каменных замков, упругими парусами своих кораблей, хитро оплетают тебя своими дорогами и уносят, спеленутого, куда-то в горизонт. Другие катают на безостановочной карусели, давая время от времени перепрыгнуть с лошадки на львенка и ощутить восторг и ужас свободного полета. Еще совсем третьи устраивают тебе тягостные сцены с битьем посуды, в которых ты — не что-нибудь, а вон тот фарфоровый молочник.
Любая книга Джулиана Барнса — такой идеальный собеседник. Он сидит напротив тебя в удобном кресле, сухой, с прямой спиной, блестяще эрудированный, неизменно ироничный. Истории, которые он рассказывает, сделаны изящно и умно, как шкатулки с секретом, в которых секрет называется "человеческий фактор". Ужасное облегчение обнаружить, что кто-то такой уравновешенный, такой проницательный и здравомыслящий — рядом, когда смотришь в ту самую сторону, куда взгляд постоянно возвращается сам собой. В сторону свинцовой заслонки.
"Нечего бояться" — протяженное эссе о смерти.
Твой собеседник слегка опускает глаза и вполне по-английски безжалостно начинает нанизывать одно за другим на прочную шелковую нить:
— как он не верит в бога, но чувствует, что ему его не хватает, и жеманство ли это;
— как утешением танатофобу служат те, кому еще хуже: возьмите Рахманинова;
— почему истовый атеизм провоцирует больше, чем истовая религиозность;
— смыслы жизни по Ричарду Докинзу, и чем нам эта история, в итоге, помогает;
— много знаменитых французских смертей, но порядком и всяких иных;
— можно ли умереть хорошо;
— и что, черт подери, делать в этой неловкой ситуации с субьектом;
— а с родственниками?
— справедливо ли играют фантасты, обесценивая вечность;
— что, если мы никогда не избавимся от иллюзии свободы воли, потому что для этого требуется акт свободной воли, которой у нас нет?
Эти все хрустальные бусины перемежаются другими: опытами личного, не умственного соприкосновения с умиранием и старением. То есть, вновь и вновь возвращая то, что мы называем своим умом, из отвлеченных блужданий — к свинцовой заслонке.
Вы не поверите, но это очень забавная книга.
И, напоследок, про бедность беллетризации жизни:
"В романах (мои не исключение) люди представляются существами, обладающими в целом постижимыми, пусть иногда и скользкими характерами и мотивациями, вполне различимыми для нас, если не для самих героев. Это есть утонченная, более правдивая версия газетного подхода. Но что, если на самом деле все совсем не так? Тогда, наверное, я включу Автоматическую Защиту 1: коль скоро люди представляют себя существами, наделенными свободной волей, сформировавшимся характером и вполне твердыми убеждениями, такими их и следует запечатлевать романисту. Однако уже через несколько лет это может показаться наивным самооправданием обманувшегося гуманиста, неспособного разобраться в логических выводах современной мысли. И все же я пока не готов воспринимать себя — или вас, или героя своего романа — как процесс распределения нейронов, не говоря уж о замене "я", или "он", или "она" на "это" и "оно"; однако должен признать, литература сегодня отстает от того, на что способна действительность."
Не то чтобы Пинчон бросает читателя посреди бездны и отказывается вести дальше. Не, бездна у него все время зыбко просвечивала через нагретый калифорнийским солнцем асфальт и ослепляла проблесками, и теперь мы еле-еле затормозили у края. И он, конечно, прекрасно знал, куда ведёт читателя, дорогой упоротой грёзы.
Но теперь вы с бездной остаетесь наедине. Ну, и дымящаяся тачка.
Есть такой запрещенный авторский прием, он называется «убить котенка», простой, незатейливый, работает всякий раз. Берется самый трогательный персонаж, потом самое мучительное, что может с ним произойти — и именно оно-то и производится. Эффект всегда повторяется. Вот в «Бегущем за ветром», например. Кажется, что Хоссейни принес на ярмарку целую корзинку котят и смешную разноцветную игрушечную полосу препятствий, и вот мы знаем прекрасно, что дальше с ними со всеми будет, но наблюдаем абсолютно упоенно. Эффект повторяется. В этом смысле Хоссейни похож на Гюго — совершенно твердой рукой он пишет полотна чувств, яркими, широкими мазками, это не может не подкупать, и каждая деталь сделана так, чтобы вы сидели бы молча, как-нибудь, то есть, сжав пальцы, и следили бы за этими обреченными котятами, которым страшно интересно жить. Вы механизмы видите, это слегка раздражает, но вы сидите и следите. Пока котята не кончатся.
А потом он меняет точку зрения и непринужденно выводит читателя из пространства большой драмы.
Впрочем, погодите, следующая комната может оказаться еще увлекательнее.
Мне кажется так: качество, которым обладают все главные герои «Эха» — кроме мальчика Абдуллы, может, — это малодушие в том или ином изводе. (Воздержусь перечислять, чтобы не портить магию авторской истории, расставленной на тысяче маленьких изящных повествовательских ловушек.)
Каждый из них натыкается на определенную точку невозврата, после которой очевидно, что был сделан выбор. Во время событий, конечно, совсем не всегда очевидно, а вот погодя, оглянувшись, — точно. Читателя-то от чувства обреченности спасает постоянно меняющаяся система координат. Новые рассказчики увлекают нас дальше, выводя историю на следующие круги, а вот покинутые нами — остаются сами с собой. Снаружи события могут выглядеть как угодно, но каждый, каждый сам про себя знает, что — выбрал, что именно он выбрал и почему. Уже став персонажами чужой истории, они день за днем после этого дальше живут, спиной вперед, зачарованно глядя на эту самую точку невозврата. Как? как именно? Вот что в них во всех самое интересное. Вот что лично мне во всем этом эпическом полотне ужасно интересно.
С этим-то вопросом нас и оставляют.