Четыре книги Мих. Лифшица

Иногда для того чтобы заинтересовать какой-то книгой,
хватает цитаты. За последнее время я в буквальном смысле заглотил четыре книги
философа Михаила Лифшица (1905-1983, ведущий советский и, возможно, мировой
философ-марксист, историк культуры, интеллектуал, участник литературных
дискуссий 1930-х и вообще дико важная фигура в советской культуре и
культурологии), так что одной цитатой дело не ограничится – тем более, что
цитировать там хочется как можно больше.
Вот, например, очень интересные рассуждения Мих. Лифшица о
дадаизме и прочем – из книги «Лекции по теории искусства. ИФЛИ 1940»:
«…дело здесь не только в повальном безумии, которое охватило людей,
выдумавших, что живопись подобна тому, что может изобразить хвост ослиный –
хвост, во время некоей своей вибрации в пространстве, что эта живопись
представляет собой нечто абсолютное и что она способна осуществить движение
вперед человеческого сознания. Так что мимо таких явлений, какие бы они ни были
по содержанию, пусть даже крайне нелепые и
странные, все же нельзя проходить как мимо случайных вещей, стыдливо закрыв
глаза. Ведь это же продолжалось десятилетия и в Западной Европе не умерло и
сейчас. Возьмите любой журнал американский или западноевропейский по искусству,
и вы найдете там всю эту беспридметность и все эти дадаистические
формалистические вывихи в искусстве и в настоящее время. Это указывает на то,
что мимо этого обстоятельства пройти нельзя. Очевидно, здесь все-таки и в этих
страшных исторических гримасах умирающего старого мира выразилась какая-то
существенная черта, которую, по крайней мере, нам в нашей истории игнорировать
и забывать нельзя.
Второе соображение (и это мне тоже один товарищ после прошлой лекции
сказал), которое можно здесь высказать, заключается в показном логическом
отрицании. Положение, которое привело к дадаистическому ничевочеству, к полному
отрицанию всего, ведь это положение, которое шло через импрессионистов и через
кубистов и через различные линии и формы стилизации, в конечном счете привело к
полному отрицанию художественного творчества вообще. Ведь здесь была какая-то
неизбежность, поскольку действительно старые формы превратились в академические
шаблоны, эти академические шаблоны устарели, они стали ложными, как ложным стал
какой-нибудь подделанный современными техническими средствами мрамор, они стали
уже суррогатами, чем-то заменившими настоящую конкретную жизнь в искусстве. И
поэтому насмешка над ними, профанация этих форм, издевательство и полное их
отрицание может быть рассматриваемо как полезное дело в некоторой степени, дело
расчистки почвы, до некоторой степени революционное дело. И было замечено, что
эта логика отрицания имеет очень старые и глубокие корни.
В частности, этот дадаистический цинизм в разных направлениях живет даже в
литературе и по сей день и сказывается, например, в трактовке всяких
физиологических проблем отношений между полами. Этот дадаизм со всей своей
логикой развенчания условностей имеет очень старые корни. Его можно найти у
Гельвеция – желание развенчать всякого рода условности. Но Ларошфуко не так
писал, как Мандевиль, который доказывал, что буржуазное общество основано на
пороках, что пороки лучше добродетели, потому что они связывают людей. И,
наконец, можно найти подобные идеи в античности в эпоху софистов и т.д. Так что
эта идея отрицательного разоблачения условностей, норм и шаблонов, она
коренится очень глубоко в прежней истории…»

А вот что он писал о Солженицыне, это уже из книги Varia:
«Солженицын сказал однажды Твардовскому, что 1937 год был отрыжкой
1929-1930-х годов, то есть наказанием за разгром крестьянского хозяйствования.
Этот взгляд Солженицына совпадает со взглядом Сталина, который однажды сказал в
1937 году, когда в ЦК полился поток писем и жалоб: ”А, взвыли! А когда мы
тронули с места два миллиона крестьян – молчали?” Сталин чувствовал себя ”бичом
божиим”. Это так.
Но Солженицын останавливается на 1929-1930-х годах.
А почему? Разве этот разгром был бы возможен без жадного уравнительного раздела
помещичье земли, без уравнительной волны октябрьских времен? Разве он не был
его продолжением? Кто были люди, творившие ”ликвидацию” и ”коллективизацию”? Не
крестьянские ли дети в гимнастерках и кожаных куртках, поддержавшие Сталина
против партийного боярства и обрушившиеся сверху на своих? Конечно, это было не
простой акцией бедноты, как это описывает Шолохов, а ”революцией сверху”, как
гов[орит] Сталин в ”Кратком курсе”, но все же революцией, воплощением уравнительно-всеобщего
начала.
Значит, во всем виновата революция? Так думает
Солженицын теперь (1974 год, когда я переписываю эти строки). Мещанский вздор,
возвращение к самой жалкой обывательщине. Александр Блок лучше понимал в начале
революции, почему жгут помещичьи усадьбы (хотя они были ему, наверное, более
дороги, чем Солженицыну), ибо он был мыслящим человеком из дворян, а не из
вышедших в люди кулаков, владельцев экономий, будущих офицеров военного времени
и ”прогрессивных” технократов.
Кстати говоря, господин Солженицын, вы забыли или
не знаете, что сами являетесь выходцем или более отдаленным продуктом той
уравнительной волны, которая обрушилась на оскудевшее дворянство, которая
привела к гибели ”Вишневых садов”. Ваши предки просто раньше начали, чем
хунвейбины тридцатых годов. Почему же вам не понести то наказание, которое вы
считаете справедливым по отношению к другим?
Кстати, чем бы вы были, если бы не октябрьская
революция? Проживали бы накопленное добро или, в лучшем случае, стали бы
небольшим декадентствующим прозаиком. Может быть, - и это уже в лучшем случае,
- эпигоном Бунина. Революция дала вам все – общий душевный подъем и народную
трагедию в качестве самого большого и единственно ценного содержания вашего
творчества…»

А вот о Кафке (из письма Владимиру Досталу, 26 ноября 1963
года):
«Я не говорю уже о тех обстоятельствах, которые сопровождали его творчество
и появление его произведений в печати. Здесь нет игры и рекламы, мистификации и
мистики. То, что обычно находят у Кафки – какие-то приметы будущих тоталитарных
режимов, угаданные на основании мелких признаков, не кажется мне столь
существенным. Если я не ошибаюсь, то в центре его мира стоит один действительно
важный феномен – узость, малость всего человеческого, выступившая на поверхность в период превращения большинства людей в римских
колонов и вольноотпущенников гигантской централизованной силы. Его человек,
имеющий все признаки человека, - существо настолько измельченное, стиснутое
обстоятельствами, втянутое в конвейер жизни, несмотря на внешнюю
респектабельность мелкого чиновника или пенсионера, что все человеческие
отношения, которыми люди привыкли гордиться, которые они обычно идеализируют,
имеют здесь слишком тесные границы. Все становится до ужаса просто. Это как
если вы провожаете близких, совершили весь ритуал, а поезд не идет. Почему не
идет? Неважно – то ли путь закрыт, то ли электростанция не работает. Прошли уже
все сроки, все слова сказаны, все возможности исчерпаны. Вы начинаете тихо
ненавидеть виновников вашего ожидания, притворяетесь перед ними и перед самим
собой, но в конце концов – есть же границы! В старой литературе прощание, даже
трагическое, совершалось по всем правилам, благородно, идеальная оболочка
человека была еще сильна. А в мире Кафки все слишком тесно, слишком прямо,
примитивно, словом – в духе цивилизации двадцатого века, разделенной на
миллиарды мелких ее потребителей. И вот почему здесь открывается некая правда,
недоступная литературным формам более раннего времени, хотя на этот счет многое
уже сказали и Монтень, и Ларошфуко, и Паскаль. Что касается литературной
стороны дела, то повторяю, что Кафка кажется мне художником: он свои
гофмановские фантазмы и аллегории излагает простым и ясным языком реальности.
Схватить этот контраст и есть именно дело художника…»
И еще несколько цитат из Varia, мимо которых совершенно невозможно пройти:
«-Почему вы так зло пишете?
- Один мой приятель был на приеме у Калинина в последние годы его жизни. Пока
шел разговор, Калинин все время резал ножницами белую бумагу. Если бы я был на
его месте, я резал бы ножом письменный стол…»
«Характерная черта времени, последнего времени – всюду одна толпа, снизу
доверху, справа и слева. Задыхаюсь…»

«”Грабь награбленное!” – это вещь такая, которой конца нет, переделы!
Когда началось отречение от нэпа, сначала нэпманов разоряли. Их облагали все
более высокими налогами и требовали уплаты их по несколько раз. Один маленький
хозяин типографии, помещавшейся в подвале и печатавшей объявления, уплатил все,
что с него причиталось, но “фин” требовал еще, хотя квитанции об уплате были налицо.
Тут действовало правило: “истина имеет классовый характер“, “бесклассовой
истины нет“. Нэпман, зная Луначарского, кажется, оказывал ему какие-то услуги в
былые времена, и тот обратился в Наркомпрос. А.В. написал Крыленко письмо
примерно такого содержания: “мы можем отменить те законы, которые сами издали,
но мы не имеем права развращать наш аппарат беззаконием и ложью“.
Ответ был краток: “Анатолий Васильевич! Охота Вам защищать нэпманов! “
Вспомнил ли этот случай Крыленко, когда его самого взяли за бока, приписывая
ему ложное дело?
Молотову на конференции задали вопрос: “У нас на себе есть поп, но он против
советской власти не агитирует. Как быть? “Молотов ответил: “Поп у вас есть. А
пруд есть?“
Бешеные аплодисменты. Дело было в начале тридцатых…»
«Андрей Платонов, сидя за стопой водки в нашей доброй
компании и узнав, что арестован Динамов или другой какой-то сатрап, окруженный
теперь венцом мученичества, сказал: “Братцы, а не в нашу ли это пользу?“…»
И, наконец, моя любимая: «Всю жизнь человек разгадывает свою
загадку. Моя уже, кажется, разгадана. Не удовлетворен…»
Читайте Мих. Лифшица – не пожалеете!










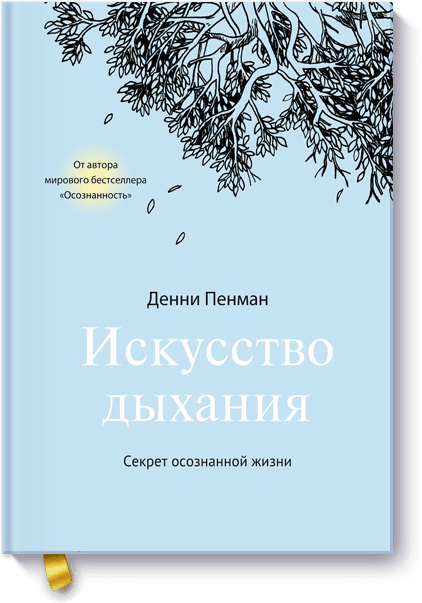 В день мы делаем 22.000 вдохов и выдохов.
В день мы делаем 22.000 вдохов и выдохов. 
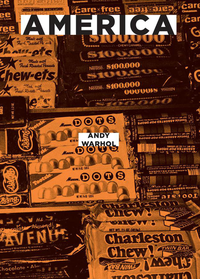








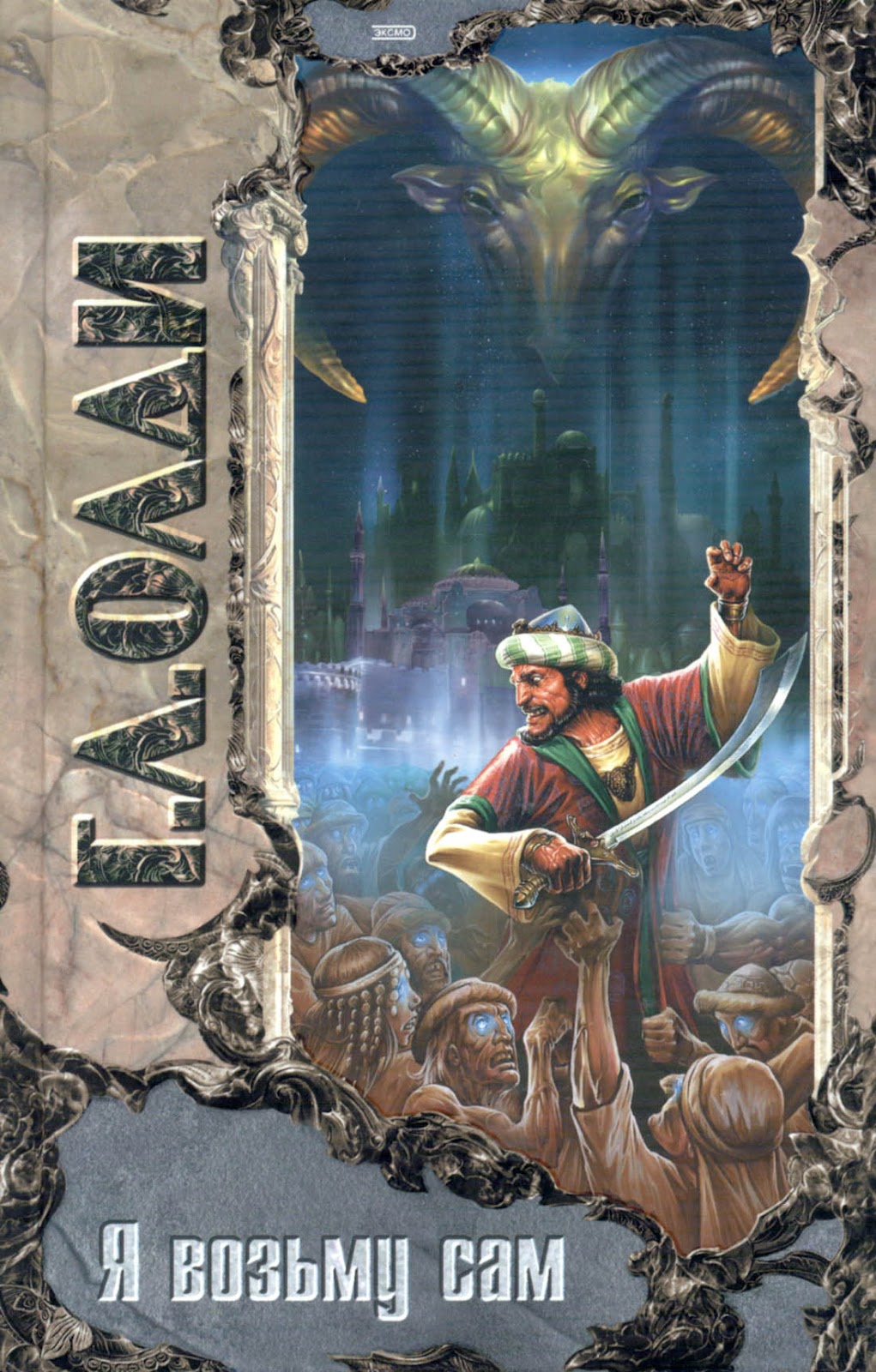 Я давно не была так влюблена.
Я давно не была так влюблена. 


