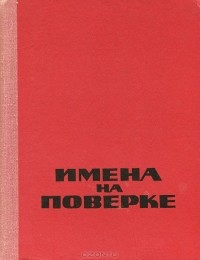"Слепота", Жозе Сарамаго
Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Слепота. «Мы слепы», — подумал однажды подмастерье, после чего сел и написал «Рассуждение о слепоте», чтобы напомнить тем, кто, быть может, прочтет его, что, унижая жизнь, мы извращаем разум, что человеческое достоинство ежедневно попирается сильными мира сего, что множественность истин заменена одной универсальной ложью и что человек перестал уважать самого себя, когда потерял к прочим представителям рода человеческого уважение, которого они заслуживают. И тогда подмастерье, словно в попытке изгнать бесов, порожденных слепотой рассудка, стал писать самую простую из своих историй: один человек ищет другого, потому что понимает — ничего важнее не может потребовать от него жизнь. Ибо Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Господь? Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы преткнуться ему; бойся Бога твоего. Я Господь. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. И когда приносишь в жертву слепое, не худо ли это? или когда приносишь хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф. Говорит? Еще как говорит. А нетерпеливые водители, то выжимая, то отпуская педаль сцепления, все равно не дают своим машинам покоя, и те чуть поерзывают вперед-назад, нервно подрагивают, как кони при виде хлыста. Пешеходы уже прошли, но сигнал, именуемый разрешающим, появился лишь через несколько секунд, укрепляя кого-то во мнении, что именно эта заминка, которая кажется столь незначительной, умножившись на тысячи светофоров по всему городу, постоянно чередующих свои три цвета, и есть главная причина тугой закупорки уличных артерий, пробок, проще говоря. Наконец дали зеленый, и когда пошли к нему Сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: порази их слепотою. И Он поразил их слепотою по слову Елисея. Изумляйтесь и дивитесь: они ослепили других, и сами ослепли; они пьяны, но не от вина, — шатаются, но не от сикеры; а так не скажешь. На вид, то есть на первый и неизбежно в таких обстоятельствах беглый взгляд, оба глаза у них целы и невредимы, радужка блестящая и светлая, склеры белые и плотные, как фарфор. Обычное дело: сдох акселератор, гидравлика накрылась, заело что-нибудь в коробке передач, заклинило тормозные колодки или отошел контакт, а, может, просто бензин кончился. Новое скопление пешеходов, образующееся на тротуарах, видит, как за лобовым стеклом размахивает руками водитель, слышит, как истошно сигналят ему задние. Одни уже выскочили на мостовую с намерением оттолкать застрявшую машину с проезжей части на обочину, другие стучат негодующе в поднятые стекла, а человек за рулем вертит головой туда-сюда, кричит что-то, и по шевелению его губ можно понять, что он повторяет одно и то же слово, нет, не одно, а два — два, что подтвердится, когда удастся наконец распахнуть дверцу: Я ослеп. И всех людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа. И автомобили здесь брошены другие, дорогие, просторные, вместительные, удобные, вот почему столько слепцов желает ночевать в них, и, судя по всему, этот огромный лимузин превращен в чье-то постоянное обиталище, потому, надо думать, что возвращаться к машине легче, нежели в квартиру, и занявшие его поступали, наверное, как те слепцы в карантине, ощупывали и отсчитывали машины от угла: двадцать семь, левый ряд, вот я и дома. А в доме, у подъезда которого стоит этот лимузин, находится банк. Сюда на еженедельное пленарное заседание, первое после начала эпидемии белой болезни, привезли председателя совета директоров, но отогнать машину в подземный гараж, где она ожидала бы окончания дебатов, уже не успели. Шофер ослеп в тот миг, когда председатель через центральный подъезд, как ему нравилось, вошел в вестибюль банка, закричал, это мы все о шофере, но он, а это уже — о председателе, не услышал. Впрочем, и заседание оказалось не таким уж пленарным, как предполагалось и каким бы ему полагалось быть, ибо за последние дни ослепли некоторые члены совета директоров. И председатель не успел объявить об открытии сессии, на которой собирались именно обсудить, какие меры следует принять по поводу внезапной слепоты всех членов наблюдательного совета, и не успел даже войти в расположенный на пятнадцатом этаже конференц-зал, потому что поднимавший его лифт застрял между девятым и десятым — электричество отключилось, причем, как оказалось, навсегда. А поскольку известно, что пришла беда — отворяй ворота, в этот самый миг ослепли электрики, ответственные за внутренние сети и, следовательно, за бесперебойное функционирование генератора, старинного, давно уже подлежавшего замене на автоматический, и в результате, как уж было сказано, лифт стал намертво между девятым и десятым этажами. Председатель увидел, как ослеп сопровождавший его лифтер, а сам потерял зрение час спустя, а поскольку электричество так больше и не включилось, а случаи слепоты в банке в тот день почему-то участились, то, надо полагать, эти двое и сейчас еще пребывают там, мертвые, разумеется, замурованные в стальном гробу кабины и потому счастливо избежавшие участи быть сожранными бродячими псами. Сумасшествием и оцепенением сердца тоже поразил их Господь. И стали они ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит впотьмах, и не имели успеха в путях своих, и теснили и обижали их всякий день, и никто не защитил их. Бродили, как слепые по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одеждам их. Осязали, как слепые стену, и, как без глаз, ходили ощупью; спотыкались в полдень, как в сумерки, между живыми — как мертвые. Стражи их слепы все и невежды: все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. А ну, тихо, сказал главарь, еще не все. Плотно ухватил девушку в темных очках и восхищенно присвистнул: Ух ты, подфартило нам сегодня, такое богатство подвалило. Войдя в раж и не выпуская девушку, другой рукой провел по телу последней в шеренге и снова присвистнул: Малость переспелая, но тоже хороша, хороша, очень даже. Дернул к себе обеих и, в предвкушении едва не захлебываясь слюной, объявил: Эти две мои, потом получите, как оприходую. И потащил в глубь палаты, где штабелями громоздились коробки, жестянки, пакеты с продовольствием, которого хватило бы на целый полк. Все женщины уже подняли крик, перебиваемый звоном оплеух, глухими ударами, ревом: Да не ори, тварь, что вы за народ такой, не можете не скулить. Врежь ей еще, пусть заткнется. Ничего, это поначалу, распробует, потом сама еще попросит. Ну, разложите вы ее, сколько можно, нет больше сил терпеть. Уже пронзительно выла под грузным слепцом та, которая не спит по ночам, четырех других взяли в кольцо, плотно обступили, тянули в разные стороны, отпихивая друг друга, огрызаясь, как гиены над полуобглоданной падалью, стягивали с себя штаны. Но проклят, кто слепого сбивает с пути! И весь народ сказал: аминь; привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? глаза людей сих ты захотел ослепить? не пойдем! Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. И явился средь них тот, кто был глазами слепому и ногами хромому; и повел слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями повел их; мрак сделал светом пред ними, и кривые пути — прямыми: вот что он сделал для них и не оставил их. В тот вечер опять читали и слушали чтение, иных развлечений у них не было, и как жаль, что доктор не был, к примеру, виолончелистом-любителем, ах, какие нежные мелодии полились бы тогда с пятого этажа, лаская слух соседям, которые с завистью думали бы, наверно так: Ишь, как у них там весело, или: Есть же такие бесчувственные люди, думают убежать от своего несчастья, смеясь над несчастьем других. Но нет, иной музыки, кроме той, что звучит в словах, из окон не доносится, слова же, особенно написанные в книгах, скромны и негромки, так что если кому-нибудь придет в голову подслушать у двери, он ничего не разберет, кроме одинокого бормотания, тянущего длинную нить звука, который способен продолжаться бесконечно, ибо количество книг в мире бесконечно, как, говорят, и сам этот мир. Только ничего хорошего из этого все равно не выйдет. Сами увидите. «Я — не безбожник, — сказал подмастерье. — Ежедневно я пытаюсь отыскать приметы Бога, но, к несчастью, мне это не удается».
В композиции использованы фрагменты Танаха, цитаты из романа Жозе Сарамаго «Слепота» и его Нобелевской лекции 1998 г. в переводе А.С. Богдановского.
Впервые опубликовано на Букнике.