"Нарцисс и Гольдмунд", Герман Гессе
Как любую романтическую книжку о любви, "Нарцисс и Гольдмунд" лучше первый раз читать в юности.
Если мы, конечно, выбираем ее читать именно так, а я сейчас вам расскажу, почему я так выбираю. А то есть, конечно, книжки о любви и книжки о любви. В случае "Нарцисса и Гольдмунда" у нас имеется целый диапазон ракурсов, в которых может быть прочитана эта история, и ни один из них мне не нравится.
Давайте объяснюсь.
Герман Гессе, пророк ищущих духовности юношей, подкупает их тем, что разговаривает об этом страстно и совершенно прямо. Совсем немножко времени проходит с подросткового возраста, и мы начинаем этого стесняться, это ощущается старомодным, это язык, которым сейчас даже если и чувствуют, то вслух не говорят без сотни оговорок, ну просто — не говорят. Говорят другим. Но, судя по всему, он по-прежнему глубоко отвечает тому месту в душе, которое истово болит и ищет выражения, когда тебе 15 или 16, и ирония здесь ни в какой мере не уместна. Потому что, хотя мы забываем со временем прежний язык и учимся новому, а также куче других полезных навыков, — никто, никогда по-настоящему не становится взрослым, это мы каждый про себя знаем, хотя вслух отваживаемся признать не всегда. Нет такого. Есть только языки, которые обращаются к разным уровням нас.
Словом, Гессе сложно перечитывать. Зато, если преодолеть неуловимую, мучительную неуместность и позволить в голос откликнуться тому, что там где-то неосознанно жаждет откликнуться, тут-то и начинается самое интересное.
Так вот, Нарцисс и Гольдмунд. Нарцисс — монах и ученый, изощренный мыслитель, искатель духа. Гольдмунд — бродяга и донжуан, художник, искатель чувственности. Они знакомятся в монастыре Мариабронн, один еще юноша, другой совсем ребенок, немедленно пламенно привязываются друг к другу, две блестящие противоположности, учитель и ученик, и очень скоро расстаются, чтобы прожить свои пути по отдельности.
Никогда на самом деле не расстаются.
Эта книжка может быть романом воспитания. Главный спутник читателя — наивный, порывистый Гольдмунд, именно вместе с ним мы проходим путь взросления, поиска предназначения, основной сюжет — это его духовный путь и переломы судьбы. Но книга называется "Нарцисс и Гольдмунд", и вычесть второй знаменатель как вспомогательный значило бы обеднить ее ровно наполовину.
Эта книжка может быть художественно оформленным размышлением о вечном споре дионисийского и аполлонического начал, умственного и интуитивного, духовного и чувственного, аскетического и мирского, мужского и женского, противоположных способов познания мира, составляющих единство. Какой путь по-настоящему приближает человека к жизни? Этот разговор всегда будет интересовать автора: он продолжится в "Игре в бисер", между Йозефом Кнехтом и его другом-соперником Плинио. Но это только общая схема, замысел, который, может, в голове автора и был, но с первых же строк начал жить собственной жизнью — как, собственно, и полагается.
Эта книжка может быть сложным романом-мистерией, не зря ее другое название — «Смерть и Любовник». Таро, юнгианство, алхимия — Гессе обожал и много и с удовольствием играл во все это. (Вы помните, что игра — это всегда серьезно, правда?) Однако именно мне как читателю мистический трактат дает меньше, чем художественная книжка, поэтому я не буду так читать.
У Гессе Нарцисс говорит Гольдмунду:
"Если бы ты вместо того, чтобы идти в мир, стал мыслителем, то могло бы случиться непоправимое. Ты бы стал мистиком. Мистики — это, коротко и несколько грубо говоря, те мыслители, которые не смогли освободиться от представлений, то есть вообще не мыслители. Они втайне художники: поэты без стихов, художники без кисти, музыканты без звуков."
Но у Гольдмунда был его резец и его деревянные фигуры; он стал художником, выражавшим тайное, интуитивное знание сразу через делание. И Гессе был художником, и все богатство мистических образов — палитра для его кисти.
Так что, если быть снова до конца честной, я — просто потому, что мне ближе именно так — читаю эту книгу, как роман о любви. О связи, которая возникает между двумя людьми, каждый из которых проживает собственную личную историю поиска. Эта любовь начинается как ученичество и оборачивается уроком в целую жизнь для обоих; не глядит на расстояние и время; не может быть отменена, что бы ни произошло; вызывает к жизни настоящее искусство, потому что в данном случае не может иметь другого воплощения — но это не имеет значения. Нарцисс говорит Гольдмунду: "наша дружба вообще не имеет никакой другой цели и никакого другого смысла, кроме как показать тебе, насколько ты не похож на меня", и ошибается. Их дружба имеет смысл постольку поскольку каждый из них черпает из нее новое знание о себе — и даже не столько знание, сколько вдохновение познавать. Это общий путь поиска личной истины, собственного языка и внутреннего смысла, пройденный ими совершенно по отдельности и в то же время в постоянном ощущении присутствия другого. Это, конечно, история о настоящей любви.
Мне так читается, во всяком случае.








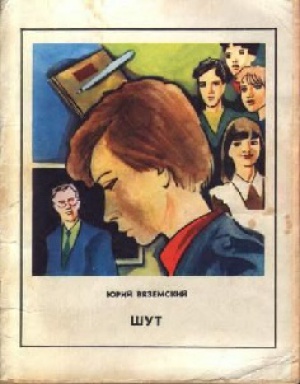 «Жил
был Шут. Но никто из окружающих не знал этого настоящего его имени. Отец звал
его Валентином, мать – когда Валенькой, когда Валькой. В школе называли его
Валей»
«Жил
был Шут. Но никто из окружающих не знал этого настоящего его имени. Отец звал
его Валентином, мать – когда Валенькой, когда Валькой. В школе называли его
Валей»