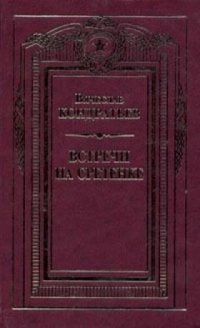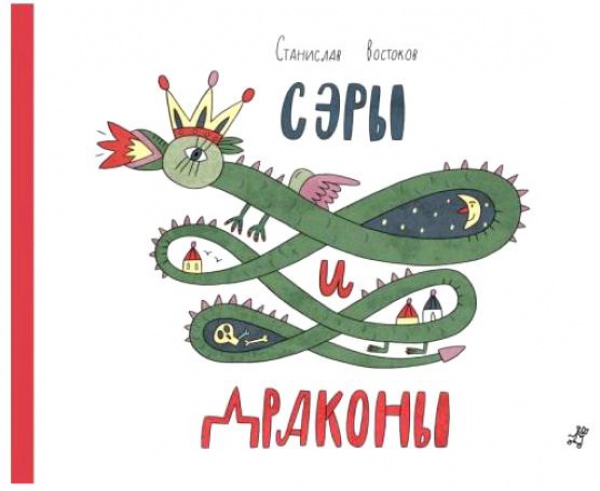К 94-летию Джанни Родари, случившемуся на прошедшей неделе
Заявление, что с Джанни Родари меня связывают мистические связи, звучит напыщенно. Перевод
— это работа, и нечего тут розенкрейцерство разводить. Но cудите сами. В 2007 году я
поступил на службу в издательство «Иностранка». А через год переехал жить в квартиру
на улицу Стасовой. И, заглянув в Википедию, убедился, что смутно знакомая с
детства товарищ Стасова была не только пламенной революционеркой (т. е.
хладнокровным нелегалом), но и, в течение восьми лет, главредом журнала «Интернациональная литература» —
того самого, от которого полвека спустя отпочковалось (и зажило отдельной непростой жизнью) издательство
«Иностранка».
«Занятно,
но при чем здесь Родари?!» — спросите вы. А при том, что моими соседями по
лестничной площадке на улице Стасовой оказались отличные парни из Калининграда,
которые приехали завоевывать Москву, объединившись в музыкальную группу под
названием «ДжаниRадари» (именно в таком написании). Что ж удивляться, что еще
через год-другой я сам стал переводить книги Родари — и перевел их четыре
штуки, в стихах и в прозе, про современных римских котов и про героев античных
мифов, про Рим и Венецию.
Здесь вы
снова спросите: «Как? Родари, коммуниста и друга советских детей, умершего в
80-м году, не всего перевели на русский?» Представьте себе — нет. Его
действительно много издавали в СССР, но это не значит, что много переводили.
Потому что, как и у всех итальянских коммунистов шестидесятых (а в то время
практически все интеллектуалы Италии, от певца римской гопоты Пазолини до
утонченного аристократа Висконти, были коммунистами или по крайней мере
левыми), его коммунизм прекрасно уживался с христианством, которое в СССР
категорически не приветствовалось, а классовое сознание — с
общегуманистическими ценностями, которые тоже считались «буржуазной мягкотелостью».
Поэтому издавали много, но довольно ограниченный набор произведений. Спору нет
— лучших, и, как правило, в изумительных переводах — но оставляя «за бортом»
всё то, что не укладывалось в представление о писателе-коммунисте. В частности —
«Гондолу-призрак», турусы на колесах о Венеции начала XVII века, или «Аталанту» —
авторское изложение мифа об одной из спутниц Дианы, единственной девушке на
корабле аргонавтов. Больше всего меня изумляет, что у советских редакторов так
и не дошли руки до милых стихов о котах города Рима. Они-то чем идеологически
подкачали?
Коты в кафе
Коты в кафе-мороженое,
Заходят осторожно,
Косятся на буфетчика,
И вид у них таков,
Как будто удивляются:
«Здесь разве не хозяйственный?
Зашли купить мы пилочек
Для наших коготков!»
Темнеет быстро в августе,
В кафе немноголюдно,
Коты скользят бесшумно
Меж столиков и ног.
Не досаждают детям,
Не рвут чулки синьорам
(К тому ж синьоры в августе
Все ходят без чулок).
Движения их медленны,
Глаза полуприкрыты,
Но лишь в кафе со столика
Вдруг что-то упадет —
Печенька или ягодка,
Комочек взбитых сливок, —
Увидите вы сами,
Как все произойдет.
Взметнется одним махом
Десяток силуэтов —
Кто самый расторопный,
Тот все и подхватил.
Вот только их шипенья
Не услыхать при этом:
Проехал мотоцикл,
Все звуки заглушил.
Впрочем,
надо прямо признать: мы не вспоминали бы о Родари тридцать с лишним лет спустя
после его неожиданной смерти на шестидесятом году жизни, если бы его огромное
и, честно скажем, неравноценное наследие (профессиональный журналист и
редактор, вынужденный заполнять полосы, особенно на Рождество, он порой
разрабатывал один и тот же сюжет в двух-трёх довольно похожих вариантах)
ограничивалось такими милыми зарисовками или даже прославленной лукаво-луковой
сказкой. Как ни обаятельны его персонажи — Чиполлино и Джельсомино, как ни
остроумны сюжеты про путешествие игрушечного поезда и пенсионеров, которые
становятся котами, Родари не вспоминали бы с такой любовью и не называли бы в
его честь поп-группы, если бы он не создал, ни много ни мало, новую детскую
литературу.
Попросту говоря — литературу для детей, живущих в маленьких квартирах большого города.
Где нет каких-то особых просторных «детских», в которых ребенок обитает как бы
в своем особенном изолированном мире с Щелкунчиком и Винни-Пухом, а родителей
видит, только когда Мэри Поппинс в клетчатом платье выводит его в столовую к
обеду поцеловать мамà. «Этот разговор с высот пусть прекрасных, но чужих, …
неуместен, как неуместна была в нашем детстве книжка «Детство Никиты» (внеклассное
чтение), — резко манифестировал в 1989 году поэт-концептуалист Сергей
Гандлевский. – При чем здесь Никита с его диковинным детством, когда сходить за
угол в кино — целая экспедиция: нарвёшься на Дьякона с Севой — велят попрыгать
и отберут мелочь, если гремит в карманах?».
Детство
Гандлевского – это как раз конец пятидесятых-начало шестидесятых. Будущий поэт
Сережа резко и даже болезненно почувствовал разрыв старого, довоенного мира
детства, описанного в уютных классических книжках, и мира нового, — где
взрослые обсуждают свои взрослые проблемы, собачатся, мирятся на глазах у
ребенка, эмоционально взрослеющего гораздо раньше (привет Джельсомино), и — да,
раньше познающего несправедливость и жестокость этого мира. А Родари сумел не
только выразить этот мир, но и мягко, ненавязчиво его обыграть, показать, что и
в нем, в этом мире телекоммуникаций («Сказки по телефону»), космических полетов
(«Джип в телевизоре») и разрушения привычных причинно-следственных связей
(«Сказки с тремя концами», предвосхищение гипертекста!) есть место добру,
сказке, чуду. И не только на Новый год. Хотя, конечно, на Новый год тоже.
Воробьиная просьба
Откройте слегка фрамугу,
Пустите меня скорей,
Я маленькая пичуга,
Продрогшая до костей.
Я наблюдал так долго
В замерзший квадрат окна,
Как вы украшали ёлку
И как хорошела она.
Как ветки легко согнулись
Под весом чудных плодов,
Гирлянды наверх взметнулись
Среди стеклянных шаров.
Нахохлившись, через раму
Я внутрь глядел, и вот
Пора начинать программу —
Да здравствует Новый год!
Позвольте же притулиться,
На ёлочке свить гнездо.
Ведь я небольшая птица
И я не внесу раздор.
Увидите, я не в тягость,
Я вежливый воробей.
Подумайте, что за радость
Окажется для детей.
Как ахнут они, обнаружив —
В игрушкой под мишурой
Среди серпантинных кружев
Кто-то сидит живой!
Сидит — и глазком блестящим
Читает у них в душе.
Живой он и настоящий,
А не из папье-маше!
Громко стучится сердце
Живое в его груди,
И надо ему согреться,
И надо его любить…
Дети добры к пичужкам,
Так что уж как-нибудь
С ними найду я дружбу,
Я же прошу чуть-чуть:
Свежей воды немножко,
Да миндаля кулёк;
Если остались — крошки
С блюда, где был пирог.
Радостный щебет птичий
Счастьем наполнит дом.
Введите в добрый обычай —
Дайте мне свить гнездо!

 «Ваша история — просто-таки тема для литературы: трагедия упущенного времени».
«Ваша история — просто-таки тема для литературы: трагедия упущенного времени».