К грядущему переизданию "Сговора остолопов" Джона Кеннеди Тула

...Это, в конечном итоге, книга о жирном парняге,
который обильно рыгает и много забавляется сам с собой. Не всякая мать увидит в
таком романе блеск таланта — пусть его и напишет ее единственный сын, гений.
Однако Тельма Тул увидела. А Тельма Тул, мать лауреата Пулитцеровской премии
Джона Кеннеди Тула, была образцом аристократизма, всегда при шляпке и
перчатках. Эксцентричного такого аристократизма.
После смерти сына в 1969 году миссис Тул (немногие
осмеливались звать ее Тельмой) не успокоится, пока не опубликует его «Сговор
остолопов». Позднее она будет рассказывать эту историю снова и снова — как она
впервые прочла рукопись: «...Я начала фыркать. А когда я смеюсь от души, меня
начинает тошнить. Поэтому пришлось остановиться. Я испугалась, что меня сейчас
вырвет». Эксцентрично. Рукопись придала ее жизни цель. И миссис Тул не только
опубликовала роман — она увидела, как книга стала бестселлером и в 1981 году
получила Пулитцеровскую премию. Миссис Тул прожила остаток своих дней в отсветах
славы — болтая с Джонни Карсоном на глазах у всей страны, раздавая автографы,
созывая репортеров на пресс-конференции и даже заставляя их петь по нотам под
собственный аккомпанемент на пианино. И они не смели отказаться: книга стала
сенсацией. Либо она оскорбляла новоорлеанцев, либо они ее любили. Но никто не
мог отрицать, что Тул увидел и изобразил их город как надо: акцент, отношение к
жизни, убожество, доброту сердца, странное переплетение нелепого и невыразимо
печального. А героев книги узнавали повсюду.
По всей стране прокатилась волна хохота и похвал.
Джон Кеннеди Тул по всем статьям был человеком совершенно симпатичным. А кроме
того, если верить стандартному тесту на коэффициент интеллекта, — гением. По
крайней мере, на этом настаивала его мать. С другой стороны, она много на чем
настаивала. Например, на том, что при рождении он был так же красив и смышлен,
как полугодовалый младенец, и каждая нянечка родового отделения больницы Туро
считала своим долгом зайти в палату и поздравить мамашу с этим поразительным
фактом. Когда сын подрос, она объявила его вундеркиндом. Гордость ее никогда не
сдерживалась никакой реальностью. Отчасти это можно понять. Когда он родился,
ей было тридцать семь, и врачи уверяли, что детей у нее никогда не будет. А муж
Джон Тул ее ожиданий не оправдал. Он торговал автомобилями, да и на этом много
не зарабатывал. Сын стал для нее светочем всей жизни.
Он с блеском учился в 14-й начальной школе Макдоноу
и в средней школе Фортье (тогда считавшейся одной из лучших в городе), завоевал
четырехлетний стипендиат в университете Тулэйна. Закончил его с ключиком
братства «Фи-Бета-Каппа» по специальности английский язык, намереваясь стать
писателем, и отправился за магистерской степенью в университет Колумбия по
стипендиату Вудро Уилсона.
Тул был не просто умен — он был забавен,
прирожденный мимик. Он вел колонку юмора в школьной газете и рисовал карикатуры
для «Тулэйнского Хулабалу». И вместе с тем был одиночкой. Джон Гайзер, знавший
его еще по яслям и детскому садику, писал в «Хулабалу» заголовки. Он Кена Тула
никогда в газете не видел — ни разу. Очевидно, Тул просто оставлял в редакции
свои карикатуры и уходил. Спортом он не занимался, что приводило в восторг
мать, считавшую, что занятия спортом его недостойны, и разочаровывало отца, который
в спорт очень верил. Тулы не были склонны к светской жизни — Тельма Тул во
всеуслышанье объявляла, что считает такого рода деятельность пустой тратой
времени. К тому же, вероятно, Тулы попросту не могли позволить себе вести
светскую жизнь. Миссис Тул давала частные уроки красноречия и дикции, пока это
было модно, однако к началу 1960-х годов уже мало кого интересовало должное
произношение и манера выражать мысли, поэтому ее работа зачахла.
«Миссис Тул говорила на "королевском
английском", — вспоминает Имельда Рульман, воспитательница ее сына в
детском саду. — Звучало так: Мы. Пойдем. В магазин. Каждое слово отдельно. Так
и надо говорить, а не жевать слова и глотать окончания. Стыд, да и только».
Разница между дикцией матери и окружавших ее людей и
стала материалом для «Сговора». Как и вечерняя работа самого автора после школы
— чтобы принести в дом немного больше денег, он торговал горячими сосисками на
стадионе Тулэйна. Игнациус Ж. Райлли тоже продавал сосиски. Тул работал на
трикотажной фабрике братьев Хаспел; вымышленный Игнациус Райлли получил место
на фабрике штанов.
Всю свою жизнь Тул прожил с родителями поблизости от
школ, которые посещал. Они снимали квартиру на улице Вебстер, когда он был
приготовишкой, переехали на улицу Сикамор, когда пошел в Фортье, и на Одюбон,
когда поступил в Тулэйн. Он оставил дом, лишь когда пришла пора ехать в
Колумбию.

В Тулэйне он познакомился с Рут Лафранц и влюбился в
нее — сокурсницу, казавшуюся такой же талантливой, как и он сам. Она тоже
поступила в Колумбию, и они вместе исследовали Нью-Йорк. Он выполнил все
необходимые для получения степени требования за год, ей потребовалось два. Он
оставался рядом — преподавал в колледже Хантер на Манхэттене. Хантер был
женским колледжем, и все студентки в нем были примерно одинаковы —
интеллектуалки, еврейки, либералки. Каждая имела в жизни цель — или искала ее.
Тула это развлекало. «Всякий раз, когда в Хантере открывается дверь лифта, в
тебя упираются двадцать пар горящих глаз, двадцать чёлок и все ждут, когда
кто-нибудь толкнет негра», — говорил он.
Таким образом подготовилась сцена для пламенной
Мирны Минкофф из Бронкса, подружки Игнациуса Райлли. Год спустя, когда Рут
вернулась в Новый Орлеан, Тул нашел себе работу в университете Юго-Западной
Луизианы в Лафайетте. Там-то он и отыскал человека, чьи странности позднее
привил Игнациусу Райлли. То был преподаватель английского языка Бобби Бёрн. На
десять лет старше Тула — но у них нашлось много общего. Бёрн тоже был
урожденным новоорлеанцем, ходил в ту же 14-ю школу и университет Тулэйна. У
Бёрна и Игнациуса Райлли тоже много общего. Бёрн — человек крупный, и тоже не
задумывается, чтобы выглядеть модно. «Я ношу то, что удобно, — говорит он. —
Могу надеть зеленую рубашку и красные штаны, мне все равно».
Когда Тул с ним познакомился, Бёрн носил шапочку с
козырьком и наушниками — вроде той, которую незавидно прославил Игнациус. Но,
как вспоминает Бёрн, его шапочка была красной, а не зеленой. «На самом деле,
это была просто шапочка от дождя со стеганой подкладкой, — рассказывает он. — И
я носил ее, лишь когда шел дождь. А Кен считал, что это потрясающе смешно».
«Он присваивал то, что я говорил. Я мог сказать о
ком-то, что он смешивает свою теологию с геометрией. А потом это попало в
книгу». И, как Игнациус, Бёрн негодовал по поводу безвкусицы в кино и играл на
лютне.
Но, разумеется, Бёрн сам зарабатывал себе на жизнь.
Почти двадцать семь лет он преподавал английский в университете Юго-Западной
Луизианы, пока не вышел на пенсию в 1985 году. Он — подлинный интеллектуал, а
не паяц-пустолов. И, по иронии судьбы, Бёрн был одним из тех, к кому Тул
обратится в последние мучительные недели своей жизни.

В 1961 году у здоровых молодых людей выбор был
невелик. Если их призывали на военную службу, они шли в армию — или нарушали
закон. После года преподавания в университете Тула призвали. Он отправился
служить; к этому времени их роман с Рут закончился. Рут вышла замуж за другого
человека, а Тул поехал в Пуэрто-Рико, где получил задание — преподавать
английский как второй язык говорившим только по-испански новобранцам. Ему
удалось выбить себе частную квартиру, и в свободное время он писал книгу.
Рукопись отправил в издательство «Саймон энд Шустер» и получил ободряющий ответ
от редактора по имени Роберт Готтлиб: тот предлагал лишь несколько поправок. Закончив
службу, Тул вернулся к родителям и устроился учителем в Доминиканский колледж
Святой Марии в нескольких кварталах от дома. Он считал дни до публикации книги.
Однако Готтлиб требовал одну поправку за другой, затем еще и еще, и в конце
концов объявил, что вообще не видит смысла в публикации романа. Тул был в
отчаянии.
Еще в шестнадцать он все лето потратил на свой
первый роман «Неоновая Библия». Подал его на литературный конкурс и проиграл.
Тул, как и многие, к кому легко приходит успех, очень тяжело воспринял
поражение. Он убрал книгу подальше с глаз и никогда никому не показывал.
И вот теперь второй его роман, тот, что начнет его
блистательную литературную карьеру, сначала безжалостно препарируется, а затем
и отвергается вовсе. Другого издателя книге он уже не искал, не искал и агента.
Засунул рукопись на старый гардероб в спальне. Можно обо всем этом забыть и
начать работу над докторской диссертацией.
Как и везде, у доминиканцев коллеги его любили.
Монахиня, работавшая с ним в то время, вспоминает его как человека любезного и
остроумного, неизменно чарующего, всегда джентльмена. «Но ирония его — а он был
очень насмешлив, — обычно не доходила до студенток. Особенно до первокурсниц.
Они его просто не понимали. Одна даже спросила меня, уж не коммунист ли он». Он
намеренно держался отчужденно с теми, кому преподавал, — тактика мудрая для
молодого человека, преподающего девушкам моложе себя, — и тем не менее, бывал с
ними весьма учтив.

Анне Миллер было лет 18-19, когда она училась у него
в классе. «Он был так тих и педантичен, всегда при галстуке и в пиджаке. Когда
я много лет спустя прочла его книгу, меня поразило, что она такая смешная. Мы
его с такой стороны совсем не знали».
Он вообще многое держал в себе. Тельма Тул позднее
объяснит депрессию и самоубийство сына отказом печатать его книгу. Однако Тул
задолго до смерти переживал симптомы душевного заболевания, которое и стало, в
конечном итоге, причиной самоубийства. Он думал, что его преследуют. Люди
шпионили за ним, сговаривались против него, даже читали его мысли с помощью
электроники.
Доверялся он всего нескольким друзьям; ездил в
Лафайетт поговорить с Бобби Бёрном. Бёрн уверял его, что все это фантазии. «Он
был параноиком. При разговорах присутствовал мой младший брат, и нас обоих
шокировало то, что он говорил. Я убеждал его уехать из дома. Нехорошо — жить с
двумя пожилыми людьми. Это его угнетало».
Разумеется, жизнь дома и отказ печатать книгу не
улучшали душевного состояния. Однако любой психолог мог бы рассказать Тулу, что
его симптомы соответствуют как параноидной шизофрении, так и маниакальной
депрессии — а оба эти заболевания возникают от химического дисбаланса в мозгу,
а вовсе не от плохих поворотов судьбы. Бёрн вспоминает, что Тул в самом деле
записывался на прием к психоаналитику, но не знает, поставили ему диагноз или
нет.
В январе Тул неожиданно уволился из Доминиканского
колледжа. Сел в машину и уехал из дома, отчаянно пытаясь убежать от своих
воображаемых преследователей. С родителями он не попрощался. Тельма Тул
обезумела. Через несколько дней она получила письмо, в котором говорилось, что
он гостит у друзей в Лафайетте. Очевидно, так оно и было, но после этого он
домой не вернулся. Почти два месяца ездил по стране. Затем остановил машину под
Билокси, Миссисипи, протянул шланг от выхлопной трубы в кабину, лег на заднее
сиденье и позволил своей жизни закончиться.
Тельма Тул заперлась от всего мира на два года.
Потом сложила в папку рукопись — или то, что Уокер Перси назвал «cмазанной и
едва читаемой машинописной копией» — и начала предлагать ее всем издателям,
кого только могла вспомнить. Все возвращали рукопись обратно.
уж умер. Она сломала руку, много месяцев провела в
больницах и доме призрения. Наконец, переехала в нищенский сборный домик брата
на авеню Елисейские Поля — вместе со своим роялем и рукописью. И продолжала
рассылать ее издателям.
И потом — счастливый конец. Через одиннадцать лет
после смерти сына он случился — этот иронический поворот судьбы, который
понравился бы самому автору. Тельма Тул навязала рукопись романисту Уокеру
Перси. Она так настаивала, что тот не сумел отказать вежливо, а грубить леди не
мог — ведь он был южанин. Перси прочел книгу, пришел в восторг и убедил
издательство Луизианского университета ее опубликовать. Остальное — история.
ель была достигнута. Тельма Тул могла успокоиться.
Она и успокоилась — ненадолго. А затем принялась без устали пропагандировать
книгу, нимало не смущаясь тем, что передвигаться теперь могла лишь с помощью
ходунков.
Через некоторое время она смахнула пыль и с
«Неоновой Библии», заговорила о публикации, но потом передумала. Бессмертие
сыну уже обеспечено. К чему рисковать и пятнать его имя тем, что он впопыхах
настрочил еще подростком? Кроме того, она оказалась не единственной наследницей
собственного сына. По законам штата Луизиана, брат ее мужа и его дети также
оказывались совладельцами рукописи. Они отказались от своих прав на «Сговор
остолопов», когда тот был еще машинописной копией, напечатанной под копирку.
Однако такой ошибки они больше не совершат. Загребут половину авторского гонорара
— после всех ее трудов. Так вот, Тельма Тул не отдаст им больше ни цента. И на
публикацию было наложено вето.
Когда она умерла в 1984 году в возрасте 82 лет,
кончина ее попала на первую страницу «Таймз-Пикайюн». Смерть сына в 1969-м
удостоилась трех абзацев на странице 12.
В завещании она недвусмысленно запретила публикацию
«Неоновой Библии». Однако другие наследники его оспорили и, в конечном итоге,
одержали верх. Так плоды труда 16-летнего Джона Кеннеди Тула стали книгой.
Замечательной книгой. Не получившей Пулитцеровской премии, но намного
превосходящей все, чего можно ожидать от 16-летнего подростка — и даже от
человека гораздо старше.
А Тельма Тул в очередной раз доказала свою правоту.
Сын ее, как она постоянно твердила, был гением.
«Нью-Орлинз Мэгэзин», май 1993 г.

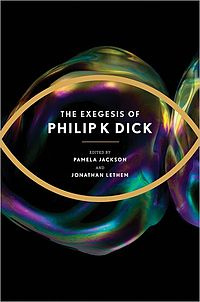 непросто: к примеру, он как-то написал письмо в ФБР, заявляя, что Станислав Лем — это несколько человек, и все коммунистические агенты. За полгода до этого, весной 1974 года он пережил операцию на челюсти. Он сидел дома и ждал курьера из аптеки с болеутоляющим. Когда в дверь позвонили, открыл и увидел девочку с крафтовым пакетом. У девочки на шее был кулон в виде золотой рыбки. Дик взглянул на кулон и мнговенно испытал Высший Смысл — это Бог, он же "Зебра", он же "Всеохватная Активная Живая Система Разума" (все эти имена Дик нашел потом). Опыт знакомства с этой штукой продолжался март и апрель. С тех пор Филип Дик не мог успокоиться, продолжая разгадывать и интерпретировать то, что он ощутил. На материале этого откровения он написал несколько романов. А еще каждый вечер он садился записывать свои религиозные и философские идеи — и писал всю ночь напролет, иногда по 150 страниц, от руки. За остаток его жизни получилось около 8 000 листов визионерского журнала. После смерти Дика его друг Пол Уиллиамз рассортировал весь этот ворох бумаг в 901 папку, где они до сих пор и пребывают, и хранил у себя в гараже. Все это так там и пылилось, безо всякой надежды на публикацию, пока не пришли молодые и безумные исследователи во главе с Джеем Кинни, которые совершили огромный труд — инвентаризовали и скопировали бумаги. Следующим поколениям уже было от чего отталкиваться, и вот, не так давно появился большой том под редакцией Памелы Джексонс и Джонатана Летема, очередных героев и фанатов, взявшихся расшифровывать и готовить "Экзегезу" к печати. Это наиболее полное издание на сегодня, но и там только одна десятая — 900 с лишним страниц, которые могут стать небывалым приключением для чьего-то еще сознания.
непросто: к примеру, он как-то написал письмо в ФБР, заявляя, что Станислав Лем — это несколько человек, и все коммунистические агенты. За полгода до этого, весной 1974 года он пережил операцию на челюсти. Он сидел дома и ждал курьера из аптеки с болеутоляющим. Когда в дверь позвонили, открыл и увидел девочку с крафтовым пакетом. У девочки на шее был кулон в виде золотой рыбки. Дик взглянул на кулон и мнговенно испытал Высший Смысл — это Бог, он же "Зебра", он же "Всеохватная Активная Живая Система Разума" (все эти имена Дик нашел потом). Опыт знакомства с этой штукой продолжался март и апрель. С тех пор Филип Дик не мог успокоиться, продолжая разгадывать и интерпретировать то, что он ощутил. На материале этого откровения он написал несколько романов. А еще каждый вечер он садился записывать свои религиозные и философские идеи — и писал всю ночь напролет, иногда по 150 страниц, от руки. За остаток его жизни получилось около 8 000 листов визионерского журнала. После смерти Дика его друг Пол Уиллиамз рассортировал весь этот ворох бумаг в 901 папку, где они до сих пор и пребывают, и хранил у себя в гараже. Все это так там и пылилось, безо всякой надежды на публикацию, пока не пришли молодые и безумные исследователи во главе с Джеем Кинни, которые совершили огромный труд — инвентаризовали и скопировали бумаги. Следующим поколениям уже было от чего отталкиваться, и вот, не так давно появился большой том под редакцией Памелы Джексонс и Джонатана Летема, очередных героев и фанатов, взявшихся расшифровывать и готовить "Экзегезу" к печати. Это наиболее полное издание на сегодня, но и там только одна десятая — 900 с лишним страниц, которые могут стать небывалым приключением для чьего-то еще сознания.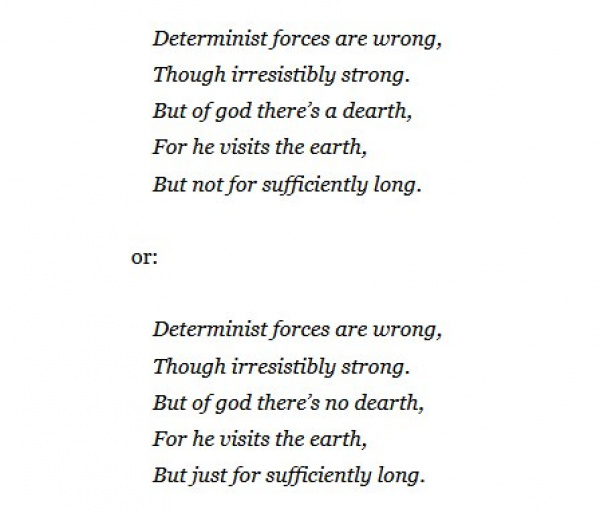















 Не буду томить: согласно результатам последних исследований, здоровье головного мозга и развитие различных его заболеваний во многом зависят от состояния миклофлоры нашего кишечника. Сегодня известно, что микроорганизмы, населяющие пищеварительный тракт человека, участвуют в самых разных физиологических процессах, включая функционирование иммунной системы, детоксикацию, воспалительные процессы, процесс производства нейромедиаторов и витаминов и еще кучу всего. А эти процессы влияют на возникновение у человека рака, СДВГ, астмы, аллергий, диабета, деменции, влияют на настроение и темперамент, либидо, метаболизм и многое другое.
Не буду томить: согласно результатам последних исследований, здоровье головного мозга и развитие различных его заболеваний во многом зависят от состояния миклофлоры нашего кишечника. Сегодня известно, что микроорганизмы, населяющие пищеварительный тракт человека, участвуют в самых разных физиологических процессах, включая функционирование иммунной системы, детоксикацию, воспалительные процессы, процесс производства нейромедиаторов и витаминов и еще кучу всего. А эти процессы влияют на возникновение у человека рака, СДВГ, астмы, аллергий, диабета, деменции, влияют на настроение и темперамент, либидо, метаболизм и многое другое. 



